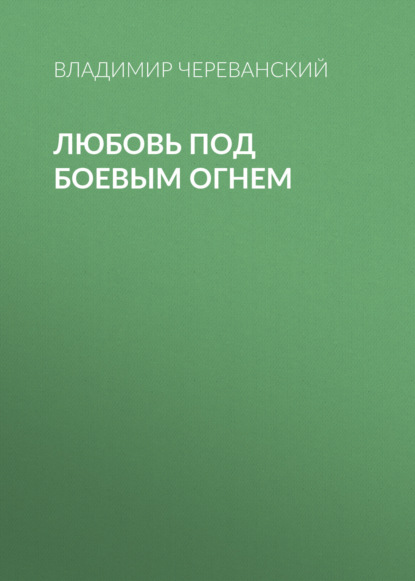 Полная версия
Полная версияЛюбовь под боевым огнем
Сообщения ее подтвердили вскоре сотни женщин, пробравшихся в пески так же свободно, как будто они перешли из аула отца в аул мужа. В войнах с Ираном таких порядков не бывало. Тогда победитель старался истребить все корни побежденного. На базарах Хорасана ильхани уступали тогда пленных теке – при удачном, разумеется, набеге – по два червонца за голову.
Мягкость гяуров поражала изнемогшие сердца. Заметив, что усталая толпа, разбитая физически и нравственно, готова склониться перед неотразимым ударом судьбы, сардар поставил крутой вопрос:
– Продолжать ли войну?
– Чем мы будем воевать? – послышались суждения в отдельных группах. – Инглези обманули. Где их слоны, которые должны были отрывать головы врагам? У нас нет ни пушек, ни пороха, клынчи наши притупились. Все сильные руки лежат в могилах.
Не успел, впрочем, народ поразмыслить над своим положением, как со стороны Голубого Холма показался гонец с восклицанием:
– Хабар, хабар!
При этом он потрясал в воздухе бумагой – посланием гёз-канлы, призывавшим текинский народ к покорности. Чтение бумаги поручили Адилю, предпочевшему участь беглеца участи благочестивого Суфи. Народ сдвинулся вокруг него вплотную и внимал ему, как внимал бы голосу, призывавшему к неведомой жизни.
– «Объявляю текинскому народу! – возвещал гёз-канлы. – Войска великого моего государя уничтожили крепость Геок-Тепе, которую вы почитали неприступной. Она никогда не будет больше служить вашим гнездом и вашей защитой. С ее падением всей стране Ахала остается предаться милосердию моего повелителя. Так и поступите. Он, милостивый, пощадит вашу жизнь и ваше достояние. Приходите в Асхабад узнать вашу судьбу, но знайте наперед, что тех, которые захотят сопротивляться, я сочту преступниками и буду истреблять их на каждом шагу».
Объявление это нанесло сардару решительный удар.
Народ всколебался. «Не достаточно ли человеку испытать и один раз в жизни силу адского огня?»
Пользуясь этим настроением, Софи-хан заявил, что он согласится скорее надеть себе веревку на шею и показаться с нею в стане гяуров, нежели повести вновь народ под змеиные бичи Яджуджей и Маджуджей.
– А вы, ханум, как полагаете? – спросил сардар, ставя таким образом свою судьбу в зависимость от приговора женщины.
– А я полагаю, что Софи-хан собака и что мы с тобою убежим в Мерв. Там найдутся люди, которым веревка на шее не составляет почетного украшения.
Не в первый раз Софи-хан переносил от жены кровные обиды. Предпочитая в таких случаях стоическое хладнокровие, он обычно отплевывался, если обида случалась наедине, а при людях ограничивался замечанием: «Ты помутилась в рассудке!»
Теперь же он поступил высокомернее.
– Наши предки говорили, что хитрость одной женщины может составить поклажу для сорока ослов! – провозгласил он, как человек, понимающий время и обстоятельства. – Кто хочет быть одним из этих сорока, тот пусть идет за моей женою, а мой путь лежит в Асхабад.
Все слабые духом – а в каком народе их нет? – сделались доверчивыми, как дети, и тоже обратились лицом к Асхабаду, как бы не желая попасть в число сорока ослов. Другие же, более откровенные, прямо заявили, что они начали бояться русских, а кого боятся, тому и кланяются.
Вокруг Софи-хана образовалось большинство, которое и поплелось за ним с понурыми головами и с угнетенным духом.
– Собака! – кричала ему вслед ханум. – Когда ты будешь стоять на коленях перед гёз-канлы с веревкой на шее, не забудь сказать ему, чтобы он затянул петлю покрепче, иначе ты продашь ее на виселицу для своих братьев!
Несмотря на физическую и нравственную усталость, сардар и ханум потребовали коней и заявили, что они не желают сдаваться русским и что у кого есть стыд, тот разделит их участь.
Увы, на этот призыв отозвались немногие. При сардаре осталась всего горсточка людей, которым расстаться с мыслью об аломанах было неприятнее, чем лишиться жизни. Эта горсточка направилась в пески, чтобы пробраться в Мерв.
Дерево растет веками, а от напора бури оно ложится на землю, для того чтобы уже никогда не подняться. Сигнал к падению подали жители Аннау. В мирное время им жилось тесно между Ираном и Теке.
«Мы день и ночь плакали и молили Аллаха, чтобы могущественная держава изволила пожаловать к стороне Ахала, – писали они победителю Теке. – Наконец вопли наши услышаны, и мы, несчастные, весьма этому обрадованы».
Старшины Кизыл-Арвата тоже не замедлили с ответом на приглашение победителя прийти к нему с покорностью.
«После низкого почтения, – писали они, – от нас русскому сардару слова следующие: против вас мы не имеем никакого враждебного намерения и считаем вас за самого старшего. Теперь, ага-джанарал, помилуй нас, и мы будем исполнять твои приказания. Приди и посмотри, как мы живем мирно и занимаемся своими обыкновенными делами».
Солоры и сарыки, как более знатные племена, писали более знатным слогом:
«Мы всегда были во вражде с теке и убивали их, сколько хотели. Таких храбрых людей, как мы, немного на свете, поэтому хан из Мешеда, шах из Серакса, шах Дарегеза и шах Кучанский предлагают нам землю, воду и свою дружбу. Но они шииты, и мы не желаем иметь их своими братьями. Вы же нам приятны. Если вы заключите с нами мир, то это будет всем хорошо. Кланяемся вам и молимся».
«Вы присланы сюда нашим победителем, – писали жители Гяурса, испытавшие на своих лучших людях свист змеиных бичей, посетившему их отрядному начальнику. – Наши люди были на защите Геок-Тепе и большая часть их там погибла. Непобедимое побеждено, и что же после того остается нам, оставшимся в живых? Поклониться победителю и просить у него прощения за наши прежние дела, что мы и делаем».
Мерв-Теке, находившееся еще далеко от победителя, писало с заносчивостью:
«Небезызвестно вам, джанарал, что войска Наср-эд-Дин-шаха были нами всегда побеждаемы, и много раз при встрече с нами они теряли пушки и имущество. Победив войска хивинского хана, мы самого Магомет-Эмин-хана убили. Мы всех побеждали. Если вы нас победите, будет вам хорошо, если же мы победим, будет вам большой убыток. Помиритесь с нами, и тогда обе стороны будут в порядке и удовольствии».
Несмотря, однако, на вызывающий тон, Мерв отказался от предложения сардара образовать новую защиту. Набрав здесь в сторонники не более двух тысяч человек, он решил, что с такой горстью людей война невозможна.
Ему оставалось покориться, хотя бы строгая ханум обозвала его собакой.
«Доношу вам, генерал, – писал он командующему после своей неудачи в Мерве, – что когда я бежал из Ахала, то на пути получил письмо, в котором сказано: «Не бойся явиться к великому генералу, он забыл все твои грехи». Поэтому, надеясь на милость Белого царя, я прошу вас, генерал, оставить мне жизнь, лошадь и оружие. Вашу же лошадь я посылаю вам в подарок».
То была боевая лошадь Скобелева Шейново, пользовавшаяся в плену большим почетом.
– Шейново привели! Шейново привели! – раздалось наконец в Асхабаде. – Тыкма сдался, конец войне!
Да, бывший сардар явился в приниженном виде. У ног победителя он положил свой клынч, который был тут же ему возвращен с объявлением от имени Белого царя прощения и забвения всего прошлого.
XXXIНесомненное окончание войны выразилось в поспешном выступлении туркестанского отряда обратно через убийственную песчаную пустыню на север, вдаль, за Амударью. Путь предстоял более тяжелый, нежели при передвижении в Теке. Тогда верблюды были свежие, здоровые, а теперь пришлось довольствоваться отощавшими от голода и непосильного труда. Между тем всякое промедление угрожало новыми опасными осложнениями. По весне пески испаряют всю влагу и обращаются в Адам-Крылганы, в долины гибнущих людей.
Не далее третьего перехода верблюды начали падать угрожающим образом, но отрядом командовал тот же туркестанец Куропаткин. Он не задумался бросить в песках все, не исключая офицерского багажа, в чем не видел пользы для отряда, и пошел далее и далее. Воды и еще немножко воды – вот все, что ему было нужно.
– Призвать текинцев и поручить им за хорошую плату собрать брошенное имущество и доставить его сюда, – посоветовал Можайский на заданный ему вопрос, как быть с туркестанским багажом.
Совет его приняли с недоверием.
– Только без конвоя и опеки, – добавил он, – иначе я не ручаюсь за успех дела. Положитесь на честность побежденного врага.
– На честность теке – этих разбойников и грабителей? – вопил бранный воевода.
– Ну да, да, этих разбойников, по вашему мнению, и грабителей… не вкусивших еще благ нашей цивилизации. Доверьтесь им, как бы вы доверились лучшим из ваших друзей.
Бранный воевода уступил с ехидным предвидением, что разбойники разворуют весь багаж до последней нитки. Его предвидение не сбылось. Теке со священным уважением к оказанному им доверию доставили из песков не только все ценное, но и все негодные обрывки и обноски.
Вслед за уходом туркестанцев наступило упразднение вообще боевой организации закаспийского отряда и расформирование полевых управлений.
Охотнее всех Можайский принял меры, чтобы повернуть как можно скорее к морю, а там и за море – к родному, вероятно, пепелищу. Накануне выступления из оазиса Узелков порадовал дядю подарком – экземпляром Библии на английском языке с инициалами на переплете «Ж. С».
– Она найдена при одном из убитых, – пояснил он, – и служит несомненным доказательством, что здесь были англичане.
– Весьма возможно, – подтвердил Борис Сергеевич, – а впрочем, на свете так много случайностей. В кибитке сардара, например, нашли векселя московской чайной фирмы и рецепт Пирогова. Во всяком случае, я очень благодарен за твое любезное внимание… И если тебе нравится мой бинокль…
– Помилуй, дядя!
– И кавказская бурка?
– За такую-то малость?
Перелистывая Библию, Борис Сергеевич пробегал алчными глазами встречавшиеся на ее полях заметки. Почерк их принадлежал Ирине.
Запрятав Библию в сокровенный портфель, хранивший также и дневник Ирины, Борис Сергеевич не расставался с ним ни на суше, ни на море. Злые языки могли придумывать на этот счет какие им угодно побасенки.
На одном из переходов он догнал взвод солдат, медленно подвигавшийся с тяжело раненным графом Беркутовым. При взводе шел доктор. Кныш вел коня.
– Не могу ли я служить раненому своим экипажем? – спросил он у доктора.
– Нет, в экипаже ему не прожить и часа, а на носилках протянем до Самурского.
– А дальше?
– Неизбежная смерть. В ране у него образовалась пробка, а из-за нее – заражение крови. Впрочем, он и не желает выздоровления.
– Можно с ним говорить?
– Без всякого опасения. Угасая с каждым мгновением, весьма возможно, что он зацепится за что-нибудь земное.
Потухавший взгляд умиравшего едва-едва распознал хорошо знакомые черты Можайского.
– Ах, как я рад встрече с вами! – выговорил он через силу. – Друзья мои, остановитесь!
Взвод бережно опустил носилки и отошел в сторону.
– Доктор, мне можно стаканчик?
По знаку доктора Кныш подал вино.
– За русскую женщину! – провозгласил граф, поддерживая с трудом поданный ему стакан. – Вы знаете за кого? За Ирину!
Странный был этот тост – в туркменской степи, под открытым небом, перед лицом смерти – за русскую женщину!
– При свидании передайте ей мое последнее прости, но не говорите, что я искал смерти. Она не терпела бравад. Впрочем, все Беркутовы умирают еще со времен Екатерины из-за женщин. К сожалению, Ирина меня не поняла и думала, что я ценил женщину только как приятную игрушку. Впрочем, я таким и был, но под ее же влиянием переродился. Она не заметила этого перерождения, и вот я умираю с одним желанием – обелить себя перед нею. Другого завещания у меня нет. Вы хороший, вы исполните мою просьбу и дайте мне… нет, ничего… знаю, вы тоже любили, но… ах… прощай…
– Одною светлой личностью стало меньше! – объявил доктор. – Ребята, – обратился он ко взводу, – ваш полковник скончался.
Старший подал знак на молитву. Она была коротка:
– Сподоби его, Господи, взойти в селение праведных!
Вот и все напутствие, каким помянул взвод своего любимого полковника. Подняв по-прежнему бережливо носилки с не остывшим еще трупом, печальный кортеж двинулся далее по дороге в Самурское.
XXXIIПредстояло решить, куда же далее, в Крым или на Волгу? Выбор зависел от телеграммы, которую Можайский ожидал от Ирины. На полпути, однако, ему пришлось остановиться, так как по всем линиям военных сообщений разнеслась странная весть, будто командующий намерен продолжать экспедицию. Останавливая следовавшие к морю войска и транспорты, этапные начальники сообщали по секрету, что Михаил Дмитриевич двинулся с летучим отрядом, но куда двинулся – никто не знал.
«В Люфтабад? – мелькнуло в уме Можайского, вспомнившего беседу с Михаилом Дмитриевичем на другой день после штурма. – Но неужели он решится броситься на свой страх – и куда же? В Герат! За такую авантюру не погладят по головке».
О Люфтабаде имелись в отряде слабые представления. Говорили, что это гнездо азиатского сброда, приютившееся в стороне от дороги между Ахала и Мервом. Говорили также, что из него можно выйти на дорогу к Герату, где в ту пору шла междоусобица между Абдурахман-ханом и претендентом на кабульский престол Эюб-ханом.
В действительности Люфтабад принадлежал Аллаху, а после него персидскому сборщику податей. Население его было смешанное: из шиитов и суннитов, из номадов и горожан. Ежегодно с наступлением времени, когда у этой общины подозревалось накопление пшеницы и баранов, персидские ильхани вспоминали о Люфтабаде как о части дорогого отечества и являлись к добрым согражданам за сбором танапа, хераджа и зякета.
В этом году Люфтабад давно уже откупился от попечения начальства, между тем Сеид-Али-хан примчался вторично и притом с поспешностью, совершенно несвойственной персидскому чиноначалию. Впрочем, в ту пору весь север благословенной страны находился в возбужденном состоянии. Тому была причиной весть о разгроме Геок-Тепе, пронесшаяся по оазису и по вершинам Копетдага, Кызилдага и Зыркана как бы на крыльях тучи или при дуновении урагана.
Сеид-Али-хан предупредил прибытие русского отряда всего несколькими часами. Приезд его никогда не радовал жителей Люфтабада, поэтому они не без ехидства приготовили подходившему к городской стене «знаменитому русскому полководцу» торжественную встречу. Старейшины встретили последнего сердечным приветствием и сладким дастарханом.
– Мы, жители – старые и молодые, кази, ходжи, муллы и все прочие – слышали, что вы к нам пожалуете, – приветствовал старейшина Люфтабада знаменитого русского полководца. – Обрадовавшись и возгордившись, мы выходим к вам навстречу, и все мы – кази, ходжи, муллы и старшины – подтверждаем, как мы довольны и благодарны.
При приеме дружественной депутации острый взгляд командующего выискал в ее среде человека с весьма двусмысленной наружностью.
– Заметьте эту подлую морду, – обратился он к стоявшему неподалеку ординарцу, – морду, которая так низко кланяется. Видите? Типичнейшие черты шпиона! Устройте через наших молодцов, чтобы он побывал у меня для маленького разговора.
В какой-нибудь час под стенами Люфтабада выстроились правильные ряды палаток и коновязей. Четыре орудия смотрели на город довольно игриво.
Первым гостем командующего – и не совсем добровольным – был субъект с типическими чертами шпиона.
– Где я тебя видел? – спросил командующий своего смущенного гостя. – Говоришь ли ты по-русски?
– Понимаем мало-мало… насколько в торговле нужно.
– Откуда ты родом?
– Из Тифлиса.
– Твоя фамилия?
– Тер-Грегорянц.
Якуб-баю все фамилии, кроме его собственной, были одинаково хороши. После погрома Геок-Тепе ему было не расчет оставаться по ту сторону Копетдага, поэтому он пробрался на нейтральную землю.
– Ты шпион?
– Ваше высоко… превосходительство! – возопил Тер-Грегорянц, почувствовавший мгновенно озноб во всем позвоночном столбе. – Наши папенька… наши маменька… и сами мы с малых лет торгуем шелком, и неужели же мы решимся на такое, можно сказать, паскудное дело?
– Ты с кем тут шляешься, с О’Донованом?
– Ваше высоко… превосходительство!..
– Ты будешь повешен, как только я увижу, что следишь за мной. С этой минуты ты состоишь у меня на службе. В Тегеран ты будешь сообщать только то, что я прикажу, иначе…
– Ваше!..
– Где теперь хан Дарегеза?
– Хан находится в двух шагах от вашей палатки.
– Что он делает?
– Он записывает тех, кто вам кланялся, и рассчитывает, во что оценить каждую за это палку.
– Почему он не встретил меня?
– Из боязни, чтобы народ не считал его маленьким человеком. Впрочем, утром его палатка будет рядом с вашей.
Действительно, утром правитель Дарегеза поставил свой шатер возле палатки командующего и просил позволения у «знаменитого полководца» явиться к нему с приветствием.
Свидание состоялось.
Правитель Дарегеза, величественно окутавшийся в халат с собольей опушкой, выглядел истинным вельможей. Лев с солнцем на спине, красовавшийся на высокой барашковой шапке, грозил всему миру высоко поднятой саблей. Да, никто не умеет держать так гордо головы на плечах, как ильхани Ирана…
Много было высказано при свидании приязни и уверений во взаимной дружбе. Враги одного были объявлены врагами обоих, а в залог общего согласия и вечного мира запасная лошадь командующего добровольно перешла к коновязи ильхани. На указательном же пальце ильхани появился новый перстень с необыкновенной бирюзой.
Разумеется, сердечные чувства нисколько не повредили ни долгу службы, ни патриотизму правителя Дарегеза. После свидания со знаменитым полководцем он отправил феррашей с палками по всему Люфтабаду. Вместе с тем он послал нарочного с донесением к Сапих-салар-азаму, в котором после витиеватого вступления сообщал, что:
«Знаменитый русский полководец, уничтожив гнусное разбойничье гнездо Теке, явился к вашему слуге с почтительной о том вестью, причем его отборное войско преклонило перед вашим слугой три тысячи своих копий. Жерла его тридцати орудий припали также к стопам вашего слуги. Но этот почет нисколько не ослабил твердыни его долга, и он спросил: «Долго ли вы, генерал, намерены прожить в благословенной стране Ирана?» По высокому своему образованию он ответил стихом из Шах-Наме: «Смертный, можешь ли ты, вдыхая аромат Ирана и согреваясь лучами его солнца, быть властителем своих дум?»
Увы! Сапих-салар-азам был человеком малосведущим в «книге царей» и хотя слышал о Фирдоуси, но в депеше правителя Дарегеза его более всего заинтересовали три тысячи копий и тридцать пушечных жерл.
Обратный курьер доставил Сеид-Али-хану наставление, как ему следует обходиться со знаменитым полководцем.
– Наш город маленький, хлеба у нас немного, – заявил Сеид-Али-хан своему новому другу. – Если вы, генерал, намерены долго у нас гостить, то у нас наступит страшный голод.
– Хлеб мы едим свой, – ответил командующий, – а когда в вашем городе недостанет хлеба, мы подвезем его из Ахала и будем раздавать его даром всему вашему народу.
Здесь правитель Дарегеза быстро переменил фронт своей политики и заявил, что хлеба у него тоже много, что ему ничего не стоит подарить своему другу тысячу харваров ячменя.
– Не следует только раздавать народу даровой хлеб, потому что он тогда забудет Бога.
Прошла еще неделя. Из глубины Ирана примчался новый гонец с новыми наставлениями.
– Наши люди очень волнуются, – объявил тогда правитель Дарегеза своему высокому гостю, – и мы боимся, что они сделают вам что-нибудь неприятное.
– О, не беспокойтесь, почтенный ильхани, я настороже и сегодня же прикажу навести пушки на базарную площадь Люфтабада.
Ильхани испугался. Перед ним был тот гёз-канлы, перед которым все воинственное Теке обратилось в прах и развалины. Желая успокоить рассерженного гостя, он принялся уверять, что обыватели Люфтабада трусы и что достаточно послать в город десять феррашей с палками, и они уймутся.
По совести говоря, канцелярии Ирана не сразу решили, что им приятнее – беспокойный ли нрав Теке или строгий порядок, наступивший после разгрома Геок-Тепе. Что же касается правителей хорасанских провинций – наследственных и ненаследственных, – то они предпочли бы остаться в соседстве с головорезами. Правда, эти соседи разоряли пограничные села и брали, чем могли, контрибуцию, но наносимые ими раны выпадали на долю исключительно населения, а не таких особ, как Рукн-уд-доуле. Последний очень сожалел о том, что клоповник, в котором он содержал пленных теке, опустеет и что в минуту пьяной потехи ему некого будет рубить шашкой по башке.
XXXIIIНе успел Сапих-салар-азам решить головоломный вопрос о числе дипломов на «Льва и Солнца», следовавших победителям Теке, разумеется, для их облагораживания, как эти победители явились незваными гостями у стен Люфтабада. С выдачей дипломов пришлось повременить. Три тысячи копий и тридцать пушек предстали перед умственным взором дипломата в неприятной перспективе.
«И только такой глупый человек, как Сеид-Али-хан, мог обрадоваться, что они склонились к его стопам… Да и склонились ли?»
Из Дарегеза шли гонец за гонцом. Но все их известия были неясные, противоречивые. Утренний вестник докладывал, что русский отряд сел на лошадей и вытянулся по дороге к Герату, а вечерний чапар доносил, что отряд возвратился, слез с коней и варит кашу.
Нужно было разобраться в этой путанице сомнений и догадок. На улице Кучей-ла-Лезар никогда не отказывали дать хороший совет, когда нужно было поставить улицу Кучей-черак-газ в затруднительное положение.
После десятого гонца, повторившего еще раз, что друзья возвратились под стены Люфтабада и принялись варить кашу, сапихсалар-азам отправился на прогулку переулочками, без свиты, как простой человек, желающий продать горсточку дешевой бирюзы.
В это время сэр Томсон только что получил европейскую почту. В сумке экстренного курьера нашелся конверт особой важности с печатью министра по делам колоний.
Министр писал:
«Сэр, вам известно, что между границами русского влияние в Средней Азии и нашими индийскими владениями весь путь легко делится на три этапа: Теке, Герат и Кандагар. Я не говорю о Памире, мы займемся им в свое время. Кандагар состоит в полувассальных к нам отношениях. Распоряжаясь свободно его укреплениями и телеграфом, мы можем построить к нему железную дорогу. Россия, постигая, очевидно, наше намерение, собралась ответить нам занятием Теке. Испытанная русским отрядом неудача в прошлом году не остановит победоносное движение вперед так называемого – на языке петербургского кабинета – исторического рока. Теке будет сопротивляться, но с силой его сопротивления соразмерится и сила удара, Теке падет! В этом событии не заблуждаются и академик по среднеазиатским делам Арминий Уомбери, и наш исследователь сэр Роулинсон. Ни та слабая нравственная поддержка, которую мы можем оказать из Хорасана, ни двоедушие хорасанских властей не уберегут твердыни – сегодня Ахала, а завтра Мерва – от русского погрома. Ход событий сократит, таким образом, путь между Индией и Россией на два этапа: от Кандагара к Герату и от Герата к Мерву. Отсюда ясно: кто первый овладеет Гератом, тот будет иметь хороший ключ к замку соседа.
Обращаем ваше испытанное внимание к положению этой маленькой азиатской республики. Благодаря междуцарствию в Афганистане мы можем влиять в данную минуту на ее судьбы без помехи и затруднений. Отделенный в 1857 году от Персии Герат – если не спрашивать мнение его жителей – может быть возвращен нами прежнему хозяину хотя бы в виде подарка с некоторыми за то обязательствами со стороны тегеранского кабинета. При полной солидарности с мнением сэра Роулинсона министерство начертало с этой целью следующую программу новых отношений Герата к Ирану. В Герате мы поставим своего резидента. Укрепления его поступят в распоряжение наших офицеров. Мы выговорим себе право посылать в помощь ему войска на время всякой опасности. Иностранные агенты будут считаться шпионами. Само собой разумеется, что тегеранский кабинет будет против торгового с нами договора на правах более благоприятствуемого государства, но непреодолимого не существует, поэтому поручаю вам…»
Здесь сэр Томсон был отвлечен от чтения депеши тем, что мимо его окон промелькнула знакомая фигура сапихсалар-азама.
Условные звонки дали знать всей резиденции о желании главы принять таинственного гостя.
«Британия может гордиться министерской программой, – размышлял в ожидании гостя сэр Томсон. – Но сэр Роулинсон и министр по делам Индии ошибаются, полагая, в этом деле достаточно одной Англии и немножко Персии. Не следует в таких случаях забывать Петербург и его агентов…»
Сапих-салар-азам, встревоженный вестями из Люфтабада, хитрил при встрече с сэром Томсоном меньше, чем сделал бы это в другое время. Почти с первых же слов он сообщил, что покоритель Теке привел с собой в Люфтабад шесть тысяч казаков, пятьдесят орудий и бесконечный караван верблюдов.

