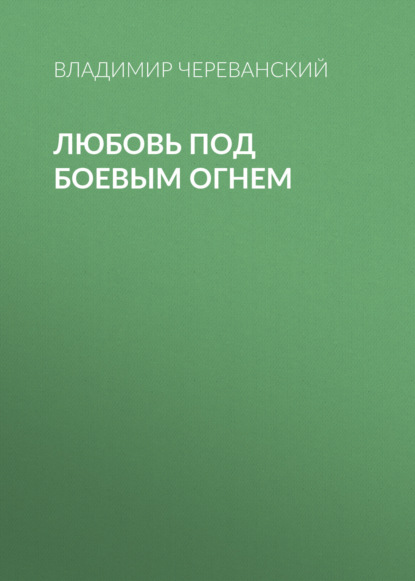 Полная версия
Полная версияЛюбовь под боевым огнем
Заработав пятками во время осады сотню рублей, Иованеска открыл теперь духан, в котором свободно разменивал свертки ковров и узлы с серебром на рюмки и стаканы алкоголя. Только за верблюда, нагруженного разным добром, он платил монету с прибавкой бутылки кахетинского хереса.
– Командующий приказал снять часовых и не препятствовать семействам текинцев пробираться в степь, – сообщил Можайскому кто-то из встретившегося общества.
– А персидскому агенту разрешено отобрать рабынь-персиянок и отправить их на родину.
Известия эти всполошили весь душевный мир Бориса Сергеевича. Что предпринять Ирине? Бежать? Явиться в лагерь?
Под предлогом усталости он повернул к себе, не обращая внимания на новые для него картины лагерного обихода после разгрома крепости. Здесь казак шил дратвой из ценного ковра переметные сумы; там фейерверкер чистил пушку половиной ценного бархатного халата. Ради смазки сапог апшеронец влез в бочонок с маслом.
Кузьма вздел серебряные браслеты с бирюзой. «По-санпитербурски», – заметил Дорофей. Впрочем, и у Дорофея очутилась в торбе женская шелковая рубашка.
Вещи утратили свою ценность. Домовитые приобретали связки серебряных женских уборов – узлами, на глазомер, по дикой оценке.
Приказав никого не впускать к себе, Можайский присел писать записку.
«Милостивая государыня…» – начал он на одном листе.
«Высокоуважаемая! – писал он на другом. – Сердечно…»
Наконец он нашел подходящее выражение.
«Дорогая Ирина! Сегодня разрешат текинским женщинам уходить из лагеря в степь. В песках ожидают их отцы, мужья, братья. Кроме того, персидскому агенту позволено выбрать рабынь-персиянок для пересылки на родину. Вам доступно скрыться обоими путями. Предпочтите первый, не поможет ли вам ханум? При ее помощи переход в Персию доступен в одни сутки. Да спасет вас Господь!»
Не успел Можайский запрятать записку в дневник Ирины, как в кибитку вторгнулся Узелков.
– Спасаюсь от трупного запаха, – объяснил он причину своего появления, – там у нас в крепости разит до того, что пища не идет в горло.
От усталости разговор не клеился. Выпив наскоро чаю, дядя и племянник решили лечь спать.
– Жандарм чуть не застрелил мародера, – передавал Яков Лаврентьевич, укладываясь на ворох соломы. – Завтра последний день дозволенного грабежа, и слава богу, а то люди выбились из повиновения.
Можайский уклонился в другую сторону:
– Интересно, были ли во время осады англичане в крепости или нет? Сведение это очень важно для моих исторических записок.
– Какие тут англичане! Взгляни завтра на склад текинского оружия и ты увидишь позор, а не шашки! Когда их показали командующему, он нашелся только сказать: «Какая мерзость!»
– Спи, неугомонный.
Неугомонный заснул. Что касается самого Можайского, то он всю ночь не смыкал глаз и первые утренние проблески встретил с большим нетерпением. Выбравшись на воздух, он пошел вдоль Великокняжеского ручья.
Ни лагерь, ни «бабья бригада» не успели еще войти в дневную колею, и только в одном углу крепости шла усиленная деятельность. Там жгли трупы. По недостатку горючего материала процесс этот оказался очень медленным, между тем следовало торопиться с уборкой мертвых тел, иначе тифозная гроза была неминуема.
Оставив аутодафе, Можайский отправился к обвалу на свою позицию, где его появление было сигналом для подъема «бригады». Непрерывная линия женщин и детей вновь потянулась в крепость, но уже не за добычей пищи и платья, а чтобы поголосить и поплакать в память покойников. С гребня стены открывалась картина, возбуждавшая дрожь и в загрубелом сердце. Здесь долго и молча крепились старухи, но стоило одной из них удариться в причитания, как вся толпа принималась надрываться в жалобах и рыданиях.
Надрывалась на этот раз и ханум, стоя на обвале лицом к крепостному кладбищу.
– У меня был любимый муж Нур-Берды-хан. Его Аллах призвал к себе в слуги. Была у меня нежно любимая внучка… цвет моего сердца и аромат моей души, но ангел Израфил поднял ее на свои черные крылья. Были у меня стада и земли, но какая теперь в них прелесть?
За плечами ханум стояла ее немая дочь, успевшая обменяться с Можайским едва заметным взглядом. Он попросил ее пройти к одной из ниш в крепостной стене, где, по-видимому, можно было избежать свидетелей. Здесь действительно никто не помешал ему передать этой загадочной текинке письмо и сверток персидских червонцев. Один только несносный Узелков едва-едва не обнаружил тайну своего дяди.
– Дядя, я опоздал по твоей же вине! – упрекал он, взбегая на обвал. – Кузьма меня не разбудил, взвода нет, я бегом…
И он пустился бегом в крепость.
Немая дочь ханум выждала минуту, когда могла без опасения обменяться несколькими словами с Можайским.
– Я ничего не сделала противного долгу человечества, – говорила она на всякий случай по-английски, – и могла бы даже открыться нашим властям, но во избежание глупых догадок я предпочитаю бежать…
– Ирина, если вы счастливо избегнете опасности…
– При помощи ханум это возможно.
– Помните, что вы мне дороги.
– И вы…
– Прощайте, на нас смотрят.
– До свидания… на рейде в Энзели… мой добрый, мой хороший.
Еще минута – и Узелков увидел бы, какими взглядами они попрощались, радостными, полными надежды.
– Взвод на месте и все благополучно, – рапортовал он дяде. – Сегодня оканчиваются «вольготные трое суток», и дисциплина войдет в свои права. Ах, дядя, обрати, пожалуйста, внимание на эту принцессу разбойничьего гнезда. Как она изящна и стройна даже в этом глупом буренджеке. Лицо мне не удалось видеть, но, разумеется, она скуластая, с прорезанными осокой глазами, да?
– Не знаю, не видел, да и какое мне дело? Не хочешь ли проводить меня к коменданту?
Временный комендант Верещагин принужден был закрыть глаза на трое суток и не видеть ничего, что творилось в печальные дни накипевшей злобы.
– Как комендант вы, конечно, знаете все достойное внимания в Геок-Тепе? – спросил, встретившись с ним, Можайский. – Объясните мне, из чего вышло у нас такое долгое сидение?
– Самого замечательного нет больше в крепости.
– Вы говорите о текинцах?
– Об их геройском духе! Он отлетел и, разумеется, навсегда. Взгляните на склад дреколья, образовавшийся у моей кибитки, под названием «склада отобранного у неприятеля оружия». В этом хламе вы увидите алебарды блаженной памяти опричников и крючки, которыми ловят баранов за ноги. Дух, один только дух неприятеля, привел нас к историческому сидению, а вовсе не его средства обороны и нападения…
Можайский нашел свою «бригаду» в большом волнении. Персидский агент, отбирая для отправки на родину персиянок, руководился не происхождением их, а одной красотой, поэтому женщины и девушки Теке, не желая попасть в гаремы шиитов, подняли вопли и бросились под защиту якши-аги.
Можайский нашел Зульфагар-хана возле кибитки ханум, которая вела с ним ожесточенный спор. Он требовал выдачи ему немой девушки, выкраденной, по его словам, из Хорасана.
– Я вцеплюсь в тебя зубами, – кричала ханум, – если ты вздумаешь взять мою дочь в гарем проклятого шиита! Взгляни на эту руку, видишь мои ногти? Хочешь ты предстать на суд Аллаха слепым? Изволь! Якши-ага! – завопила она, увидев Можайского. – Белый царь пощадил нашу жизнь! Для чего? Для того разве, чтобы подарить наших дочерей на утеху шиитам? Ага, скажи ему, что она моя дочь!
Ожесточению ханум не было пределов. Она принялась рвать на себе рубашку, царапать грудь и хвататься за нож.
– Успокойтесь, успокойтесь! Вашу дочь никто не посмеет взять, – объявил Можайский. – Россия завоевала Теке не для того, чтобы наполнить гаремы ваших ильхани красивыми девушками, – обратился он к Зульфагар-хану. – Здесь все скажут, что девушка, которую вы требуете, принадлежит к семейству теке. Если же вы будете настаивать на противном, то мы освидетельствуем весь ваш караван и посмотрим, действительно ли вы выбрали одних дочерей Ирана?
– Мне казалось, что она из нашего Курдистана, – оправдывался Зульфагар-хан, – но я готов отказаться и прошу вас только не верить, что дочерям суннитов неприятно делаться женами шиитов. Я уступаю, я отказываюсь!
Ханум успокоилась и просветлела…
XXVIIIО происшедшей размолвке с Зульфагар-ханом как с лицом, принадлежавшим к дипломатии, Можайский счел долгом приличия передать командующему войсками. Михаила Дмитриевича он нашел на площадке Красного Креста верхом и в видимом расположении пококетничать с окружавшим его миром. В последние дни. окуриваемый фимиамом из всех стран и сфер, он чувствовал себя на положении излюбленного кумира.
«Одна сестра Стрякова ведет себя с истинным достоинством, – подумал Можайский, окинув взглядом площадку Красного Креста. – Она разбирается в окровавленных бинтах, забывая, что возле нее гарцует герой. Все же прочие – и отрядный немец, и бранный воевода – благоговейно пожирают его особу. И он это видит, понимает!»
– Ваше превосходительство, – выступил Можайский с докладом в строгом стиле, – я имел объяснение с Зульфагар-ханом. Он выбирает из пленных семейств всех красивых девушек, несомненных текинок, и под предлогом их иранского происхождения отправляет в Персию. Такое безобразие…
– А вы, ваше превосходительство, полагаете, что это безобразие? – прервал его Михаил Дмитриевич не без легкого сарказма.
– Совершеннейшее безобразие! Россия освобождает рабов всюду, где она их находит. Эту миссию она выполнила в Туркестане, Фергане, Бухаре и Хиве, и, разумеется, не она будет закабалять в рабство детей свободного Теке.
– Да вы знаете ли, неисправимейший из гуманистов, что, препятствуя этому господину выкрасть у нас толпу красивых, на его взгляд, дикарок, вы лишаете их лучшей доли на земле? В гаремах старых ильхани они будут грызть жаренные в бараньем масле фисташки, размазывать суриком щеки и валяться по целым суткам на шелковых мутаках. Это ли не блаженство?
– Но они сопротивляются, они не хотят идти в гаремы шиитов.
– Вы думаете? Успокойтесь! Попасть в гарем – это мечта каждой дикарки. Наши черкешенки не чета текинским девам, а и те…
Людское кольцо, благоговейно окружавшее победителя, готово было ему аплодировать.
– В таком случае прошу назначить председателем комиссии по продовольствию текинских семейств лицо, более меня сообразительное.
Можайский сухо откланялся и повернул к своей кибитке. Вышла – и на виду всех – серьезная размолвка.
По возвращении к себе Борис Сергеевич написал формальный отказ от председательства. Запечатывая, однако, свое письмо, он внезапно озарился вопросом: как же отразится его поступок на судьбе Ирины? И вот после краткого раздумья он отложил письмо в сторону. В это время к нему явился ординарец командующего.
– Командующий приказал узнать, что предпринято вашим превосходительством, кроме красивых фраз, для продовольствия текинских семейств? – спросил он выдержанно официальным тоном.
– «Красивые фразы» вам принадлежат, господин ротмистр?
– Я передаю подлинные слова командующего.
– Потрудитесь пройти со мной по занятому семействами Теке пристанищу и доложить командующему только то, что сами увидите.
При первом же взгляде на лагерь «бабьей бригады» не оставалось никакого сомнения, что недавнее чудовище, обратившееся в людскую толпу, было теперь пригрето и насыщено. Везде виднелись одеяла, войлоки и чувалы с запасами. Нашлись и дойные козы. Горели костры.
– Ваше превосходительство! – выкрикнул с задорным апломбом бранный воевода, встретившись с Можайским. – Ваша «бригада» обожралась!
– Не вашим ли добром, полковник?
Воевода не унялся:
– Повторяю: обожралась. Между детьми открылась дизентерия… А это вы знаете, чем грозит отряду?
– Не поговорить ли нам о чем другом? Не слышали ли вы, полковник, будто сегодня кто-то отправил отсюда в казенном транспорте массу набарантованных ковров? Не слышали?
– Что за вопрос?
– Я хотел предупредить, что если мои агенты найдут набарантованные ковры в казенных фургонах, то выбросят их на дорогу.
Воеводе это известие не понравилось:
– С вами нельзя и говорить по-приятельски. Бедный офицер отправит какой-нибудь ковришко…
Воевода пришпорил коня.
Вероятно, доклад ординарца утешил командующего. Он не замедлил прийти в кибитку Можайского. На столе лежало письмо на его имя.
– Борис Сергеевич, можно разорвать, не читая? – спросил он, показывая на письмо. – Я уверен, что там нет ничего для. меня приятного.
– Если угодно…
– Я говорил с массой, ловившей каждое мое слово, а не с вами, – объяснил он, разрывая письмо. – Вы скажете, что я популярничаю и притом в дурном тоне. Да, вы правы, но мне нужна популярность, хотя бы и дурного тона. Я не брезгаю ею даже в сношениях с идиотами и не препятствую уродовать себя хотя бы на спичечных коробках. Какой смысл в подобной популярности? Об этом мы поговорим после, на свободе, где-нибудь в Гурьевке или в моем Спасском. Теперь же вот вопрос… – Михаил Дмитриевич дружески обнял Можайского. – На сколько времени обеспечен мой отряд продовольствием?
– На полгода.
– Сколько у меня снарядов?
– По приблизительному счету, до восьми тысяч артиллерийских и до десяти миллионов патронов.
– Остальную часть Теке я займу без выстрела. Сегодня будет занят Асхабад, а больше и занимать нечего. Можно пойти на Мерв, куда скрылся Тыкма-сардар и все уцелевшие люди белой кости, но я сообщу вам под величайшим секретом, что меня гложет тот самый бес, который сидит в каждом среднеазиатском генерале. Мне хочется пройти хотя бы только по умозрительной линии к Герату. В северо-восточном уголке Персии я наметил местечко Люфтабад. Хорошо бы там отдохнуть…
– Одному или со свитой?
– С маленькой свитой. Я возьму не более пятисот человек и несколько орудий. Но, пожалуйста, это пока исторический секрет, и если о нем узнает ваша подушка, сожгите ее. Вот я не вижу у вас награбленных собак и ковров, это меня очень радует.
– Михаил Дмитриевич, я готовлюсь к крупному скандалу! Наш бранный воевода повез в казенном транспорте скупленные им по дешевой цене ковры, паласы, дорожки…
– Нельзя ли их секвестровать?
– Секвестровать не могу, но я приказал попутному контролеру выбросить всю эту хурду-мурду на дорогу. Таково мое право.
– Прекрасное право! Если хотите, я буду благодарить ваших альгвазилов в приказе по отряду. Мне претила эта картина скупки награбленного хлама. Что прилично Иованеске, то непристойно людям с таким положением, как наш бранный воевода.
– Для чего же вы держите его при отряде?
– Держу его как человека, необходимого мне для успеха дела. До свидания, мой дорогой. Если услышите, что из отряда исчез командующий, то знайте, что я… на отдыхе в Люфтабаде.
XXIXБыл лунный вечер. Можайскому не спалось, у него ночевал Яков Лаврентьевич. Они сумерничали, зная, что цепь часовых вокруг «бабьего» выгона снята и что семействам Теке открыт свободный путь в пески.
Чуть стемнело, как началось бегство женщин и детей. Пользуясь свободой, многие из них, как бы передвигаясь на более чистое место, уходили за черту лагерной стоянки и скрывались за стенами крепости. К полуночи движение сделалось более откровенным. Вскоре группы женщин и детей потянулись с мешками и скарбом на плечах вдаль, на север, в пески…
«Счастливой дороги!» – выговорил про себя Борис Сергеевич.
– Можно подумать, дядя, что в среде беглянок уходит любимое тобой существо, – заметил Яков Лаврентьевич.
– Милый, ты говоришь несообразности.
– Ты так чувствительно прощаешься с ними.
– Расскажи мне лучше новости сегодняшнего дня.
Узелков был всегда богат новостями.
– Слышал я, – сообщал он дяде, – что бранный воевода поднимал сегодня курс кредитного рубля. Армяне начали давать только по два крана за рубль, но после нескольких нагаек воеводы курс повысился, и Иованеска дает теперь уже по четыре крана.
Этот своеобразный способ поднятия курса прошел мимо внимания Можайского.
– В крепости нашли канцелярию сардара и интересные протоколы его военного совета, – продолжал сообщать Узелков. – «Инглези поступили с нами нехорошо, – написано в одном протоколе, – вместо пушек они прислали женщину». Тут что-нибудь есть иносказательное, дядя?
– Несомненно, иносказательное! А то как же? – подтвердил Борис Сергеевич, отрываясь от картины бегства текинских семейств. – В некоторых мусульманских наречиях женщина и обманутая надежда – синонимы. Спокойной ночи, мой милый!
– Спокойной ночи, дядя!
Узелков прокашлял всю ночь с таким подозрительным хрипом, что у Можайского запала мысль, в порядке ли у него легкие. Утром он заметил на соломе кровавую окраску.
– У меня болит голова, – заявил Можайский за утренним чаем, – и перед глазами мерещатся трупы, поэтому я хочу посоветоваться с доктором. Кузьма, попроси ко мне на минуточку доктора Щербака.
Этот не замедлил прийти.
– Обо мне успеем поговорить, – обратился к нему Можайский, – но прежде, доктор, обратите внимание на этого милого юношу…
– Не нужно, не нужно! – воспротивился Узелков. – Я здоров, а если я кашляю, то это вовсе не доказательство…
– Обратите внимание на это кровавое пятно.
– Прескверное пятно, – решил доктор, пересмотрев пучок окрашенной соломы, – да вы, поручик, не контужены ли?
– Ему стыдно признаться, что он контужен не вполне благородным снарядом – комом глины в грудь.
– Хуже такой контузии я ничего не знаю. Разрешите диагноз.
Узелкову оставалось повиноваться.
– Скажу я по праву доктора: война окончена, а лавры все уже распределены, и поэтому вам, поручик, необходимо немедленно оставить эту безбожную страну. Пока вам достаточно Крыма, но если вы останетесь здесь хотя бы на месяц, медицина предпишет вам поездку на юг Франции, а еще через месяц – на Мадейру, и притом с лишением права выкрикивать «рота, пли!».
– Да разве у меня чахотка?
– Основательное начало, основательное!
– Какая гадость!
– Да-с, гадость. О себе вам угодно полюбопытствовать? – спросил доктор Можайского. – Там, где вы работаете, заразный запах.
– Говоря откровенно, голова начинает разбаливаться до непонимания простых вещей, и перед глазами проходят по временам вереницы трупов.
– Разрешите диагноз.
Диагноз был тоже неутешительный.
– Ваше превосходительство! – воскликнул доктор. – Пора вам сократить пребывание возле этого страшного кладбища. Сегодня уже свалился в тифе ваш сотрудник, жандармский офицер, а завтра и вы ляжете рядом с ним, если только не уйдете из Геок-Тепе. Сейчас я подаю рапорт о том, что крепость представляет собою сплошной очаг тифозной заразы и что лагерь необходимо перевести вверх по течению воды.
– Решено, кажется, сровнять крепость с землею, вспахать ее и засеять?
– Красивое приказание – и только. Когда-то еще зазеленеет эта нива, а тиф не ждет. Бегу, до свидания!
Семейное становище редело с необыкновенной быстротой. Женщины, не торопившиеся бежать в пески, повеселели, и даже некоторые из них впали в грех кокетства. Они смыли с лица глиняную растушовку и, приведя в порядок свои богатые косы, украсились всем, что только уберегли от трехдневного погрома. На них появились шелковые буренджеки, браслеты с сердоликами на ногах, массивные пояса с лопастями в виде сердец и налобники с массой цепочек. Им хотелось поразить гяуров, прибывших из страны вечных морозов.
Видели ли они у себя дома такие тяжелые обручи на шеях или серьги, для которых нужны очень крепкие уши?
Видели ли они расшитые туфли и шаровары красного персидского канауса? Да, было время, когда аломаны приносили людям много добра. В ожидании возвращения мужей и братьев группы их жен и сестер свободно прохаживались теперь перед кибитками гяуров и откровенно критиковали своих недавних страшных врагов.
Так выбивалась жизнь из-под смертного гнета.
Прежде нежели закрыть продовольственную комиссию, Можайский отправился к ханум, так победоносно отстоявшей свою немую дочь. Но ее юламейка была пуста.
– Где ханум? – спросил он у соседей, собиравших свой скарб для откочевки.
– Убежала.
– А ее дочь?
– Тоже убежала, и мы сейчас убежим. Прощай, якши-ага. Ты много сделал хорошего, но как жаль, что ты не мусульманин! Прощай, прощай!
XXIXПятнадцать верст гналась после падение Голубого Холма кавалерия князя Эристова за обезумевшей толпою. Не страх перед смертью гнал толпу, нет, что такое смерть! Теке бежали перед грозой и ужасами Малека, вознесшего врага на своих крыльях. Враг ринулся тогда к Голубому Холму, имея в руках громовую тучу, потрясшую всю страну. При этом девятнадцать стражей ада бросились на слуг пророка, а во власти этой стражи – сакар, которым можно жечь и металл, и глину так же легко, как и пушинку козла.
Да, гяуры подняли тогда все свои змеиные бичи и мчались, несомненно, верхом на дивах. Перед такой неотразимо губительной силой приятнее падать и умирать, нежели озираться и вступать в губительный бой. Легко было потом говорить, что теке бежали перед обыкновенными сербазами, но ведь известно, что гяуры выпускают во время войны страшных Яджуджей и Маджуджей, а по окончании войны прячут их вновь за железную перегородку…
Уже пали две тысячи человек, когда наконец «рука бойцов колоть устала» и горнист князя Эристова протрубил отбой. Уцелевшие защитники Голубого Холма почувствовали себя, однако, в безопасности, только достигнув могилы аулиэ Джалута. Увы! Еще так недавно собирался вокруг нее весь текинский народ с радужными надеждами. Сколько принесли тогда бараньих лопаток и рогов на могилу! Сколько разноцветных лоскутков навесили на древко, поставленное в изголовье святого. Но правду говорят, святые последних веков далеко не могут сравняться с Ирег-ата и Сари-эр, которые дали жизнь текинскому народу и со времени сотворения теке покоятся на Мангышлаке. Пусть они это знают.
Доброконные явились первыми у могилы аулиэ, хотя и пешему стоило только произнести: «Аллахи, валлахи!» – как всадник уступал ему круп своей лошади. Мало-помалу урочище возле аулиэ покрылось обессиленными конями и всадниками.
Первая ночь прошла в гнетущей тишине. Каждый переживал свои личные ощущения и боялся растравить рану своего ближнего. Не было ни огня, ни пищи, ни слов. Одно только восклицание и исходило из правоверных уст, запекшихся от жажды и истомы: «Аллах акбар!» Вообще же люди были так истомлены, так исстрадались, что забывали даже поднимать при этом восклицании, как то требуют просвещенные истолкователи Корана, руки к ушам.
Наутро Тыкма-сардар объявил народное совещание. Все, достигшие могилы аулиэ – и старый и малый, и раненые, и обессиленные, – собрались в общий круг. Первые мысли и вопросы были о друзьях и защитниках Голубого Холма.
– Где Суфи?
На этот вопрос правоверные подняли глаза к небу.
– Инглези жив или убит?
Здесь правоверные опустили глаза долу, точно хотели убедиться, что шайтан не упустил свою жертву.
– Я здесь, перед вами, – повел речь сардар к народному кругу, – но если вы считаете меня трусом, то я надену веревку на шею и отправлюсь на смерть к гёз-канлы.
– Нет, нет! – послышались со всех сторон восклицания. – Вы, сардар, исполнили свой долг как следует храброму теке. Аллах назначил каждому человеку его судьбу. Мы слепо верим в Его предопределение, мы не шииты.
– Кого же народ считает виновником своего бедствия?
Послышались разные ответы. Некоторые осуждали мервцев, оставивших при первой неудаче Голубой Холм без своей поддержки. Большинство же проклятий пало на голову инглези.
– У инглези, – решил народный круг, – ложь на языке всегда готова, как у младенца соска во рту с козьим молоком.
Выслушав оправдания, сардар вызвал людей, бывавших в тех мусульманских странах, которые по гневу Аллаха подпали под власть неверных. Такие люди явились из Туркестана, Самарканда, Ферганы, с Эмбы и с низовьев Амударьи.
Пошли расспросы.
– Как поступают русские с землями правоверных, подпавших под их власть по воле Аллаха?
– Гяуры отдают их обратно покоренному народу, и только берут херадж и танап с урожая и зякет с торговли, – отвечали туркестанцы.
– И притом меньше, чем берет эмир, – прибавили бухарцы.
– Как они поступают с нашими женщинами?
– Они не обращают на наших женщин никакого внимания, все равно как мы не даем цены отрезкам наших ногтей.
О рабстве мужчин не было вопросов. Теке знали, что христианский пророк Иисус, сын Марии, запретил рабство.
Впечатление получилось благоприятное. Тыкма-сардару предстоял вопрос: бежать ли ему в Мерв или положить клынч у ног русского сардара? Круг разошелся, не приняв на этот раз никакого решения.
Но вот появилась в песках и ханум.
– Через три дня после того, как гёз-канлы взошел на Голубой Холм, прекратились его обиды, – поведала она собравшемуся вокруг нее народу. – Потом гяуры повесили даже своего сербаза за то, что он, напившись араку, зарубил текинца. Раненых лечат. Над женщинами был начальник якши-ага, в котором и сам Аллах не признал бы гяура.

