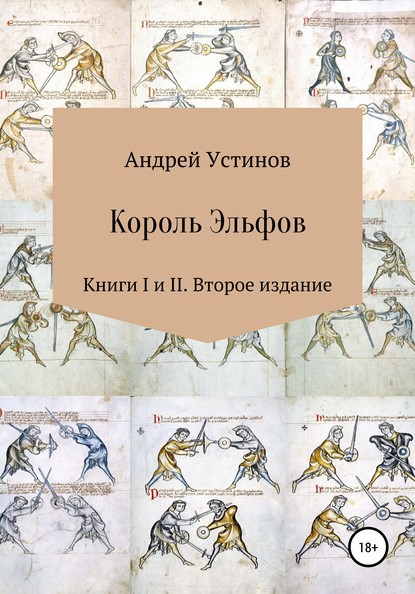 Полная версия
Полная версияКороль эльфов. Книги I и II. Второе издание
– Да ладно, Щербик… я так, и не спал тут… не спалось, знаешь. Воображал картины разные, как будто сержа в борова оборотил, знаешь, и он там ходит-ходит, урчит, трюфеля ищет, что мы вчера-то с тобой заварили…
Оба мы прыснули тут же, Щерба так совсем заливисто разошелся – соловей зорешный!
– Афавфав… – И еще так пригнулся, повел руками по туману, что точно в серости стал выхож на тень охудалого одинца с висящими боками, роющего скраденные ловкачами гладыши.
– Афавфав… – передразнил я, и тоже повел руками, отрываясь от стены. Ноги ще кололо от долгой рассидки, потому вовсе смешнее пошла животная недоумевная раскачка. Оба мы еще прыснули, да и обнялись облегченно. Когда завтра-назавтра отправят на гибель – право, кажный день радостить будешь!
– Как ты, Щерба? – спросил я заботно, еще да хлопая дружка по спине, но отстраняясь чуть и вглядываясь сквозь серость в верную улыбку.
– Дачо, Гэлька. Незлой ще быв, не вживай. Не вживай… – но то ли всхлипнул у меня на плече, то ли просто туман утрешний заблестел в очах. Так-то – кажному быв ясенно, по-Щербовски гуторя, что проще серж-один, чем вдряд все в очередь. Серж затем мальчика со мной и постовал от недних пор; ишь, ирод занежил Щербу по-своему. По-своенному…
И все же – как мог Щербак, сквозь это-это, кажный день наново свежо улыбаться жизни? Может, истинно, что недолго нам жити осталось?
– Ну вот, нимаю… что будить тебя… Я и не спал… – я сам почти заслезился, но Щерба уже перебил меня:
– Агась, картоны вбражал… афав… – и залился свежим соловьем, да и я за ним.
– Ох, Голох… Ах! Отварчик, Щерба, будешь зубья полощить? – хохоча еще, вспомнил я о болящей десне друга и потянул ще теплящуюся крынку. – Глянь-ка, нагреть ли? Да не нарвалось ли?
– Да човта ни, теплынь. Ольсовый да взварчик… – захлебал, с шумными перерывами, экую горечь. Знамо, в их сырых краях привыкли… – Не скворчила, ни. Поможает веренно…
– Ах, ну смех ты Щерба. Где вы так глаголить учитесь… Глаговолить, ха! Да, знаю, что ты машешься, Щербак! Не задавись! Ха! Знаю, сказывал уж, да я забыл что-то. Где-то с северов ли?
Щербачок откурлыкал наконец, отрыгнул полоскание в боярышник, и опять бурно-весело зажестил руками:
– Кажный динь главолю, човты! Ах, Гэльчик, так как-то бредши быв и тут, Глах знает пути, я ни. Но тако разумно мелешь, по дним-та пора белесить уже, а тута фрутеля ще свежи.
– Трюфели, Щербик? Ты про грибья поддубн… ольсовые, как ты гришь? Али про фрукты, тамо как наливчики?
– Да то и то, Гэльчик, то и то… словца-то не слажны, слажно, човты ладишь! – и расхохотался весело, шлепнув меня за плечо.
Ну как балясить с чудаком?! Човты-мовты! Я только и смешился сам, пытаясь уговориться следом:
– Ах, човты блажирь, Щербик! Глах знает пути! Да как бы скажет? Намо сами мы, аво выйдемся, пути-то сыскать? А? Грядем ли тако?
– Блажирь, Гэлька, само ты, – Щербачок уколол опять густо голубыми, почуявшими зарю и росу очами… ликом чист, как сейчас Голохом и сотворен. – Бредши быв много, граци и блаты, мова разна, благоти ни. Втое благоть, Гэлька, источит ни, дремочет влажно. Любо те быти, любо знати тя. Кличи ме, ща немый прибежу. Друже…
– Друже, да… – Таки и сам я заблестел глазами на рассвет сквозьлесный, смутился. Объял еще крепше… и о чем говорить с другом, который друг? В смехе ли, молчанье ли… – Лады-лады, Щербик… ну ты карауль, кличи коль що. Пойду я спальничать, лась?
Ах, откуда и сам гуторить стал? Лась? И что это? И тихо повел ладонью по локтю друга, и пальцы сплел с ним в завсегдашней клятве… и запотыкался в домик-темень, где охапка соломы шелестела, другом обогретая.
Я повозился малек, гнездуясь, шибче подгребая под щеку… и ничего бы, но зацарапило ухо, пришлось тамо кулаком примять позольше – ну, дружье дело! И когда тепло растопилось по членам, когда соломный прянцовый запах пробрал до чиха – ох! не мнил, что тако вздрог! – ясенно воспомнил о Катинке, самым телом взомлел! Катинка, Катинка, Катинка…
Катинка! Время высокопарных слов!
Я скажу вам так, собратья во Глахе: мы все живем увлекаясь. Но иногда (даже если по пути в бордель) оступишься на кривом булыжнике и упадешь башкой в перекрещенный лунный луч, и назавтра – верная примета! – встретишь звезду. Так и эльфы говорят, ибо так и есть. Ибо вспыхивает дева ярче полуденного светила в дюжину огней, собственной Гелией твоей, и в душе первая весна от сотворения мира. И те из вас, кто морщится и насмешничают сейчас на задних скамейках (я ли не сиживал там!) – о, знайте, что вы просто несчастны! Несчастны, ибо не ведали даже краешка рая, не вдохнули даже горсти Элизейского воздуха и не знаете цели своей! И даже не считайте себя людьми – о, вы не человеки еще, но сущие лоховесы, непогребенные зомби, ходячие костяные болванки, рыночные марионетки, расходный материал для королей и церковников. Но ждите и молитесь Глаху с Метарой, безусые бражники, чтобы боги подарили вам вечность! Но в том утешение, ученик, что каким бы тощим переулком ни плелся ты в ежевечерний кабак – Всегда Сбыточно Чудо.
История была та, что в тупомечных тяжбищах на гимназиуме я чинно-славно себя показал и вошел в доверие! А! Все те начаточные кустодии, выказанные сержем для новинантов, и даже боле (особо я любил верхний лангорт) – столь вдолбили мне еще в ликейонском гимназиуме, что сия попрыжня с баклерами только смешила. Я-то верно знал от первого брата, побывшего в дольночинной сваре с соседом (за кого вышлось отдать сестренку), что на подлинной брани и щиты-то потяжче, и мечи-то, кто хитровей, подбирали с наострием, дабы чуждую кольчужею проколоть аки бычью кожу… Ну – а паче история та, что самых ловкосердных серж, по праздным дням, возглавлял из лагеря в походах на разомление. Более того – ибо платы, кроме хилой крыши и кормежки с гнильцой, мы и стотинки ижей не имали, то известный кабак “Топор и Дева” (во времена изуверские там рубили власы согрешившим – ну, говорят!) был уделён родичем-комендантусом (ах, глахомольный вор!) уболаживать наши потребные нужды: девки были весьма ушатаны, но под пинту темного любая оченно шла за потерявшую доход белошвейку! И я бы не огнушался так пожить – пожалуй, нет! – ибо заводчик, словив словцо о могущем псевдородиче моем, чуть не всех кобылок меченых готов был самолично отмыть и подстелить! Ох, и разжился бы я (марионетка убогая!) этакою жизнью! Три пряхи, однако, знают свои труды…
Вот так было:
– Аааах! – визгнула рыжая девчонка-прислужница, разливавшая имбирный сбитень по-на-мимо сдвинутых кружек, едва сержева широлапища взлетела ей под булки. Козой вспрыжнула на стол, ей-глаху! Да еще завизжала, вся ярая, как волос ейный, да и сбитень весь, запрокинув кувшин, заплеснула сержу на разусье! И поскакала по столу, повизгивая, перескочивая накиданные кости и пупырыши (курей жрали) и лапкие руки, потянувшиеся к голым розовым пяткам. А серж, красный от сбитня, приподнялся над скамьей, урча огло и распялив руколапы будто в жмурках… моча глаза ручною водой из плошки, шлепнул с размаху себе ж в физию, устроив полную мистерию. Ну, как омытие грехов…
– Агахагаха! – загрохотали пропойцы, давясь от смака и тут же, натужно вращая глазами и пуча щеки, сблевывая излишки под лавку – ну коза! ну нечестивец! – Виина! Хозяииин! Эээля! Сбииитня! – так и орали, хохоча и дрыжа всеми конечностями зараз.
– Новотерка-х! – завистно хихикнула, криво ерзая на мне, доблая кареглазка, впрочем, на один глаз прыщавая, да и с усиками, похоже, проступающими с-под толстого слоя бабьей кой-то мазни над губами, – короче, местная принцесса. – Ниче-х, оботрут скоро-х!
Я уже маленько хлебнул золотого метарского, а то и не маленько, и был довольно добродушен. А по глаху, что эль тот был не золотой, а скорее мочевой! Пфф! От шутки сей стало только смешнее и соседи, с кем поделился яркостью, охохочась, тут же прыснули тем элем на соседей дальше – метарский мочевой! Пфф!!
Впрочем, на такой сердечный накат девиц я не рассчитывал, хотя… дни-то зарубал, столько уж без утехи! Даже в ликейоне, чтоб его, ик! – даже в ли-ик-ейоне чаще бегали в утешный дом за ды-ыкрой… дыркой в ограде, но тама… ох, Глах! Как по-детски шутили там: шныркать в дырку за дыркой! ох, мама! метарский мочевой! – тама хоть были раздельные комнатенции, а здешняя манера девок садиться на мужа прямо при всех!.. хотя, поразуметь, то и шибче для забавы! Благо, мой конец был не малый, чуткий похвальбам сих почитательниц, всякий раз заботно полоскавших его достоинство вином! Сия уж третья! Долго токмо возится…
Конечно, прислужница – то другое, то девчонка почище обычной. Честная, то бишь, строит из себя расфофаночку златонитную, а саму-то для заманки токмо и держат… а то ли и дают за цену-то?.. да хрен знает, спятишь тут от жары и этих угарниц. Но охоче б огневушке той засадить, чем этим клячам пареным… кому-то и полощет, ась… уф. Что-то муторно стало и сильно тошно…
– За Мета-а-ару! – завопил вдруг серж с противного ряда, покачливо вздымаясь над столом и махая, что боевым орлом, огромной двуручной круженцией. – Зааа Меее-тааа-руу… – завыли-застучали прощелыги кто чем мог, да и я воспользовался удачей – смахнул по уху бесполезную девку, воскочил… да и срыжнул, за Метару-то, все, что мог, прямо в стол…
Потом провал (хотя и буянил, грят, сквозь ночку), а к утру:
Что там гнездовилось в голове, какой красочный морок, лихие боги и кудрявые наложницы – все выветрил сразу, едва сотоварищи ливанули за шиворот колодезной склизью. Ажно со льдинками! И вторую шайку уже наготовили, да на себя же и пролили ржачно, когда полез с кулаками… уроды!
– Уроды! – повторил, хохоча с ними же, раздаривая и принимая разшлепоны по загривку, так уж принято на сей службе! Окстилось, так и продрых рожей в стол, а уж день и солнце… Что же! Отлил, опохмелился, да и вывалился в улицу за всей гурьбой, где те уж гопотились на ярмарку – обещались какие-то наезжие скоморошники. И пошли, благочинно горланя метарский гимн, сочиненный недавно каким-то местечковым бардом, – что же еще, коли у герцога с горлопанами строго, да за гимн-то расчудесный как накажет? Все ж за него, родимого! Так и орали, дурачась:
– Пусть даст приказ Равах, врагга развеееем впрааах, Попотчует ворье, Метааарово к-копьеёёё! Завидит скоро враг, зелено-злааатый ффлаггг, Отведает пострееел, Метааарских острых стре-йе-йе-ел! Звенит военный гонг, шагает в шаг плутонг, Прикроет ваш шабаш, Метарский герцог наш! Завидит скоро враг, зелено-злааатый ффлаггг, Отведает пострееел, Метааарских острых стре-йе-йе-йе-йе-ел! – ах и весело было, с гудящею еще головой, дрожащими еще в икрах ногами, топотать по парадному булыжнику, что украшал центровую улицу. И кричать, что было мочи:
– Да здрааавствует Метааара! Да здраавствуует Равааах!
И как ни хмурились кожистые комендантовы закрутчики (родичи, Глах его!), как ни почесывали прилюдно руки, да серж строго выучил – максимум можно пришлепнуть подвернувшихся простушек за что дотянешься, то же во славу герцога, что визжишь? Аха-ха, как хорошо! Большинству-то и нравится, раз под руку мнутся! Ах, то же ярмарка, Глахов день! Но разок и самим нам пришлось, точно простолюдам, прижаться ко стенкам: когда (помяни беса!) пронесся вихрем герцогский отряд, и даже будто (против солнца же!) черный профиль герцога развидел, так и отпечатался в глазу. Ух, страхота! Ажно ко смеху стражников ногой в цветочную кадку какую-то вляпался…
И вышли на площадь, увидав которую, всю в расцветных палатках торговцев, всю в аромате осенних радостей живота, я и не признал сперва. Лишь когда пробились прям к скоморошной арене, зазывально бросились в глаза разноростые буквы, разодетые в робы и хламиды, кафтаны и камзолы, да и сами Эл-да-Пирси в каурых сюртуках почтительно вливали что-то в оба уха развалившемуся в центровом кресле комендантусу, лениво покручивавшему бороду кривым мизинцем. Народец, конечно, напирал и прикрикивал, но все же продавились-проражились ближе к лицедейству. Шло наново представление Аристофена, смутно мне помнившееся по Коголану… когда также мялся-толокся на площади в компании лицеистов, сквернословящих от избытка пива, и любовался издали на королевскую трибуну – на юную графиню Эльзу, кривящую розовые губки на эти шутки… и воспоминания те… изнутрешной какой-то тоской брызнули из глаз, расколдовали будто весь окрестный морок, все его похмельное веселье, обнажив за пестрыми шторками палаток ту же варварическую нечистотность. И мерзкая пьеска, которую теперь, обжатый гыкающей толпой мастеровых, я вынужден был терпеть, срамила мне – ах! – самого себя!
Ах, друзья лицеисты, тогда я только чувствовал, но не понимал. И только теперь, вспоминая ту ярмарку, могу сказать, что узнал до конца горький гений Аристофена: взять бездельника из толпы и окунуть в деготь, и измазать курячьим пометом – и саму ту толпу заставить над собою же глумливо хохотать. Надо признать, и театр Эла-Пирси был затеян изрядно, с разными механическими выкрутасами, добавляющими абсурда картине:
Светловолосый незнакомец пойман на задках дворца – дворца! – справляющим большую нужду. Эпически прикован, приклеен своим испражнением к земле, не может освободиться – запор! о-ха-ха-ха-ха! Когда же взбешенный князь готовится убить его – вертится как на колу и от страха срет все больше, на этой говняшке поднимается вверх – к Годоте-Гадесу. Который, в свойную очередь…
Уф! Даже показалось, что вся возбужденная толпа округ ажно обделалась разом, так вдруг ударили в нос чьи-то газы… насилу выбрыкался через-сквозь палатки на главную улицу… Да и тут какие-то перечества: загородная веревка между столбами и кожистые стражники, жестко костыляющие всем, кто гнался под нею перескочить сторону… крики и дав, еще нестерпнее, чем у сцены, ибо толпа куда-то влеклась, отжимая ноги… топот и многоголосое хрюканье… хрюканье? Толпа? Да не схрюндил ли я и сам от избытка эля и не оборотился ли сам? Ах! Вспомнил! То был (Щерба ли упреждал?) праздничный местный обычай – выгон свиней на жор, короче на очистку дорожек от всей съестноватой дряни. Варварское рассвинство! Стражники прогоняли по улицам свой особый свинячий плутонг, а народ безжалостно отпихивали в любые щели… пихнули и меня, совершенно нечинно, но я уже не рыпался, наученный былым… эх!.. Пихнули еще разок, и кто-то опешенно запищал за спиной:
– Ах, сударь! Вы меня убили! Ей-глаху убили!
То была румяница-прислужница из той, из первой таверны! Ясенно, наодежена была по-праздному, в белой робе с красной рунной вышивкой, а то ли и не рунной, а просто отороченной пестрявым орнаментом. Из-под подола же – вот прелесть! – выглядывали ее ножки, которые я, медведь-шатун, чуть не отдавил: заради праздника и самотной, как говорится, бабьей погоды, что выпадает рано в осень, была в одивных белых sykhos… Кажется, так? Ах, забыл слово, хоть и слышал когда-то – как бы краткие гольфы и с разделением для большого пальца. Ну это нарочно, чтобы – вот как сия чудная дева! – надеть потом в улицу легкие лыковые подошинки на тонких оборах. Ах, чудо!
На русой же головушке ея (так по радостно-ярмарочному и хотелось говорить!) косы были укрыты в тугой узелец, опоясанный листяным венком на ивовых прутках. Ах, уж нанизала она и дубовые листы с вкрапленными гландисами, и ясенные с крылатками, и яворовые пурпурные пласти… И голубые глаза ея, чище у края и с синею обороткою вкруг зрака, глядели на меня, блестя от смеха, из-под взмахов поющих ресниц. Ах, сколь часто потом перецеловывал я очи те, темнеющие в накате страсти, и горячие щеки, пылающие нежностью сквозь горничный полумрак, и тонкие ноздри, раскрывающиеся судоржно от нехватки эфира, когда любил ее бесконечно!
О Глаше, Глаше, Глаше!.. Ах, как тот я заметался по соломе, ловя мнящуюся рядом девчонку! Забубнил что-то, заслюнявился счастно сквозь разноцветный сон! Ах, а сон был – что листопад: то побежалостью метнет в лицо, то кармином простежит-поманит дорожку впереди, да и зашелестнется в клубок… Все частички моей души, крупицы бесполезных знаний, всех литературных штудий в ликейоне, в коих не последний был!.. частиц, давно на дне души осевших, взвесились тогда по эфиру бисеристой дрожью, заголосили и раскрасились в этом сне. Как бы – вот, спал я (тот мальчишка-Гаэль) в тусклосерой каморке, разбросавшись руками-ногами по клочьям соломы, тусклый такой паренек, – а выше-то, над кособоким домишком, в разъяснившемся небе полошилось сияние жар-птицы, сияние моей души, и столь дивных глубинных оттенков, нежданных каждый-охотник-желает-знать перемен, будто торжество невыразимых истин над горечью листопадных утрат… Грядущих утрат? Ах, будущее! Только и ведомое в бреду! И каждый раз, когда еще и еще вспоминал и вспоминаю ее, – я уже не знаю, тогда в прошлом вспоминал или в нынешнем сейчас. И если слова мои звучат слишком мастеровито для безусого мальчишки, то помните, что все настоящее вечно и говорю я – из будущего языком эльфов. И в мальчишечью мою любовь – в любом возрасте могу я войти, как в живую картину, и жить ею заново, и чувствовать новые краски, и говорить прошедшей любви новые нежности.
И те из вас, кто насмешничает, кто до сих пор не любил, могут и должны перелистнуть сии страницы, ибо не в козла будет корм! Но тем, кому ведомо сие жжение души, расскажу истинно… заблуждение ли? И да, и нет. В состоянии любви – мы не видим обыденного, но глаза наши становятся глазами богов. Ибо истинно говорю вам – такими Они и видят нас, человеков, смешных светляков, со своих высоких небес! Вот так было:
Катинка (явившаяся единственной дочкой трактирщика! свезло!) умела часто отлынуть прислужных дел, прихватывая той-раз холодной дичи и эля, чтобы перекусил ее суженый (то есть я!) от лагерной тухлой жрани. А я иногда – что же тут злого? – прибирал всякую железячку с лагеря, что лежала не очень, и на вырученные медяшки щедро нахватывал ей ленточки и златы-нити в златы-косы и еще блестящие колечки-брошки, и за руки бежали мы на луга за южные ворота – помять муравушку, покуда день… а вечор – тайком я скребся по глухой стенце к высокому оконцу – и обжимались до рассвета в ее горенке, да и что обжимались, любились во всю прыть!
На диво, Катинка была религиозна до мнительности, тягала меня, коль слаживалось, на изрядные Метаровы процессии и звонные толпования, от коих гудела после ее головушка, но верно радовалась, что суженый ее суть грамотеец (о, ликейон!) и знает расчислить весь пантеон и мелочные их межбожьи сварушки… ах, хотя радешенька была, как истая девчонка, прихихикнуть над божествами, но оченно тянулась верить раскушенному на праздник Дома прорицанию (в сладкой-то печенке), что Метара лично нас свела! Ах! А я охотно таскался за нею и все-все поддакивал, она была для моей вечной неги, для любования вдохновленным ликом, но не для метафизических дискутерий, нет! И про себя (ах, благодаренье кормилице!) – то я строил в кармане фигу, то скоренько складывал пальцы меж пальцев накрест, что вся наша встреча лишь случайность, встреча говорливых песчинок, ибо если бы боги впрямь смыкали наш шаг – о, они бы не успокоились! Больно-то мелко было бы для богов и присной их своры…
О да! Я мог бы, наверное, спать вечно, баюкаясь восхитительными видениями, скользя по завиткам Голоховой шали, – за все мучительные часы в лагере, когда изверг-серж не давал вдруг выхода и рвались в клочья намечтанные мотыли моего счастья, за всё-всё-всё, недоданное мне жизнью, – во сне, как с чистого листа, смеялись навстречу мне слезинки ее глаз цельною лазурью естества. И день оживал белотрепетностью ее лица, и проталиной раскрывались ее веснодышащие уста, и под прядью всплеснувшейся, где виделся набухший сережек исток, млел, будто непрочный кусочек элизиума, вдетый ею тряпичный пимпернель. И когда обнажалась, когда вскидывала косы желтою льняною полоской поверх дрожащих вен, когда вспенивала их пышно, не была ли она нимфой, вздыхающей нежно, покидающей купель девства? Ах, а в ночи, будто обнажая тайный гобелен, когда вспыхивает мятущаяся свеча, будто по Глахову слову, из небытия – выплескивалось на меня, выбрызгивалось солнечной насмешливостью ее лицо! И на краткой прогулке, где в осиновых листьях поляна жгла румянцем, как лукавый девичий лик, Катинка была – этой рощей, дрожаньем и голосом тумана, языком древесной феи, чей выдох, спутавшись, индевеет на кончиках век, но раскапеливается на мои поцелуи, растворяясь во мне! И там – или другой раз? – из-под радуги брызгали вдруг листья, обнажая разъем в яблонных ветках, где виделось закрасневшееся золотистое ядро, и там же распускала тяжелые плечи облепиха, маня в хоровод, будто сжигая солнечный вечер на осенние бусины, и там же пророчили нам судьбу пряные флакончики львиного зева, ах, в Гесперейском саду! А говорили ли? Ах, до речей ли там, где рук ее, почти смутившихся, почти затанцевавших вальс, чистое влюбленное дрожание заменяло кугели фраз, где воздух шелестел тайным электричеством, будто рассеченный мнимыми сомнениями – не в любви нашей, но в вечности этого мига! – рассеченный умасленным сиянием ее золотистых кос, как будто радугою влет, сиянием, да, придававшим юную славу ее улыбчивой небрежности, там расцветающей сполна, где на губах ее ловил я пушинки ее неги и аромат ее – ея по торжесловному! – тепла?! Да, да! Вся она была – от дрожанья век до дрожи пальцев, до голубизны усталых после прислужных часов голубых ея вен, вся была моим переменчивым счастьем, вздыхающей, не поднимая глаз, как вздыхает наяда, задерживая детство и ещё втирая в виски сладостный елей, отвечая да смертному. А крепко ли любили? Ах, мы были Кеик и Алкиона, когда гуляли вдоль прохладного моря, где с тягучим криком проносилась чайка под вскинувшейся к облаку волной и облако сочилось сквозь пальцы прозрачною берестяной строчкой: проснувшиеся звезды сейчас коснутся твоих синих воспаленных глаз, и мы застынем в мифе, Алкиона, покуда пена не отпустит наши шаги! Говорили ли? Ах, до речей ли там, где имя кажется ошибкой, прошептанное невзначай, где через печаль минувшей разлуки и страх будущей – все равно, как бодрые сорняки! – пробиваются улыбки, где светлой полудетской брови разглаживается излом и выдох ее – ея! – как будто болен ее любовью?! И ее глаз, источающих испуг, слепые всплески голубые, и нежных белых рук скупые от робости касания, и переплетенье ее волос, будто из золотых каких-то снов, и непроизносимых слов почти неслышимое пенье! И где – когда совершена любовь – все еще дрожит слегка и будто нежит мятую простынь ее незащищенная рука, чья ладонь еще раскрыта в изумленье, как будто все и не всерьез, и тонкая линия жизни еще хранит смятенно тепло моей жизни? Ах, она сама была – лишь сбивчивая строчка из путаной поэзы о любви, где связывают многоточья несовпаденья рифм, где испуганный нежный голос – тонковетлою рощей взметается в небесную просинь растрепом птичьих полумер, где на березках остаются желтеть ситки ее волос, где на тропках блещут неразбитые блюдца ее девичьих полугрез! Ах, и когда совершена любовь, как беспечно я скользил в розовощеких снах, где являлась Катинка благородной горожанкой, снизошедшей ко мне в луга, изыскивал среди цветастых стежек алый лак на кротких ноготках, голубые гво́здики сережек, трепещущую капельку ручья на серебринке тоненькой цепочки и щекотные ресницы астр! Сердились ли дружка на дружку? Да! Ибо что же любовь (так потом Ориест-друг учил, прозванный воробушком!)… что же любовь, как не осколки прозы, утратившей медлительную спесь? Как две березы, иной раз растерянно бросали оземь свои сережки, но затем лишь, чтобы завтра снова цвесть! Ее один лишь вздох – и перепалок окаянных, колченогих от потери букв, да сгинет поросль, да сгинет, ибо только после ссоры слово исповедуется вслух в придорожной крипте, и только после засухи витую ветвь осеняют вершинные цветы, ибо только в испытанной вере в Нее в полной мере существует Она. И тогда – буквы, будто низка самоцветов, складываются в звенящий хор, покорные моему обету: она топни ножкой – и разлетятся стаею разжалованных ос, сложив неуживчивый вопрос в небе из искусственного глянца, – а посвети она сказочною нотой голубых забывчивых цветков и воскреснет рядом нежный кто-то, запинающийся во слишком многих нежностях! И тогда – разговоров брезжит тропка, без памяти и сна, полная расплоха, не знающая дна, и тогда – на счастье и на лихо разбег ее бровей и разлет душистых кудрей, и будто нимфа поселилась на качелях ее век, и тогда – все мечтанья детства и взрослости излом дремлют по соседству в имени ее. Ах, какие глупости звучали в наших речах! Глупости, которыми был переполнен воздух, будто мостящие нам тропку до Луны! Невинные созданья, лебединых предкрылий белый пух, упованья, рвущиеся к жизни, но понапрасну высказанные, приносящие печаль и страх за будущее: и она всплескивала руками, задыхаясь, и щеки влажно щипала завязь торопливых чувств… и горячие глупости, как расплавленный мед, истекающие сквозь ее сбивчивые губы… и наутро, сквозь серый дождь за окном и долей височных разнобой, все их она опять пересчитывала, все вчерашние глупости до одной, всех мотыльков моих слепых обещаний и, плача, опять улыбалась мне! О, как я мечтал быть художником! Чтобы моя провидчивая кисть могла изобразить задумчивую жизнь ее полубровий вздетых, манящих в иные приделы, изобразить тонкость ее взглядов, будто преломленье витражных брызг в заброшенном храме, изобразить оживление нежных рисованных ликов, всенощное бдение цельного иконостаса о нашей неожиданной любви! Или – изобразить десятую страницу ее снов, будто гобелена полотно, где лица выражены неровно и закат льется в приотворенные окна, и где, тонкими лучами опутан, я мог бы коснуться ее дрожащих рук, где потолочный полукруг полон тайного воздуха и тайное слово еще не сказано, но уже коснулось ее уст. Как мечтал быть поэтом! Чтобы, когда будничности чет и нечет пытались загасить волшебный синий блеск ее глаз, мои стихи излечили бы ее сладкой пастилкою под язык, чтобы просыпалась вместе с солнечным арпеджио арф Элизея и босые ее ноги легко приемлили брызжущие росы моих стихов! Ах, да! Да, быть художником и поэтом, чтобы нарисовать пляж песчаный, где засухи правила ересь, затанцевавший смерчами, почуяв прилив, где поют русалки, возвращающиеся на нерест, и где шершавой волны опять – опять! – воплощается миф: пожертвовав тело свое налитое, гребень пенно-надменный искусно горбя, на лазури воды из песчинок и праха прибоя, из течения струн нарисует Ее лик, – где, воскрешаясь из пены влюбленных истерик, в пестрых перьях и кичливо трубя, стая нимф через отмель летит, призывая Ее, где, уловив жизни поспешность, прошептал бы я истощенной волне, что никогда не окончится моя нежность и неизбывны песчинки нашей любви! Ах, что мертвая ночь?! Если – по кромке бренности, где поцелуя ждет сирен окаменевших пенье, дыхания ее прольется бирюза и черной пасмурности вылиняет цвет, и за жахлой кочкой луны – огромной бабочкой вспорхнет желтоглазый день! Ах, Катинка, неразменная монетка, выдумка взахлеб, росплеск рыночного фейерверка, скоротечный озноб, омут, понарошку неглубокий! Строчками любви, новорожденными еще, дрожь и томление воздуха, капелью сорвавшееся слово наконец, радужная грусть и нежное стихотворение наизусть! И кто/что я без нее? Слепо, будто дышащий по звуку, будто она за тридевять земель, мальчик из ниоткуда, потерявший карамель и неспособный пережить докуку? И когда чертов буран за стенкой караульного поста воскрешает лежалых листьев вихрь, будто уносит ее улыбок теплоту и горесть, что я могу? Выдохнуть больною испариной ее лик на слюдяное оконце, и тогда мрак вокруг меня становится обеспредмечен, как солея пред сияющим кумиром.

