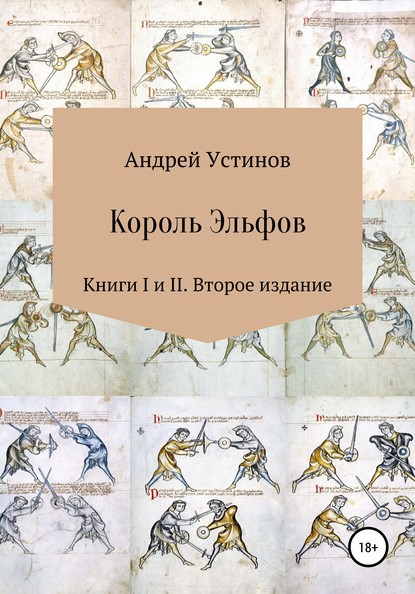 Полная версия
Полная версияКороль эльфов. Книги I и II. Второе издание

Предисловие ко второму изданию
Хотя в эпоху электронных книг многие обычаи неуместы, все же традиция требует предисловия к каждому переизданию.
И, пользуясь этим случаем, я благодарю тех читателей первой версии, кто долистал читалку до конца. И для тех, кому пришлось по душе, добавлю, что здесь не просто пририсовано сто эпитетов. Рассказ теперь от первого лица, что дало моему Гаэлю власть существовать как бы в двух временных пластах одновременно – тогда и теперь. И позволило роману быть (Гаэль сказал бы бысть) более рельефным.
Во-вторых, по опыту первого издания, я хочу извиниться перед читателями новыми. В книге, безусловно, будут эльфы. Но, возможно, это будут не ваши эльфы. Хотя, как люди взрослые, мы понимаем, что никаких эльфов не существует, а все же – многие ожидают именно Толкиеновских. Но здешние эльфы – больше похожи на кельтских друидов или ведических славян.
Жанр сей книги, безусловно, фэнтези. Но и тут требуется пояснение. Моя идея была в том, чтобы выказать (да-да! не показать, а именно выказать!) значимую разницу в мироощущении – нас сегодняшних и обывателя средних веков. Скажем, мы летим из Москвы в LA на каникулы, и наши шансы вовремя вернуться назад весьма высоки. Не то раньше – нельзя было быть уверенным даже в возвращении с ярмарки в соседнем селе. В 21-ом веке мы в значительной степени управляем нашей жизнью, но в 8-ом веке события управляли людьми. И только единицы, которых история позже возвеличила, могли судьбу изменить.
Затем – замечали ли вы, как нелегки в чтении старорусские или староанглийские тексты? Как много лишних глагольных форм, как много тяжестных оборотов? Мы нынче летим по жизни, мы предпочитаем легкий слог, но человек прошлого сражался с жизнью, извечно перепахивая свой надел, и не отсюда ли мудреность заклинаний, находимых в рукописях алхимиков? Как будто сама вескость сих конструкций должна была выдержать века и скепсис потомков? И как прикажете погружаться в эту реальность? Местами будет тяжело.
Затем – эта книга отмаркирована как “18+”. И не только из-за сражений и смертей… стояли действительно жестокие века, достаточно перечитать Данте. Парижские санкюлоты и русские крестьяне 17-го года – лишь пена на гребне тысячелетней истории смут, среди которых мы иногда находим героев.
Наконец – прошу (временно) простить некоторую несвязность повествования. Особенно при переходе на рассказ от первого лица – это лишь следствие возраста Гаэля. Кто из нас мог написать изложение в школе на уровне Льва Толстого? И все же – Гаэль будет постепенно мужать, от книги к книге, и речь его должна вскорости стать более взрослой.
Итак – почему же фэнтези? Потому же, почему, бегом от превратностей судьбы, спешили филистеры всех времен со времен Хаммурапи и Рима на сбивчивое представление гастролирующих актеров, спешили в таберну послушать заезжего кутилу. Потому что кому нужны сухие проповеди? Потому что именно в жизни, полной несчастий и грязи, хочется предаваться сказке, неумеренному восторгу и волшебству.
Король эльфов. Книги I и
II
Я здорово напился в тот вечер.
Так беззаботно и бесшабашно напиваются только в юности: девицы кружились и хихикали вокруг, даже жались тесно и лобызались, умоляя позолотить ручку. И если бы спросили меня тогда: да, именно в этом и крылось счастье!
Даже сегодня, оглядываясь с вершины лет на безусого юнца, булькающего черным пивом и хохочущего над собой, я не могу сдержать улыбку. Какой красочный сгусток движений и эмоций, какой хмельной захлёб и ни капли горького ума! Но теперь я ведаю будущее. Я вижу ночь, будто бы стеснившуюся вокруг таверны, потому что блеклая, трепетно-нервная цепочка факелов вдоль мощеного переулка прерывалась здесь. И вижу темные закустья у косого палисада, небрежно посеребренные луной… и тень лайфера, мнущегося под угрюмой перепрелой липой, ждущего перевернуть мою жизнь.
Судьба короны зависит иногда от пустяка. Так говорят эдды, так говорят люди. Но люди не ведают, что случайностей не существует. Что большинство из нас – лишь смешные марионетки, послушные паутине судьбы.
Пожалуй, придвинусь ближе… как же звали этого безыменного лайфера? Ах, наверняка и вы вздрагивали иножды (брр! что за слово!) среди ночи и дня, как будто кто-то незримый дышит за плечом? Как будто подходит плотней, выспрашивая ваше имя?
Теперь я слышу его тайное дыхание, клубящееся в прохладном эфире, – его звали Джеб. Забавно, столько годин спустя, наконец познакомиться с виновником собственных приключений. О, да! Он рос и жил неприметным окаянником-лайфером и судьба редко баловала его. Но в эту ночь – ночь равноденствия! ночь Мабона! – Джеб-молодец чуял редкую удачу, горячащую кровь и заставляющую дышать прерывней, переступать и шуршать мертвой листвой. Неизвестно, какая из вечных норн вдохновляла его, кривляясь и хихикая над блестящими спицами, но, по крайней мере, его имя внесено в Книгу.
Что же! Присаживайтесь, дорогие лицеисты Коголана! Присаживайтесь, будто уличные зрители, привлеченные актерским выкриком с подмосток. Мне ли не знать, как мы и сами ценили уличных рассказчиков, сбегая с вечерних молитв? Помните ли транскрипцию:
Denique caelesti sumus omnes semine oriundi
omnibus ille idem pater est, und alma liquentis
umoris guttas mater cum terra recepit
Мы все произошли от этого небесного семени, у
всех нас есть один и тот же отец, от которого земля,
питающая мать, получает капли жидкой влаги.
О, я помню все, как будто вчера: мы смеемся и шлепаем сандалетами вниз по широким потертым ступеням туда, к рыночной жизни, к узким переулкам любви, но я оглядываюсь минутно: и будто сама Alma Mater Metara добродушно взирает с вечного пьедестала нам вслед, пересчитывая наши пятки. Ибо жизнь и есть мистерия. Ибо кто в наши дни разумеет эдные мистерии, кроме служителей Глаха?
Тяжелые двери трактира распахнулись со вздохом и выплеснули в ночь все чохом – эдакий сбитень из переменчивого жара и духа печеного мяса, хруста глиняных черепков и визга угорелых прислужниц, да гортанного смеха постояльцев, собравшихся до ветру…
Их было двое. У рыжего крепыша, мнущегося у косяка, по завиткам бороды искорками скакали отблески огня, да и дверная половица будто плясала-потрескивала под ногами, так что напоминал он отскочившее от очага тлеющее полено. А второй, молодой, – полусогнувшись, бледным пятном прошмыгнувший мимо рыжего, качал теперь белесой макушкой над купою лещины – точь-в-точь призрак кладбищенский, страдающий над могилой.
Джеб – лайфер, темная тень в темной тени, – встрепенулся, прищурился. Но лица юноши было не разобрать – даже лунный луч, что вырвался как по колдовству из тайной бойницы мрачной облачной башни, стушевался, будто ослепши, закружил наощупь около русоголового, едва цепляя, да тот еще, кряхтя, ниже засел в кусты.
– Псс-т! – ласково прошипел Джеб, неслышно распуская тесьму куртки, и тут же из-за откинутой полы, из особого мехового кармана высунулась, нюхая напитанный трактиром воздух, уродливая мордочка ушана. Бережно выпростав его из кармана на рукав и разбросив тряпицу-попонку, Джеб мягко подкинул серый комок вперед – тут же ушан распустил кожистые рукокрылья, в два беззвучных маха выправил полет и, в оной пяди скользнув от лика юнца, признательно заверещал, забиваясь под массивный водосток.
Да – именно эту парочку караулили лайфер и его мышь. Именно этого заморского молокососа, блеснувшего нынче денежкой на городском рынке – то-то, небось, пьют сейчас сладкий розовый мускат за его невинность ветреные кабацкие красотки. С ума свели недотепу, звонко хохоча: “ох, спаси меня Метара, достоинство-то пуще Глаха! потеши девушку, красавчик!..”. А рыжий чурбан – поставленный, можно коренной зуб дать, присматривать за мальчишкой – знай-сам накачивался на дармовщинку золотым метарским элем, мешая сорта и путаясь то с беляночкой, то с чернавкой, да подначивал недотепу начистить-таки девочкам перышки в одном глахотайном месте – “ну ты не промахнись!..”.
– Ах, нечисть! – тем временем, взвизгнул петушком юнец, отмахиваясь от примерещившегося упыря. Угодил голой ляхой куда-то в склизкие заросли крапивы и еще запричитал в голос: – Ах, нечисть, ах, нечисть!
Рыжий тоже икнул испуганно: за спиной его маячили багровые тени, несся гогот как от тыщи чертей, а впереди, куда он зашагнул было, все омертвело под пепельным саваном повергнутой в облака Луны. Ничего этого рыжий, конечно, так тонко не переживал, все еще пребывая в золотом дурмане, но золото вдруг осело горечью на нёбе и – слишком громко, точно перекрикивая мертвящую тишину, – он кликнул дружка севшим, фальшивым голосом:
– Удобства-то с другого боку, мастер Гэль! Куда же вы в самую колючь?!
Рыжего Джеб убил сразу – еще тот досипывал фразу, еще выдувал искристое облачко пара, словно хмельную душу, еще скрипела перепуганная половица под кожаным сапогом, а смерть уже расколола его висок темным зубрием уверенно брошенного кинжала. Сполох пьяного смеха, выплеснувшийся из глубин трактира, кстати заглушил звук падения: слышен был только слабый шелест-хруст, как будто тлеющее в очаге полено таки подломилось. “Поделом же старому шаромыге”, – пробормотал Джеб с неожиданным чувством.
– Тебя бы, дядька, так прихватило, – отозвался звенящему еще в ночи вопросу рыжего ломающийся дискант: нотка бодрости, нотка обиды, нотка стыда – вся гамма подростковых эмоций. Затем раздались треск веток, шуршание и топотание, облегченный выдох, – исполать, мастер Гэль натянул-таки штаны. Вновь выглянула Луна, а за ней и белесая макушка опять беспечно заплясала над кустами…
“Гэль! Что за имя-то несуразное. Эх, молодо-зелено!” – покровительственно оскалился Джеб, звериными шагами-прыжками подбираясь к темной купе. И еще ухмыльнулся, по-доброму потчуя затылок недоросля каленым кастетом: – “Чай, до свадьбы заживет!”.
1
Наперво мне снились тишина и темнота, в которых я плавал и ворочался, аки нерожденный. Позже привиделось, и весьма явственно, что кто-то упорно светит в глаза огромным оранжевым фонарем, бьет что есть мочи по лицу огромными же – пожалуй, с парадную тарелку! – холодными ладонями и кричит пронзительным голосом, поминая весь небесный пантеон: “Вставай! Бодрись!”…
Неужели продрых молитву в ликейоне? Я поспешно размежил веки…
Вот чудеса! Меня отчаянно хлестал по щекам плосколицый веснушчатый малец с голубыми глазами по восемь севов, истово бубнящий церковный чин:
– Поднимайтесь, сударь. Пожалуйста, поднимайтесь! Во имя Голоха, защитника нашего, и супруги его Метары…
Лучи солнца, которое таилось за затылком парня, обрисовывали вокруг его головы нечто вроде нимба божественного присутствия, точно Метара и впрямь проявила легкий интерес к происходящему.
Ах, не ликейон! Но, видимо, каникулярный день? Все это меня изрядно веселило. Я пребывал в чудеснейшем состоянии, какое бывает лишь в детстве: когда сам ты практически невесом и легко паришь по окружающей действительности, удивляясь любому ее цветку. Я с довольством отметил, что веснушчатый мальчишка (мы таких дразнили рябчиками) ведет себя недостойно, весьма несдержанно, и вот-вот разноется в ручей, тогда как сам я наконец-то абсолютно собран, спокоен и ах как великодушен. Мысли мои были столь быстры и проницательны, вы не поверите, что я заранее улыбался еще не сказанному каламбуру. Мальчишка просит привстать? Стоило ли отказывать малому в столь малой просьбе? Ахаха! Тут я со снисходительным интересом отметил, что не совсем помню, как же это делается, и мир перевернулся: солнце с головою зарылось в лопухи и разбилось в росную россыпь.
Второй раз я очнулся в неком трактире, впрочем, вполне требном, – судя по помпезному очагу из грубых каменьев в центре и ломаному полукругу длинных, изъязвленных кинжалами деревянных прилавков. И сейчас же яркое воспоминание-видение затрепетало в голове, подобно мотылю, пробужденному ото сна. Представлялось, как гудит-беснуется в очаге окованный камнем огонь, как камни сии раскаляются докрасна и яро шипят, если горластый шутник нет да и плеснет на них остатки горького эля из кружки, как слюдяные оконца отражают сию краснотищу и жар обратно в пивной зал, так что разогретые едоки, вовсе дурея, пускаются вокруг очага топтать плясовую. Да! А в очаге – грубо нарубленные вязовые сучья той-дело встрескивались, дрожа… будто всяк из них, оберегая закопчёный бок, норовил трусливо отбиться в угол, но трактирщик-погонщик небрежными тычками мыкал их обратно. Но щас зал был пуст и выстужен, слюдяные оконца блекали тускло, а прямо в очаге, выгребая золу чуть не сопаткой, орудовал давешний плосколицый малый.
Тут из-за шишки очага донесся какой-то шур-шур, всплеск сладкого смеха, и милая румяница выбежала ко мне с медным тазиком парной воды:
– Позвольте, сударь, промыть вашу рану?
– Merci, merci… Чем имею честь? Что же?.. – Я вскинулся было вопросничать, но комната как будто закружилась вокруг ее ясного личика. Я не совсем понимал, что происходит, но девчушка мне с ходу приглянулась.
– Но сударь, ваша рана, такая беда! Изволите ли минутно пригнуться? – Ах, она была вся в прелестном женском нетерпении, вылитая моя сестрица! Знаете: стоит той вбить какую-то заботу в кудрявую головку, и серчать бессмысленно, ведь любые резонации кажутся ей ничтожными!
Тут по-прежнему крылась большая неясность – что же стряслось и с кем, что за пустые отговорки? И крутился на языке не менее животрепещущий вопрос: с кем-то гризетка-плутовка там обжималась? Но пришлось кивнуть ей с дворянским небрежением и, подложив под занывший лоб руки, упереться губами в пахнущий сладким элем стол, пока прислужница мягко ерошила мне затылок теплыми пальцами. То она щекотала шею оборками тонкой холстяной робы, то, сквозь робу, касалась плеча твердеющим соском – это сбивало с мысли не хуже пинты темного! – но едва я разнежился мечтами, как, глухо ворча, явился сам трактирщик – долгопалый бородач, способный уморить не одну райскую птичку одним кислым дыханием. И моя, конечно, немедля упорхнула!
Трактирщик же оказался обрядником, что было видно по его пестрому хитону. Пестрому не цветом, но обилием тщательно вышитых синей нитью сцен, по всем двенадцати деяниям! Есть же такая безобидная заморская секта, мне ли не знать, в ликейоне на богоправии нас мучали ими целый семестр. Вот и трактирщик был нуден и несносен, утомил меня совершенно. К тому же, зудействовал этаким покровительственным тоном, которого даже наш декан себе не позволял, да еще для выразительности прищелкивал сухими пальцами:
– Изволите ли чувствовать улучшение, мой сударь? Разумеется, я немедля выслал мальчонку за стражеским дозором… ну бишь, когда заметили эка поддувает в бочину. И вашенского рыжего компаньона утележили еще тепленьким, так сказать, уж поверьте мне. Или, печальнее сказать, уже тепленьким. Кхм. Наше вам сочувствие и молитва! Но беда-с, что по тьме-то за орешник и не глянули, где вы, так сказать, столовались…
– Ради Глаха, сударь! – воскликнул я раздосадованно, ничего не понимая в его болтовне. – По-вашему, я белка? – Замечание мне показалось весьма смешным, и я даже скорчил беличью морду, но трактирщик стушевался, всплескивая руками:
– Я же от чистого сердца желаю помочь молодому сударю. Ибо, ежели нет авуаров в купеческом доме, то ведь обнесли дочиста!
– Да какому молодому сударю? – я схватил уже трактирщика за пестрый рукав, пытаясь встряхнуть, да куда там! Глаза его… глаза его в тусклом свете будто закатились и желтели одними белками. – Вы мне ли? Я не брезжусь с торгашами! Эй вы! Послушайте, вы прямо как рыночная гадалка, которая не остановится тордычать, не закончив пророчества!
Я не знал плакать или смеяться. Но трактирщик, как и все обрядники, шуток не принимал и продолжил сердито:
– Потому что куда теперь молодому сударю? Куда же? – ах, кажется, он и впрямь тщился докудахтать заявленную речь? Это я легко мог себе представить. Небось, заранее тренировал аргументы на кухарке, потому-то постоянно и сбивался на третье лицо? Так и докончил с ревностным нажимом голоса и еще раз прищелкиванием перстов: – Но ибо есмь искренний скрижальный человек, то готов приютить и по дому как раз бы временный помощник…
Ах! Верно ли я понял сего наглеца, каждое второе слово сдабривавшего тухлой отрыжкой?
– Послушайте, сеньор святоша! Что-то вы расщелкались! Позвольте мне, как говаривала моя почтенная кормилица, сложить мысли в пучок и без обиняков их вам разжевать! – я привстал с любезной улыбкой, опираясь на пошатнувшийся прилавок… Да и комната будто закружилась, сводя с ума, но не праздновать же труса? Я высказался, медленно разжевывая слога, точно скармливая их, посчетно, тугому борову:
– Я дво-ря-нин!
Ай да обиняк! Твердые слова будто бы и миру вернули твердость. Трактирщик, понятно, залебезил, дыхая мне прямо в лицо еще новыми дурными ароматами:
– Да не обиделся бы мастер Гаэл, да верно ли мастер Гаэл хорошо себя чувствует?
Да не объелся ли он сам, с утра-то, квашеной капустцы?! Ей-ей, о ком он все талдычит? Я все-таки не совсем его понимал. Пусть-ка сам разбирается со своими постоялыми собутыльниками! Пришлось выразиться еще прямее, в расчете на прямую извилину собеседника. И пресмешно же вышло:
– Сударь, отобедать с вами я не смею! Благодарю! Дела-с!
Верно кажут – простолюдие страсть как любит, чтобы его величали сударем. И мошенник эка заважничал, зафамильярничал – бросил торжественно, свысока бороды, даже не слишком расходуя отрыжку:
– Ну, ступайте, ступайте, высокий сударь. Было бы предложено, долг мой исполнен, и от души! Дай Голох здоровья!
Ах, я даже не стал тратить на него последнее слово! В ликейоне меня высекли бы за подобный диспут, но каникулы же? И легко – наконец на чистый воздух! – выскочил было, да чертовы дверные створы оказались лишку тяжелы для моей легкости. Но с подмогой подскочившего плосколицего…
Солнечные лучи едва не пожгли очи. Я прикрылся ладошей. В ушах звенели голоса. Почудилось, что, отражаясь от закопченых оконец, от мутных ночных луж, все политические новости, все местечковые сплетни превращались в пытливые искорки света, мельтешащие перед слезящими глазами… Постепенно зрение прояснилось: да что же это? Чуть ли не зеленокожие химы, которыми кормилицы пугают детей, просеменили мимо, разноречиво горлоча. Или солнце отпустило еще одну цветастую шутку? Порывшись в тайном кармашке куртки – пусто! кажется, надлежало бы кинуть плосколицему служке хоть зазеленелую медяшку, эх! – я панибратски буркнул merci, неуверенно махнул рукой и, перезапнувшись раз-другой, обнаружил себя в середке бурлящей улицы. Так вот, увлекаемый водоворотами квартальных интриг (вздорных соседских склок, приветствий с размашистыми хлопками по плечам да тычками в бока – да вы знаете, каково бывает, тут и к обеду до угла не доклячишь) я побрел, полный зевака, незнамо куда, незнамо зачем. На каких-то горелых развалинах стайка плохо одетых и чумазых уже ребятишек пыталась играть в прятки, рассчитываясь. На сохранившейся чудом штукатурке кто-то уже начиркал углем неприличное граффито… Ах, почему и весь мир казался мне карикатурой? Кажется, я действительно был чем-то болен? Но не возвращаться же к трактирщику поваренком?! Так я и побрел, потерянно твердя под нос только что подслушанную детскую считалку: “Это город, в нем живут герцог, стражник, баламут, лекарь, пекарь, поп и плут. Кто в нем я, что я за люд?”.
Вывеска гласила так: “Эл и Пирси”. Буквы были важные: золоченые, с завитушками и оттенением, так что необученный долго бы шлепал бестолково губами, напрягал морщиной лоб и выскребал перхоть из затылка, не в силах понять их склада. Дальше разъяснялось: “Робы и Хламиды. Кафтаны и Камзолы. Прочее”. И здесь тоже крылся расчет на господ с изыском: каждая литера рядилась в соответственные миниатюрные одежды – все робы обернулись куртуазно в розовые полупрозрачные платьица, а семеро камзолов натянули блестящие, иссиня-черные мундиры. Низ вывески украшали заманные иллюстрации грядущей жизни клиентов; тщательнейше, до последней нитки выписанные костюмы, посыпанные при росписи слюдяной крошкой, дабы блеск их вовсе не мерк, полупрозрачные камушки, вкрапленные на места благородных камней в рисунке, – ох, буквально приворожили меня, прервав безвольное кружение по базару.
На центральной сценке богатый кровь-с-молоком кавалер любезничал со смущенной дебютанткой. И восхищала в таланте художника можность мелкими деталями передать прохожему зеваке нечто нетленное – жизненную ауру сих неживых персонажей. Каким не ведающим слова “медь” достатком веяло от серебристого орнамента на вязаных гетрах мужчины! А кованые металлические пуговицы на них вместо банальных тесемок?! И какой таящейся удалью осеняла хозяина фигурка ловчей птицы на церемонной придворной шапочке: пусть сокол смирён и обучен командам, пусть он пока в клобучке, но берегись, добыча! Ужо тебе!.. У девицы же в темную гладь волос под широкими полями плетеной шляпки, укрепленной позолоченными булавками, были вживлены художником еще некие игривые золотинки: угадай вот, то ли пустые искорки солнца, проскочившие сквозь соломку, то ли любовный пламень, как по соломе разгорающийся в дотоле бесстрастной девичьей душе? А ее теплая белая хламида, вдруг наполнившаяся нежно-зелеными переливами от заволновавшейся муравы?!
Но собственно лица были выписаны слабо – телесного цвета пятна, штрихи да полутени, – так что, мысленно воспарив из грязного дорожного прикида, я легко представил там себя. Щурясь на резком, вышибающем слезу ветру, я тщетно ловил ответный взгляд красотки: волнующиеся поля шляпки открывали только дольку щечки, на глазах розовеющую. От свежего ветра, от смущения ли? И еще манил узор на ее робе (и как доселе не разглядел?) – былинный алый пимпернель, вешний цветок, гнущийся стеблем на складках ткани, но вдруг процветший сквозь них, словно сквозь плен девичества, и обещающий… Что и кому? Ах, что за магия?
Но зычный голос какого-то базарного раскупчика вдруг полез мне в уши, размашисто расталкивая волшебные звуки картины:
– Эй, деревенщина! Не разевай-ка зенки попусту! Ба, что я вижу? Стой! Раскрой ладушки – и я отсыплю-те десять монет за порты столь невиданного фасона! Гляди-ж-ка, а мечты твои наслюнявили тебе пригоршню блестящих левов! Откуда же ты, такой карасавчик? Кевлар? Не-е! – ах, я уже откровенно морщился от его криков. О Глаше! Он такожно выговаривал “не”, будто ржал вживую: – Не-е, те мужское достоинство меряют бахромой на лампасах и тебя, друже, они сочли бы природным скопцом! Ха-ха-ха! И ты не из Авенты, ясен гульфик, ибо тем лавласам твой грубый пенал натер бы всю промежность! Ха-ха-ха-ха-ха!
Поневоле причудился – чуть не за шеей! – эдакий торгосвищер в пестром кафтане, потыкивающий сальным пальцем в раззявившегося на местные прикрасы бедолагу.
– Pardon, mademoiselle, – неловко расшаркавшись перед девой, политесно замершей в знак повиновенья, я живо обернулся: неужто товарищ по несчастью? Помочь ли? Но увиденное казалось еще одной фантазией. В какую же потустороннюю историю я попал?..
Дом с вывеской продолжался направо этаким широким подиумом: дощатый щеластый настил под косым навесом, стланым выцветшей вихрастой соломой. Но опять с претензией – с перильцами и лавками вдоль них, позволявшими созерцать широченный цветастый половик в центре… Хотя, не такой уж и цветастый: длинная плешь свидетельствовала о регулярно даваемых лицедействах. Но как и все утро шло наперекосяк, и тут все было наизнанку: на той авансцене, возвышенной над партером площади, двое актеров важничали за всю труппу, потешно изображая толстосумов разного настроя. Один – пузоватый приземистый сударь в знатном кауром кафтане (не с железными пуговицами, ладно, но с костяными уж наверно!) – безлично пялился прямо на меня, поковыривая в зубах острой щепой и смачно сплевывая в партер, чуть не на сапоги, ей же ей! Второй же как раз – точная копия первого, но в кафтане более светлого колёра, – активно скоморошничал… Кажется, я и рот раскрыл аженно-саженно от изумления его искусством. Актер бегал судорожно вдоль противной стороны террасы, смешно спотыкаясь той-раз о малость недобитые до нуля клинья (я-то сходу заметил: доски-то свеженькие, еще перестилать их после усушки!), вздымал стало быть руки и вообще горнольствовал перед совершенно пустой аудиторией – ибо площадку снаружи покрывала мутная лужа с размятыми в грязь берегами. Прохожий поток, голохясь и толкаясь, умело обтекал ее, издали косясь на вспотевшего оратора и ехидно лыбясь. Актер же – к чести его искусства – пустой грязной лужи и гнусных химских ухмылочек в упор не чуял, а только выражался с еще большим апломбом. Так что натурально чудилось: да где-то рядом он, тот бедолага, адресат послания, надо лишь оглядеться попристальней. Мнимый купчик меж тем, вобрав в легкие побольше воздуха (да еще за щеки прибрав по довесочку – ну чистый торгаш! брависсимо!), продолжал – то возвышая голос в басы, то артистично снижая до мечтательной вкрадчивости, маня и ошеломляя:

