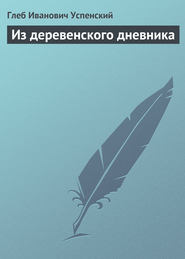 Полная версия
Полная версияИз деревенского дневника
Уж ежели на этом строить радующие и радужные теории будущего, то какую блистательную будущность должен я предсказать так называемому гнилому Западу, на основании следующего факта: один гнилой западник, с которым я ехал на омнибусе в проливной дождь, проехал лишних три или четыре длинные парижские улицы (тогда как ему давно надо было слезть) потому, что у меня не было зонтика, и он держал свой зонтик надо мной! Если прибавить к этому, что проезжающих в Париже будет несколько более, чем там, где ездил автор вышепоименованной статьи, что они не составляют предмета развлечения и что, наконец, человек этот сделал доброе дело не от нечего делать, а в силу сознания какой-то обязанности, то во сколько раз этот поступок будет выше поступка «одного из славных русских лиц», воспеваемых автором. Да и, кроме всего этого, меня, признаться, берет сомнение насчет одного обстоятельства: мне почему-то представляется, что при этих обоюдных симпатиях барина и «славного лица» дело едва ли обошлось без мелочи, так что-нибудь вроде двугривенного… Право, должно быть что-нибудь тут непременно промелькнуло, какое-нибудь «с вашей милости», или просто так: «на, мол, тебе, спасибо!» и, конечно, «благодарим покорно!»
Очень может быть, впрочем, что я и ошибаюсь. Я согласен, что иной раз в кармане не бывает мелочи, и тогда непосредственное чувство проникает насквозь без всякого гонорария… Но и тогда непосредственное чувство все-таки никак не может служить характеристикой народных доблестей, и строить на нем одном что-либо прочное и величественное для будущего не представляется никакой возможности.
Судите сами: среди площади, на сельской ярмарке, происходит драка, толпа окружает дерущихся, так как такие явления вообще редки, и посмотреть на них любопытно. Но посмотрите, что делает это же самое непосредственное чувство, проникающее насквозь…
– Хорошенько его, хорошенько! – раздаются голоса. – Рыжий! Рыжий! в бок его, лысого, суй. Суй его по боку-то, по боку-то… Эй, лысый, не плошай! Дуй его, рыжего-то, в сусалы, эх, прозевал, – и т. д. И что ж! Благодаря этим советам людей посторонних, собравшихся посмотреть на битву от нечего делать, уже и в самом деле насквозь пробивают бока, причем не обходится без смеху, также безыскусственного.
Вот на таких-то тоненьких, как пленка кипяченого молока, как папиросная бумага, фактах стали выстраиваться в литературе добродушные, милые взгляды на народ. Можно даже сказать так, что литература стала строить народу глазки. «С этаким-то сердцем (и тут факт: один мастеровой дал закурить папиросу и не спросил за это на водку), как у такого народа, да это что ж такое будет!» – на разные тоны возглашали народные любители и плодили таких любителей в публике. «Народное горе», горе темного царства с Тит Титычами и Катеринами, горе сел, дорог и городов[34], горе деревенской избы, деревенской женщины, горе лошадиного и бесплодного труда, горе бесплодных страданий, и т. д., и т. д. – все это исчезло из области литературного внимания, пошли в ход «славные» лица, молодцы ребята, непосредственное чувство, непочатые углы смиренномудрия и целомудрия и т. д.
Особенно удобно, для всех не желающих унывать, это неправдышное направление было тем, что, рассуждая и хваля, оно не брало почти никогда фактов из текущей действительности. Факты эти были в изобилии, но они обыкновенно ставились без всяких комментарий, случайно, как обгорелые пни на цветущей долине лжесвидетельства. И замечателен еще маневр, проектируемый этим миловидным направлением: всякий раз, когда дело касалось положения народной мысли, всякий раз, когда простых, бездоказательных выхвалений оказывалось недостаточно, а необходимо было дать читателю нечто осязаемое, представители направления ловким маневром устремлялись в глубину истории… «Как так, – говорили они: – русская народная мысль не действует, не живет? Кто это говорит? Кто говорит, что раскол, например, похож на старый сапог?» И для того чтобы показать, что этот сапог не стар, современная его дряблость начинала освежаться давно прошедшей жизненностию происходивших в нем явлений, и выходило не только хорошо и умно, а, прямо сказать, блистательно, до того блистательно, что, глядя на стоптанный сапог, невольно думалось: уж не во сне ли я?..
Удивительно миловидное вырабатывалось направление: скользкое, как налим, ускользающее от всякого подозрительного рассмотрения, и в то же время жирное, приятное, как налимья уха!.. Оказывалось, что мысль народная не только не мертва, но, напротив, живуща, бурлива… Правда, бурлит она там где-то, невидимо, но это и хорошо, пусть ее копается в своих подземных дырах, не мешайте ей, вы только испортите! Вы интеллигентный, гнилой человек, наживайте себе деньги, получайте оклады, но, ради самого создателя, не трогайте народ, не суйтесь к нему с своим «головным» недугом… Ради самого бога!..
—При таком-то странном взгляде на русский народ, когда стали восхваляться разные качества этого народа, независимо от условий, в которых им приходится развиваться, мои деревенские заметки, разумеется, должны были произвести весьма неприятное впечатление: читатель только что было изобрел средний, сочувствующий меньшему брату и ни к чему не обязывающий взгляд, только что успел поуспокоиться, и вдруг, вместо милых «деревенских домиков», вместо «славных русских лиц» и т. д., являются какие-то шершавые, корявые, плохо пахнущие деревенские картины, хотя не было сомнений, что лица у всех этих не понравившихся читателю людей были – лица славные, симпатичные, хотя и сердца у них были чудесные и непосредственного чувства было много. Я не отрицал ни единым словом всех этих прекрасных качеств, я только хотел сказать, что качества эти, воспитываясь в известной школе, могут принять то или другое направление, что и в доме Вяземского; на Сенной[35], родятся, и живут, и развиваются невинные дети, но что условия, в которых находится этот дом, невольно направляют нравственные и умственные силы невинного, симпатичного, талантливого ребенка по известному направлению. Люди, нападавшие на меня, умалчивали о месте, в котором помещается материал, а толковали только о том, что материал этот превосходный; я же, не отрицая превосходных качеств материала, хотел только сказать, что именно происходит с этим материалом и в каких условиях он находится. Вот и вся разница.
Пренебрегать условиями, в которых живут русские люди, полагать, что добрых качеств русской души не могут изменить никакие внешние давления, – нет никакой возможности. Вся история с Сербией, очевидцем которой пришлось быть и пишущему эти строки, как нельзя лучше доказала в конце концов, что школа, в которой воспитывается русский человек, уже пожинает плоды своих усилий. Разносторонность, разнообразие природных качеств и навыков, которыми вообще русский человек блистал перед иностранцем, тем не менее вовсе не препятствовали тому, чтобы из самого широкого, свободного, обставленного всевозможными удобствами проявления этого разнообразия не получился бы в результате такой скучный нуль, какой получился. В русском человеке есть все, только он сам не знает, что именно ему-то самому нужно, и от этого он способен исполнять решительно все…
В виду огромного значения, которое имеет система воспитания, в виду уже получившихся результатов этого воспитания нельзя было не обратить на нее внимания и при изучении деревни. Ошибка моя состояла в том, что я в моих заметках показывал большею частию только результаты. Вот муж, продающий жену, вот человек, желающий только набить карман, а зачем набить – разберемся после и т. д. Читатель, также не обращавший внимания на систему воспитания и принесенные ею плоды, не мог быть доволен этими невеселыми картинами, увлекаясь славными лицами и непосредственными чувствами. Между тем, зная педагогические условия, в которых находятся эти непосредственные чувства, а главное, зная, что в деревне не только нет даже тени чего-нибудь равносильного этим условиям в смысле отпора, читатель, может быть, не так бы негодовал на непривлекательные поступки некоторых деревенских обывателей и, пожалуй, разглядел бы, что и у мужа, продающего жену, тоже одно из славных русских лиц. Недавно вот было напечатано в газетах, что арендатор одной мельницы подговорил своих рабочих убить, покончить с хозяином, у которого он эту мельницу арендовал. Чтобы склонить рабочих на свою сторону, он дал им на пропой по четвертаку и обещал двадцать пять рублей, когда дело будет кончено. Дело было кончено успешно в ту же ночь, и я покорно прошу объяснить мне, какую именно роль в этом чарующем значении четвертака играет незначительность надела, обилие налогов или недоимки и т. д. Нетрудно видеть, что принять грех на душу и за двадцать пять рублей не было никакого резону, потому что эти двадцать пять рублей вовсе не такие деньги, чтобы на них можно купить земли, уплатить подати, словом, «поправиться». Словом, никакими корыстными, экономическими, даже политическими соображениями объяснить такое явление невозможно, если не обращать внимания на педагогические условия русского народа. Признаемся, нетрудно догадаться, что ребята, которые услужили г. арендатору за четвертак, – суть именно те же самые славные лица, которые с такой заботливостью укутывали ноги господину проезжающему. Непосредственное чувство играет в обоих случаях одинаковую роль, подчиняясь в первом случае состраданию к промокшему проезжему и желанию рассеять скуку, а в другом желанию – не убить, нет, боже сохрани, – а просто желанию выпить… Хозяин, очевидно, знал момент, когда завел речь о четвертаке, – и, благодаря водке, все это каким-то образом и произошло.
Итак, в каких же собственно педагогических условиях находится в настоящее время деревенский житель, и главным образом молодое деревенское поколение? Сравнивая прошлое с настоящим, с уверенностию можно сказать, что крепостное право, несмотря на всю свою беззаконность, имело перед теперешним полноправием одно несомненное преимущество, именно искренность этой беззаконности. «Что хочу, то делаю» и «ты мне подвержен» – эти два положения, управлявшие русскою деревнею, были до такой степени всем деревенским жителям явно беззаконны, что решительно не было никакой надобности заподозривать в отношениях к помещику какой-нибудь подвох. Дело было совершенно ясное; оставалось только изучать владельца, изучать его повадки, прихоти, привычки… Хоть и не всегда помещик представлял собою предмет, достойный изучения, тем не менее крестьянской мысли была работа, было о чем подумать, а главное, была некоторая мирская связь в виду одинаково над всеми стоящего беззакония. Благодаря этой мирской связи одинаковость условий могла иной раз даже крепко сплачивать крестьянскую среду, могла сосредоточивать деревню на каком-нибудь намерении и т. д. Нет сомнения, что порядки были безобразные, но безобразие их было явно, просто, бесхитростно. Теперь не то. Теперь деревенский житель опутан каким-то туманом, сбивающим неопытного человека с толку и пути. Теперь деревенского человека уверяют, что он так же свободен, как и помещик, говорят ему, что он сам управляется с своими деревенскими делами, словом, как будто поднимают его из ничтожества и как бы даже желают, чтобы он не слишком робел, встал бы на ноги, оправился… А между тем во всех этих, повидимому самых гуманных заботах, одновременно с ними, переплетая их тонкою, но цепкою нитью, тянется какая-то нескончаемая фальшь и даже лицемерие. Деревню, например, уверяют, что в своих личных делах она такой же хозяин, как и помещик, – и точно, деревня является самостоятельной единицей, когда платит повинности. Но вот помещик поехал в город, заложил имение в банке, привез деньги, прикупил земли; а попробуй сделать ту же операцию деревня, – ей не поверят денег так, как поверили помещику… Крестьянский мир уверяют в том, что он самоуправляется, что в его домашних делах никто ему не помеха, а между тем сельского старосту – о значении которого для деревни читатель может судить из рассказа об Иване Васильеве – может сменить непременный[36] член, то есть человек, совершенно миру посторонний, ничего в деревне не знающий и не понимающий. Деревню убеждают заводить ссудные товарищества, дают ей денег, говорят, что это ее облегчит, поможет и т. д. И с виду как будто бы оно так и есть, – а попробуйте как следует изучить устав[37], который составляется не в деревне, и вы решительно будете не в состоянии решить вопроса о том, например, в каких размерах надо выдавать ссуду: в одном месте сказано, что можно выдавать в три раза против суммы внесенного пая, и, узнав об этом, член товарищества говорит: «Вот это ловко! Хорошо! От эвтого польза будет!» А тут же рядом весьма категорически объявляется, что можно выдавать только треть, то есть на три внесенных рубля как будто можно выдавать и девять рублей, и в то же время нельзя дать больше четырех… В первом случае крестьянин рад платить по копейке с рубля – он получает, кроме своих трех, еще шесть рублей лишних, – а во втором ему, кроме своих трех, приходится получить только один рубль лишних денег, а платить надо и за свои же собственные деньги три копейки, то есть делать нечто невозможное: платить проценты за собственные свои деньги!..
Вот такою-то гуманностью проникнута вся почти современная педагогическая система деревни. С великим трудом, путаясь в этих правах, натыкаясь на плетни, преграждающие путь к этим правам, спотыкаясь и недоумевая на каждом шагу, деревенский житель, стремящийся доподлинно узнать, в чем же дело, что ему можно и что нельзя, встречает сухой, мертвый взгляд педагога, вместо ожидаемой, по сладости речи, симпатичной, доброй физиономии.
Человека десять недель бьет лихорадка; у него нет денег, чтобы съездить в город взять лекарства. Хоть есть в деревне богач, который дает ему, разумеется за громадные проценты, денег, чтобы вылечиться, поправиться, но крестьянин не возьмет денег на свое лечение; а вот на подати – возьмет, за какой угодно процент. Можно кончить вином на мирской сходке какие угодно личные крестьянские дела, недоразумения, даже преступления, но преступления против педагогических требований – нельзя.
Настойчивость, неуклонность, с которыми предъявляются деревне эти требования, сделали то, что, заполнив собою современные крестьянские учреждения, они уже значительно изменили и те порядки, которые созданы были когда-то самою деревней. Так, восхищаясь общинным землевладением, этою удивительною точностию, достигающею аптекарского совершенства при дележе общественного имущества, – нельзя оставлять без внимания тех изменений первоначального идеала, которые произошли вследствие преобладания в крестьянских понятиях важности не просто людских, своих интересов, а интересов совершенно посторонних. На справедливости, обнаруживаемой деревнею в распределении общественного имущества, нельзя уже строить особенно пленительных фантазий насчет справедливости деревни вообще к человеку, нельзя уже уверять себя, что у нас «всякий» равен «всякому», так как слово душа, фигурирующая в общинных дележах, имеет уже особенный, установленный педагогической системою смысл и вовсе не означает души и человека, обладающего ею вообще. Ведь вот Федюшка оказался не имеющим души. Ни в водах, ни в лесах, ни в полях, составляющих общественное имущество, ему не принадлежало ни сучка, ни рыбки, ни лоскута земли. Да и не один Федюшка, безродный и сирота, не имеет права считаться душою. Самое деление семьи на едоков (в иных местах на вопрос: сколько у тебя человек семьи, отвечают: «Да ложек с восемь, али, пожалуй, с девять наберется»), работников и душ деление, принятое во всех вопросах, касающихся общественного имущества, указывает уж, что душа имеет в деревенских порядках не подлинное, а искусственное значение. Шесть человек семьи, при одном работнике, имеют две платежные души, – это значит, что из шести человек только двое вкушают прелести переделов, а четверо сидят на шее двоих. Или: старуха с дочерью и внучкой – эти три существа, не имея работника, не могут уж считаться в числе душ, и, таким образом, все трое не участвуют ни в лесах, ни в водах, ни в землях, а мерзнут от холода и побираются христовым именем. Умри в семье, при шести человеках, работник, как представитель «души», – и все шесть человек делаются бездушными. Таким образом, выходит, что если в той или другой деревне считается, положим, пятьдесят душ, то это не значит, чтобы и было действительно пятьдесят; пятьдесят – это патентованные, в действительности же деревня наверное имеет подлинных человеческих душ втрое большее количество, которое, однако, не пользуется общинными благами.
Теперь прошу представить себе положение деревенского человека, который понял порядки, среди которых он живет. Не почувствует ли он себя одиноким в этой общине, и не мелькнет ли у него мысль уйти отсюда туда, где полегче, где поинтересней и посправедливей? Представьте себе к тому же, что человек, сообразивший педагогическую механику, настолько еще не одеревенел, что жалеет, положим, своего ребенка, не хочет, чтобы тот умер как-нибудь случайно, «горлушком», как умирают на его глазах сотни детей ежегодно, не хочет, чтобы его, такого милого мальчика, колотил палкой какой-нибудь фельдфебель, чтобы его сек этот мир за баловство, за неплатеж повинностей, – и вот является желание добиться денег, нажиться и уйти. Уйти из этих условий необходимо, потому что сделать мирской вопрос из этих погибающих детей, из этих сечений, из этих фельдфебелей – нет никакой возможности. Таких вопросов деревенский мир не касается, всякий подавлен им в одиночку и уже утратил веру в то, чтобы вопросы эти могли когда-нибудь быть достойными общественного внимания. И вот желание выйти порождает желание добиться средств, и в человеке талантливом, даже сердечном, который понял свое собственное положение, – начинает зарождаться кулак, сначала во имя полного нравственного одиночества, а потом, со временем, и уж просто во имя наживы. Там, где – как говорится – «не за что взяться», можно продать барину и жену – лишь бы выбраться на божий свет; там же, где хороша земля, где природа не обидела человека, умный деревенский человек, выбивается в люди и не покидая деревни. Так как особенно строгой нравственности система от деревенского человека не требует, то бесцеремонность в средствах людей, не желающих оставаться в дураках, доходит до поразительнейших размеров.
Образование этого класса людей, этой аристократии современной деревни, делает положение простого мужика еще более трудным и еще более суживает размеры его мысли. Наряду с трудом для удовлетворения посторонних интересов он не меньше трудится и на аристократию деревенскую; благодаря этой аристократии несовершенные формы современного общинного землевладения изменяются еще более. Вы видели, что дележ земли и без аристократии довольно неудовлетворителен; аристократия делает то, что многие из признанных за души душ принуждены уступить свои владения богатеям, причем иной властвует наделами пяти-шести человек. Судите же теперь, много ли настоящих хозяев в деревне, если исключить из общего числа живых деревенских людей все, что не имеет и по закону права пользования землею, и вообще если вспомнить все, что по поводу этого было сказано выше.
Значительное большинство крестьянского населения благодаря вышеприведенным обстоятельствам все более и более теряет между собою свою мирскую связь, так как все более и более чувствует трудность личного своего положения. Дележ двухсот рублей, взятых с кабатчика, между душами (конечно, только законными) лучше всего доказывает, до какой степени вымерла мысль о дружном общественном хозяйстве и внимании: у всякого много своих забот, и всякому нужны свои два целковых, тогда как те же двести рублей дали бы миру около двухсот же десятин земли (в соседстве, в удельном ведомстве, отдаются земли в аренду по 1 руб. – 1 руб. 25 коп. за десятину) и десять десятин дровяного и издельного леса. Каждый видит, что надежда только на себя, и сообразно с этим живет изо дня в день. Интересуясь двумя рублями, потому что они попадают ему прямо в руки, он вовсе не интересуется своими собственными сотнями и тысячами, которые растрачиваются разными старшинами и писарями, не интересуется потому, что все равно из этих денег никому не достанется ни копейки.
К главе I
Рассказывал мне[38] один слепинский мужик такую историю про старого барина, или, вернее, историю своей конюшни…
– При старом еще, при дедушке, тоись, нынешнего-то барина, Миколай-то Миколаича… При старом, стало быть, Миколай Миколаиче… Пошел к нему мой дедушка леску попросить: конюшню надо, мол, строить, Миколай Миколаич. А у нас скота было – слава богу. Убрались мы с хлебом к успенью, спешит дед к осени с этой конюшней. А уж и холодки пошли. Дедушка скотинку берег, не давал ей зябнуть: бывало, чуть не вся изба зимой набита скотом – про сенцы и сараи и говорить нечего… Вот он и пошел к барину, чтобы разрешил леску. «На что?» – «Конюшню хочу строить!..» – «Возьми!» Принялись мы рубить, возить, пошла у нас стройка живым манером. К покрову все начисто обладили, покрыли – и скотину ввели. И конюшню-то вывел дед – дворец! Почитал он скотину – это что говорить: такой покой ей уготовал – на! Вот, хорошо. Вчера, так надо быть, поставили мы в конюшню скотину, а нониче (будем так говорить) случилось мимо нас барину ехать… Глянул так-то: «А! Что такое? Чье?» – «Наше, – говорит дед: – конюшенку, батюшка, вашими милостями выстроили». – «А спрашивался?» говорит. – «Как же, батюшка, спрашивался, это, то есть, насчет лесу…» Помычал что-то барин про себя, а наутро, только что было умылись, помолились – хвать, подъезжает к нашему дому двадцать четыре подводы. – Что такое, зачем? Господи помилуй! – «С господского двора, свозить конюшню, барину понравилась…» Туда-сюда – и боже мой, и на глаза приказчики к барину не пускают… Что будешь делать?.. Свезли, сломали… А уж заморозки пошли настоящие, так что и совсем морозы по ночам бывали… Ревет скотина. На дедушке лица нету… кипит у него ретивое… Опять идет к барину, опять в ножки… (что было-то!) Само собой – леску! Дал, и так, что еще больше дал, чем в первый раз… Опять мы принялись топорами звонить, и опять вторая конюшня поспела. Вывели мы, братец ты мой, эво какие палаты, обомшили и оконопатили – чистый рай для скотины… вверху сена вали хоть тысячу пудов. Любил скотину дедушка, берег покойник, дорожил… Недели не прошло, опять едут разбирать… Фу ты боже мой, что такое! Уж тут дед себя не помнил, взвыл, как волк, ощетинился – чисто зверь!.. «Понравилась»… да и шабаш. «Да, господи помилуй! – говорит дедушка: – ай у барина-то лесу нету. Пусть прикажет, такие ли мы ему хоромы выведем… Уж что же это такое завидовать мужицкому добру?» Лютовал дед и убивался, а и вторую конюшню таким манером сломали и перевезли на барский двор. «Ну, – сказал дед: – уж в третий раз не пойду кланяться этому. бесстыжему… – так-таки «бесстыжим» и назвал при приказчике при самом, ей-ей!.. – На свои кровные выстрою – пущай тогда подойдет…» Заложились опосля того мой дед и отец, начисто, все до нитки заложили, коё распродали, что было, сбили денег, купили за двадцать пять верст старую ригу, у одного дворника, леску прикупили – опять конюшня готова, и еще того лучше вышла, право слово… «Ну, теперь подходи, барин!..» – сказал дед и ждет, что будет, лютей лютого зверя… Да и деревенские-то наши мужики тоже любопытствуют, что выйдет… И случись что – именно постояли бы за деда. Идут: «К барину ступай!» – «Ты опять выстроил конюшню?» – «Так точно!» – «Как же ты у меня не спросился?» Тут и стал дед стыдить барина, не вытерпел: «Завидущие твои глаза, говорит, ай у тебя добра мало! Скажи только, не такую конюшню выстроим… Вздумал разорять мужика… есть ли на тебе крест?.. Уж не хочешь ли и эту отнять конюшню-то? Так опосля этого не барин ты, а бесстыжий человек…» Так устыдил он барина, страсть: и топал-то он, и кричал-то «живым зарою в землю», и в бороду-то лез, а дед все свое, пронял барина, вогнал его в стыд… И с этого стыда-то приказал барин дедушку драть… Шибко били старика, а конюшню оставили… Поди вот что было!
Несколько лет тому назад гулял я среди густого заброшенного парка старинного господского дома, долго никем не обитаемого. Был со мной старый-престарый дворовый человек, доживавший век в покинутом доме вместе со старыми слепыми дворняжками. Шамкая губами, он во время нашей прогулки по парку поминутно с какою-то тоскою повторял: «И что было… Чего-чего не было… Что было, и что стало!..» и т. д. И когда я спросил его: «Что ж такое было?..», то старик только махнул рукой и затряс головой, как бы подавленный массой воспоминаний… «Что было-то?» – остановившись в густой аллее, зашамкал он наконец, задавая этот вопрос не столько мне, сколько себе, и, помолчав, стал отвечать на него так… «Были (крепко, жалобно сказанное слово) дубы!..» (Молчит и жует губами…) «Были (опять крепкое слово…) скворцы!..» Тут он затряс головою и долго жевал губами, потом вдруг махнул обеими руками, как бы представляя, что все провалилось сквозь землю, и дребезжащим голосом возопил: «Нет (крепкое слово) ни дубков, нет (крепкое слово) ни скворцов!» Больше он ничего не говорил и не вспоминал, только тряс головой и вздыхал. Унеслись и из его воспоминаний старые барские годы. Мелькают в нем какие-то тени прошлого, бегут как тонкие, разорванные ветром облака… Какие-то скворцы… дубы – вот все, что сохранила ему память…



