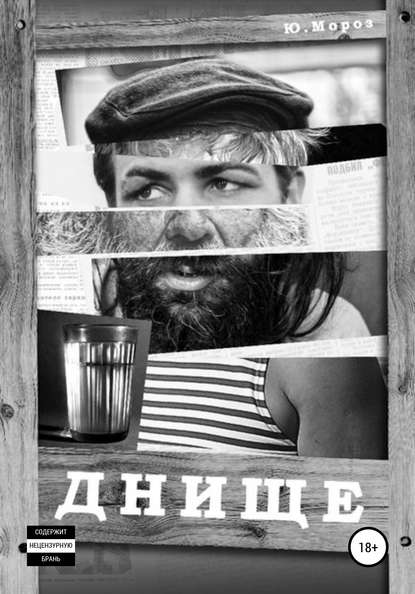 Полная версия
Полная версияДнище
Опустившись до скупого языка литературных аллегорий, можно сказать, что упорхнувшая в самостоятельное плавание Надежда оставила под одной крышей Веру, скатившуюся на самую низшую ступень физиологического атеизма, и Любовь, которая дала окончательный и бесповоротный обет безбрачия.
Глава 7
Первым делом Лёня поднёс правую руку так близко к глазам, как ювелир, желающий убедиться в подлинности бриллианта. На тыльной стороне ладони был какой-то замысловатый рисунок, который при вдумчивом анализе оказался следами протектора от изрядно поношенной, но ещё вполне пригодной обуви. Это подтверждалось небольшого размера цифрами 4 и 3, взятыми в овал.
– Сорок третий, сука, – прошептал он крошащимся голосом и почувствовал, как в руке от движения что-то запульсировало.
По остаткам знаний анатомии, пылившимся в багажных отделах головы, он знал, что сердце находится где-то в груди. Но ощущение было такое, что этот главный орган любви за ночь перекочевал в руку и теперь трепыхался там, как рыба, пойманная в сеть. Сделав беглый визуальный анализ окружающего пространства, Куций со звуком «бля!» осознал, что заточён в обезьяннике районного отделения милиции, визиты в который он наносил с постоянством пунктуального человека.
– Эй, начальник, дай водички, а то возьму и подохну на твоей смене, – крикнул Лёня в сторону стола, за которым обычно восседал дежурный. Никто не ответил, и Куц, борясь со сбоями вестибулярного аппарата, встал и подошёл к решётке.
– Аллё, есть кто живой?
– Чё орёшь, падла, тут люди отдыхают. Ещё звук уловлю, будешь свои ботинки всухомятку жрать, понял? – раздался уверенный командирский голос с верхних нар.
– Понял, – приуныл Куций, и вправду всё резко осознав. Что-что, а возможность трапезничать всухомятку произведениями обувной промышленности его совсем не прельщала.
Глава 8
В то же самое время в приёмном отделении больницы врач отдёрнул с лежащего на каталке человека простыню, как фокусник сдёргивает платок со шляпы, в которой должен находиться кролик.
– Он? – спросил доктор скучным официальным тоном, глядя в бледнеющее лицо Любови Ивановны Катковой.
– Ой! – вскрикнула та, будто её кольнули булавкой в мягкую часть, и стала медленно клониться назад, предпочитая, видимо, отдых на комфортабельном кафельном полу дальнейшему созерцанию представлений фокусника в белом халате.
Под простынёй лежал Анатолий Иванович Катков, последний мужчина в жизни тёти Любы, столь бесцеремонно оставивший её квартиру без мусорного ведра.
Глава 9
Олег Гиппиус к литературе был причастен так же, как Алла Пугачёва к народному бунту. До недавнего времени он работал на стройке сторожем. Но трагедия под личиной праздника всех мужчин, служивших в армии, сделала в его вялотекущей жизни такой перелом, о котором ни один поэт ещё ничего не написал. Начиналось всё весело. Два украинца пришли в его апартаменты с несколькими пузырями свежайшего, ароматнейшего самогона. И, чтобы свести к минимуму шансы на отказ от совместного распития, к набору прилагались сало, лук, чёрный ржаной хлеб и малосольные огурчики. Всё, надо сказать, домашнее, кроме хлеба, который пытался оправдаться чрезмерной мягкостью при хрустящей корочке. Олегу сразу стало ясно, что больше он над своей судьбой не властен, и дегустация классической национальной кухни изрядно сдабривалась воспоминаниями о службе и всего, что с ней связано прямо или косвенно.
Утром, ощутив далеко не нежное прикосновение к своему туловищу, Олег открыл глаза, вокруг которых шли концентрические круги как от камня, брошенного в воду.
– А? Чё? Что такое?
– Ну, проснулся? – ласково спросил начальник участка и кулаком разрешил ещё минутку полежать.
– Больно, бля! За что?
– А ну дуло залепи и напряги на секунду кусок говна, который у тебя вместо мозга, ты, дегенерат! Слушай, сука, внимательно. Ты попал. Ты так попал, что вся твоя предыдущая имбецильная жизнь тебе курортом покажется.
По ходу монолога, читаемого начальником в лучших театральных традициях, стал ясен ответ на загадку столь странного пожелания доброго утра. Суть речи, переполненной афоризмами, аллегориями, описаниями и экспрессивной жестикуляцией сводилась к следующему: пока Олег отдыхал от интернационального застолья, с участка пропало столько дорогих сердцу начальника предметов, материалов и инструментов, что даже переход Гиппиуса в лучшую жизнь по ту сторону реки Лета не залечит его, начальника, душевной раны. После всего сказанного был задан Олегу один единственный вопрос:
– Квартира есть?
– Есть, – ответил он, не поняв, причём одно к другому.
– Считай, что сегодня твой счастливый день. Второй день рождения. А то бы перевели тебя к двум твоим жовто-блакытным друзьям на работу по кормлению червей своим организмом. Вставай, павлин очкастый, поехали к нотариусу.
– Зачем к нотариусу?
– День рождения у меня через месяц. Вот и сделаешь мне подарок в виде жилплощади. А на сдачу, так и быть, забирай свою гнилую жизнь.
Так как подавать на апелляцию в данном случае было бессмысленно, то через один оборот минутной стрелки по циферблату швейцарских часов ручной работы, их владелец стал обладателем однокомнатной малосемейки на пятом этаже пятиэтажки.
– Если завтра тебя тут увижу, закопаю. Понял? – обратился начальник злополучного участка к Олегу, который столь щедро его одарил.
– Понял.
– Всё, срыгнул отсюда, маргинал, – и будущий именинник подкрепил свои слова таким волшебным пендалем, что ровно через пол минуты горизонт был чист.
Глава 10
«Ты смотри, прямо кавалер. Ишь, как вырядили», – думал Лёня Куц, смотря на дядю Толю в чистом костюме, который лежал в дешёвом деревянном гробу. Гроб стоял перед подъездом на двух табуретках в окружении нескольких человек. У изголовья стояла вдова Анатолия Ивановича, Любовь Ивановна Каткова. Она смотрела на мужа блестящими глазами, в которых даже самый опытный сыщик не нашёл бы следов горя. Рядом толпились люди, мечтавшие о скорейшем приближении фуршетно-банкетной части мероприятия. Куций пришёл тоже скорее из меркантильных, чем из сентиментальных соображений. Сутки, проведённые на отдыхе в обезьяннике, подгоняли его неокрепший организм к скорейшему обретению привычного состояния. Выпустили же Лёню потому, что его левый глаз объявил пожизненный бойкот и навсегда бросил свою работу по созерцанию окружающего мира. Так как недуг у куцего не прошёл даже после нескольких ударов лечебной дубинкой в околопочечное пространство, его просто попросили удалиться во избежание бумажной волокиты. Частичная потеря зрения сулила сплошные привилегии в виде льгот и пенсии, поэтому всё, можно сказать, сложилось как нельзя лучше.
Глава 11
Олег Гиппиус взял сигарету и вышел на балкон квартиры, с помощью одного автографа ставшей материальным обоснованием неудавшегося праздника. Промозглый ноябрьский ветер гнал рябь по невысыхающей огромной луже во дворе, в которой за годы её существования успели появиться лягушки.
Под подъездом группа людей окружила неудобный прямоугольник гроба, который был занят телом в костюме, обречённом на вечное горизонтальное положение. Единственный венок в руках, видимо, вдовы, напористо стремился поддаться ветру и упорхнуть со скучной церемонии.
Тоска, усиливающаяся абстинентным синдромом, подсказывала Гиппиусу единственно верное направление мыслей. Переместиться из тесной квартирки в просторную свободу вольной жизни было так тяжело, что Олег решил закончить всё побыстрее, опустив формальности. Он перекинул через перила вялые ноги и разжал пальцы, зачем-то крикнув вниз «разойдись», хотя местом его приземления послужила клумба, разбитая пожилой любительницей эстетического наслаждения с первого этажа.
Глава 12
Наступила осень, и второй подъезд дома №12 стал напоминать яблоню, с которой падают подгнившие перезревшие плоды. Это, опять же, обычное литературное сравнение, которое Олег Гиппиус воплотил со всей буквальностью нигилиста.
Но не он был первым, и не ему суждено быть последним яблоком, неосторожно сорвавшимся с дерева. Хотя, приподнимая покрывало, надо сказать, что Олег, хоть и потерял способность к восприятию действительности, но продолжал функционировать, впуская питание сверху и избавляясь от него снизу.
Пока он лежал, изображая главную композицию на давно завявшей клумбе, у Куцего в голове пронеслась мысль: «Вот пидар, подождал бы минут десять, пока мы на кладбище поедем. А то начнётся щас опрос свидетелей и гудбай дяди Толины поминки». Но по приезде всех специалистов выяснилось, что, вопреки здравому смыслу, фаршмак, выпавший с пятого этажа, упрощать жизнь государству не желает. И его под мелодию сирены увезли в известном направлении, туда, где не столь давно Анатолий Иванович в последний раз испачкал свои слегка порванные в девяти местах брюки.
Любовь Ивановна, сопровождавшая супруга в одиночестве, тоже поминала Олега не очень приятными слуху культурного человека выражениями. Она желала ему задним числом всяческих благ и комфортабельно обустроиться в возможно более тёплом месте там, куда он, несомненно, отправился. Поток её негодования настолько ополноводнился, что она с укоризной стала думать про погребальные услуги. «Не зря гробы-то деревянные, – рассуждала тётя Люба, подпрыгивая на сидении старого ПАЗика, – вот гроб сгнил, холмик просел и всё! Ставьте, пожалуйста, памятник. А цены-то, цены!».
Такова была прощальная речь, произнесённая над телом усопшего даже не в слух, так как слушать её было некому.
Глава 13
– Открывай, – Пашка стучал по замочной скважине согнутым указательным пальцем левой руки. В правой был пакет с двумя бутылками пива в неэкологичной пластиковой таре, которая, как известно, может пережить не одно поколение людей.
Щёлкнул замок, и в проёме показалось заспанное Веркино лицо.
– Привет, – поздоровался робко Пашка.
– Сиську взял? – поздоровалась Верка, переводя алчный взгляд на пакет.
– Две, – сказал гость и вынул на свет божий две бутылки пива по два с половиной литра каждая.
– Заходь, – дверь снова закрылась, оставив коридор и дальше пустовать в одиночестве.
После утоления острой жажды Паша, приобретя толику уверенности, спросил:
– Слышь, Верка, это чё, и правда батя твой?
– Ага.
– А чё ты на похороны не пошла тогда?
– Да на фиг надо. Батя. Да он гниль подзаборная, алконавт конченый! Да я б ему в рожу плюнула, отвечаю!
– А мамка чё?
– Да пошла она! Думаешь, надо оно ей? Только б люди чё не сказали, бляди эти старые на скамейке. По-человечески надо, по-человечески. А он человек, сука?
– А кто?
– Пидар галимый, вот кто! Бросил нас, бухал всю жизнь и сдох, как шавка под забором.
– А тебе, типа, его ваще не жалко?
– Было когда-то, когда он у меня денег просил. Встретит по дороге в школу и выпросит все карманные. Типа ему надо, умирает. А я малолетка, велась. Думала, что в натуре коней двинет, гавкнется. Видон у него был, как у кончелыги.
Верка осушила стакан и с удовольствием затянулась.
– Короче, закончили базар. Задолбало. Налей лучше пивалдера.
Какое-то время прошло в тишине, что Паша прокомментировал, как появление на свет маленького милиционера. Когда наступил экватор второй бутылки, разомлевший Пашка промямлил:
– Слышь, Верка…
– Чё слышь, мямля? Бабки покажи.
Увидев свёрнутую вчетверо пятидесятирублёвку, Вера, точно монахиня в храме, опустилась на колени перед Пашей.
Вернулась с кладбища тётя Люба, как будто хотела воочию убедиться в том, что младшая дочь может заработать себе на карманные расходы. И если бы мать обладала талантом испепелять людей взглядом, то от Веры тотчас бы осталась только кучка золы. Но так как таких навыков Любовь Ивановна, всю сознательную жизнь проработавшая розничным продавцом, не приобрела, то ей оставалось только хлопнуть дверью. Что она и сделала, чтобы потом в своей комнате во весь голос жаловаться на свою нелёгкую долю стенам, которые молчаливо, словно умелые психологи, давали ей излить душу.
Пашка, между тем, решил остаться, презрев все приличия, так как пятидесятирублёвки были нечастыми гостями в его карманах, а сдачи Верка, как кофейный автомат, не давала.
Глава 14
УАЗик ОМОНа был встречен артиллерией в виде трёхлитровых банок с клубникой в собственном соку, которая при соприкосновении с землёй оставляла трагические кровавые ошмётки. Артобстрел проводился из амбразуры третьего этажа, из квартиры военного в отставке, Егора Фисюна. Притом, хозяин квартиры был настолько увлечён обороной и криками «Врёшь, не возьмёшь!», что даже не удосужился открыть окно, через которое шло бомбометание.
– Шизик, – провёл мгновенное медицинское освидетельствование один из особоназначенных и сделал рукой жест, как в голливудских боевиках, когда нужно без слов сообщить: «А давайте, господа, обойдём дом вокруг, зайдя в подъезд с угла, дабы не попало никому закатанной на зиму ягодой клубникой по самой важной части физиологии».
Остальные в количестве двух человек не стали спорить со знатоком языка жестов, который, к тому же, был старше их по званию, и сделали всё согласно поступившему приказу.
Когда все трое попали в подъезд, их удивлённо-восторженному взору предстала такая сюрреалистическая картина, что даже музей Сальвадора Дали в маленьком испанском городке показался бы не более, чем игровой комнатой детсада. Очевидно, что к шизофрении оформителя подъездного интерьера примешался ещё и очень популярный среди алкоголиков грызун, которого ласково называют «белочка». Останки раздробленного в мелкую крошку всяческого домашнего скарба, мебели и бытовой техники плотным ковром укрывали ступени и площадки от первого до пятого включительно в обе стороны.
Сложно представить, какую громадную работу должен провести человек, чтобы добиться подобного результата. Всё, что измельчить не удалось, было прибито ко всем дверям без исключения в хаотичном порядке, что не удивительно, ибо времени на составление коллажей у Егора не было.
Не все соседи по подъезду одобрили подобное эксцентричное поведение и кто-то вызвал таки ОМОН, в рядах которого так мало любителей современного искусства, что можно было надеяться на критику с их стороны с последующим вывозом неудачливого художника для созерцания стен самой успокаивающей в мире окраски.
Между вторым и третьим этажами стоял целёхонький письменный стол, стул и лампа, которая горела, казалось, лишь для того, чтобы высветить контраст нетронутых вещей по сравнению с их почившими товарищами по интерьеру.
ОМОНовцы удивились ровно настолько, чтобы в рецензии под этой инсталляцией можно было смело написать: «Эффект достигнут». Предметы, составляющие временное украшение всех дверей, были иногда настолько неожиданны в данном месте в данное время, что можно было подумать, будто они существуют для отвлечения неприятеля и замедления его движения на третий этаж. Там можно было встретить пачки с сигаретами и без, номерной знак от автомобиля «Жигули», ключи, книги и даже паспорт самого Егора Фисюна, надёжно держащийся на трёх гвоздях.
Сам же владелец всего этого оставил себе только топор, которым планировал оборонять свою абсолютно пустую квартиру от любого вторжения. Однако, при взмахе рукой назад, топор дезертировал с топорища, предоставив тем самым Егора в распоряжение правоохранительных органов.
Взяли его быстро, и, согнув корпус параллельно полу, надели сзади на руки некрасивые браслеты далеко не ювелирной работы.
– Суки, отпустите, козлы, ай, руки, сволочи, падлы, – убеждал Фисюн своих конвоиров, пока они везли его, минуя отделение милиции, прямиком в место сбора людей с нестандартными взглядами на действительность.
Это было очередное яблоко, правда, не упавшее, а сорванное с дерева второго подъезда дома №12 по улице Безымянной. Этот самый подъезд каждый день покидал Пашка, чтобы зайти за своим лучшим другом Сашкой, проживающим в соседнем подъезде в квартире, которая находилась точно под квартирой Катковых.
Глава 15
Говорят, что в Гондурасе, на берегу какой-то там реки растут такие непроходимые джунгли, что даже змеи обползают их стороной, будучи не в силах пробраться через плотное сплетение ветвей. Все учёные мира считают это место самым непроходимым на земле.
Но если бы хоть один учёный удосужился познакомиться с человеком, которого зовут Григорий Терентьевич Способ, то этот учёный тут же стал бы нобелевским лауреатом в области открытия непроходимостей, если такая вообще существует. Тупость Григория Терентьевича была непроходимей знаменитых джунглей в два с половиной, а то и во все три раза. Но это, как часто бывает, компенсировалось золотыми руками, которые, казалось, делаю всё без ожидания команды, в обычных случаях поступающей от мозга.
Долгое время Григорий Терентьевич был вольной пташкой. Взмахами крылышек перебрасывая себя с место на место, он нигде долго не засиживался, а своего гнезда у него не было очень давно. Лет 20, а точнее 42 года назад, когда Гриша возвращался с завода к жене для того, чтобы жить вместе долго и счастливо, в горе и в радости, в богатстве и как обычно, с ним приключилась история, определившая его будущую биографию.
– О, Гришка, давай к нам, третьим будешь, – предложил ему Михаил, бывший коллега по цеху, ушедший в пожизненный отпуск из-за проблем со здоровьем, которые он ежедневно пытался урегулировать народными методами.
– Да я, ребята, к жене спешу, – попытался Гриша отбиться мелкой картой от Мишиного козыря.
Компаньон же Михаила по недобору компании сидел, безучастно глядя на происходящее. Казалось, его ничто не волнует, хотя должно, так как День Здоровья на сегодня не планировался. Загвоздка же была в сумме денег, с появлением третьего участника мероприятия обещавшей более благородные напитки, чем те, что продаются в аптеке.
– Гриша, дорогой ты мой человек, – не отступал шулер, готовясь достать из загашника козырей столько, сколько того требовала ситуация, – тут же дело пяти минут. По чуть-чуть и по домам. А?
– Дак, это, Нинка-то меня прибьёт, если учует посторонние запахи. У ней нюх, как у овчарки.
– А мы лука возьмём. Репчатого. Можем и зелёного, для витаминов.
– Ну…это…
– Соглашайся, раз-два и дома.
– Да оставь ты его в покое, Мишка, – раздался голос доселе аморфного соглядатая, который числился номером вторым, – он же подкаблучник.
– Кто подкаблучник?! Я?! – Гриша вздохнул, словно последний день женат, и, не желая навсегда расставаться с мужской гордостью в такой прекрасный вечер, сказал:
– Ладно, давайте.
Эти слова можно было впоследствии поместить на камень, установленный на могиле счастливой семейной жизни. А всё из-за закона Ньютона, который затерялся в его мемуарах и его никто не опубликовал, и уж тем более ему не было присвоено порядкового номера. Этот закон гласит: Одна бутылка, выпитая на троих в день получки хотя бы одного из участников, притягивает к себе как минимум ещё две поллитры, с последующей потерей документов и утренним пробуждением в трезвяке. Так и написал Ньютон своей собственной рукой: «в трезвяке».
А уж законы физики, в отличие от юридических, обойти невозможно. Да и сила, с которой тело притягивалось к земле, тоже не дала никому ни малейшего шанса.
Утром, ощущая все четыре угла своей квадратной головы, Гриша Способ рассчитался с формальностями и неуверенно направился на допрос с последующей экзекуцией в оклеенную дешёвыми обоями квартиру.
– Гришенька, родненький мой, вернулся, – встретила его Нина, словно он был солдат, пришедший с фронта живым и невредимым, – Господи, а я всю ночь плакала, думала, может тебя бандиты убили. Или ещё что. Всё, думаю, не увижу больше Гришку своего, любимого, – слёзы оставили на груди Гриши два пятна, как будто это были две медали за отвагу, продолжавшие неуместную аналогию.
–Ну, где ты был? Тебя побили?
– Ох, как побили, Нинка, и руками, и ногами, – в голове мелькнула мысль, что ведь может обойтись и без семейного трибунала, – и документы забрали, и получку всю, гады!
– Ой, надо ж в милицию бежать!
– Да я оттуда только. Приметы описал, пусть ловят козлов. Эх, денег жалко.
– Да чёрт с ними, с деньгами. Главное, живой!
На заводе, где Григорий трудился пять дней в неделю, начальство оказалось не столь любвеобильно и доверчиво. Всю увлекательную историю, рассказанную Способом в лицах, перечеркнуло извещение с места его ночёвки. Там тоже была история, но краткая и правдивая, лишённая романтического налёта. Она так пришлась по душе отделу кадров, что её даже переписали слово в слово в личное дело, стараясь ничего не упустить, и от себя добавив лишь выговор с занесением.
Всё, казалось, может закончиться хорошо, оставив заранее купленный участок на кладбище семейной жизни нетронутым. Но с этого момента жизни Гришу стали избивать и грабить с завидной периодичностью, иногда выгребая всё до копейки и оставляя лишь аромат перегоревшей водки во рту. Естественно, что такой заработок был не по душе Нине, и она сочла неинтересным дальнейшее совместное проживание с Гришей.
И однажды, с помощью проверенной схемы «прекрасный день-замена замков-вещи-форточка», Григорий Терентьевич Способ стал той самой пташкой, порхавшей с ветки на ветку железной дороги целых сорок лет.
Но, видя невдалеке алый закат своей серой жизни, Григорий Терентьевич осел, как накипь оседает в чайнике, в одном небольшом городке. А потом, в силу неутраченных навыков в восстановлении целостности всяких вещей, предметов и даже интерьера, он занял сразу три должности при дворе Ираиды Викторовны Немецкой: гражданского мужа, сожителя и приживальщика.
Финансовая сторона жизни не смущала монументальную во всех отношениях Ираиду Викторовну, ибо она занимала одну из самых востребованных ниш рынка, удовлетворяя спрос дома №12 по улице Безымянной в дешёвом некачественном алкоголе.
Вторая жена никогда не называла Григория Терентьевича Гришенькой, любимым и родненьким. Она говорила или «эй, ты», или «слышь». А, будучи в хорошем настроении, расщедривалась на ласковое «Гришка».
Часто, засыпая на кухонном полу без необходимых спальных принадлежностей, Григорий тихонько плакал от физического оскорбления, нанесенного увесистым кулаком Ираиды его туловищу.
Как-то Гриша выскочил из квартиры, а вернулся через два часа и не смог сказать ни одного слова.
– И откуда ж у тебя деньги появились? – с подозрительным спокойствием спросила Ираида Викторовна.
Григорий только с трудом пожал худыми плечами, как бы говоря: «пути господни неисповедимы». Женщина как гепард метнулась к антресоли и достала оттуда наполовину пустую, или, как говорят оптимисты, наполовину полную трёхлитровую банку.
– Ах ты скотина, сукин сын какой! Ты смотри, вылакал полбанки и домой припхался! Да я тя щас… – она не договорила, потому что заканчивала проникновенную речь деревянная скалка, которая доходчиво и аргументированно объяснила Григорию Терентьевичу всю порочность его поступка.
Такие казусы случались довольно часто, но Способ не желал покидать эту обитель несправедливости, а лишь выплёскивал горечь солёными слезами, впитывающимися в старое пальто, которое скрывало дефекты кухонного пола. Конечно, в силу отсутствия навыков мышления он не мог понять, но каким-то образом осознавал, что отказавшись от крова над головой в свои 67 лет с наступлением холодов окажется там, куда пока отправляться не планировал.
Глава 16
Этой осенью воображаемая старушка Судьба как никогда трясла воображаемое дерево второго подъезда дома №12 по улице Безымянной. Но, чтобы отведать не совсем дозревшие плоды, одного шатания ствола не хватало. И Судьба вспомнила, как маленькой девочкой в саду у своей бабушки, которую звали Вечность, она надевала пластиковую бутылку с отрезанным дном и надрезанным вдоль корпусом на длинную палку, и как легко было этим нехитрым устройством собирать немного кислые, зеленоватые, но сочные яблоки.
Конечно, понимать всё это нужно в переносном смысле. В качестве палки была использована милиция, а в качестве разрезанной бутылки – приказ всем участковым до Нового Года выполнить план по разоблачению и прекращению деятельности людей, выбравших своим хобби самогоноварение.
И Ираида Викторовна Немецкая, которая до этого момента так плотно висела на ветке и пряталась от солнца, дабы не созреть раньше срока, полетела в бутылку с треском, оставив хвостик на дереве.
Ах, как скучны судебные заседания, когда рассматриваемое дело столь банально. То ли дело в Америке с их судами присяжных, когда, опираясь на прецедент, горстка людей может победить Его Величество Закон. Да уж, там по процессу можно было бы написать целый остросюжетный роман, а не скромную главу в замшелом рассказе.

