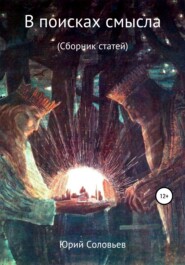 Полная версия
Полная версияВ поисках смысла. Сборник статей
На первый взгляд, перед нами нечто вроде ночного кошмара, необузданная фантазия древнего сочинителя небылиц. Но что-то мешает нам согласиться с этой оценкой. Обращают на себя внимание два обстоятельства, как бы взаимно исключающие друг друга. С одной стороны, фантазия такова, что, кажется, никакому, даже самому больному воображению не под силу придумать ничто подобное. А с другой – поражает исключительная отчетливость деталей. Создается впечатление, будто они списаны с натуры. Да и потом, все это что-то явно нам напоминает. Что-то очень знакомое, сегодняшнее. Что же?
Рискну предположить невероятное: в данном эпизоде описывается… посадка героя в танк! Да-да, именно так – в древней ирландской саге, которая, по мнению специалистов, была создана не менее двух тысяч лет назад, описан самый натуральный танк. «Вздрогнули бедра… задрожало нутро его» – это заработал двигатель, «выпал наружу глаз» – выдвинулся перископ, «в глотке перекатывались легкие и печень» – сквозь открытый люк были видны работающие детали двигателя, шатуны и шестерни, заливаемые потоками машинного масла («огненно-красные хлопья»). Так же легко поддаются расшифровке и остальные детали. «Громовые удары сердца» – это звук работающего мотора, «факелы богинь войны» – выхлопные газы, «клич боевой» – звук сирены.
Таким образом, перед нами действительно описание машины, очень похожей на танк. Как я уже говорил, время создания саги специалисты относят к началу нашей эры. В ту пору ирландцы назывались кельтами и вели войну с Римом, которая была описана Юлием Цезарем в «Записках о галльской войне». По свидетельству Цезаря, в отличие от цивилизованных римлян, кельты пребывали в состоянии дикости, и каменный век у них был еще в самом разгаре. Неудивительно, что описание машины выглядит столь фантастичным – ведь перед автором саги стояла задача средствами своего языка, языка первобытных охотников и скотоводов, рассказать о чем-то совершенно невиданном.
А вот еще одна ирландская сага, известная под названием «Плавание Майль-Дуйна». В Х веке ее сложил Айд Светлый, мудрый поэт Ирландии. В ней рассказывается, как Майль-Дуйн, в поисках убийц своего отца, снаряжает корабль и отправляется в плавание. По пути он встречает много удивительного. Например, путешественники видят поднимающийся из моря четырехгранный серебряный столб. «Ни клочка земли не было подле него – говорится в саге, – один бесконечный океан. Не видать было ни основания столба, ни вершины его – так высок был он. С верха столба спускалась, широко раскинувшись, серебряная сеть, и корабль со свернутыми парусами проплыл через одну из петель ее. Они услышали с вершины столба голос мощный, звонкий, звучный, но не могли понять, ни кто говорит, ни на каком языке». Не правда ли, такая же отчетливость деталей, что и в первом случае, но на этот раз по отношению к объекту явно искусственного происхождения. Это уж точно не фантазия. Напротив, создается впечатление, будто с натуры списано техническое сооружение похожее на… гигантскую антенну.
В другом месте той же саги рассказывается об острове, стоящем на ножке. «Они объехали остров кругом, ища способ проникнуть в него, но не нашли пути. Однако в нижней части ножки они заметили дверь, запертую на замок, и поняли, что через нее можно попасть на остров. На вершине острова они увидели пахаря, но он не заговорил с ними, и они не заговорили с ним тоже. Они поплыли дальше». Здесь тоже нет ни малейшего фантазирования. Скорее, все это напоминает простодушное описание чего-то невиданного, чего-то, что не имело аналогов в жизни древнего мореплавателя, но чем-то напомнило им «пахаря».
То же относится и к описанию «громадного зверя», которого они встретили на следующем острове. Он «то вращался сам внутри своей кожи, то есть его тело и кости вращались, а кожа оставалась неподвижной; то, наоборот, кожа его вращалась снаружи, как мельница, в то время как тело и кости оставались неподвижными». А потом они поплыли по морю, похожему на облако: «им казалось, что оно не может выдержать их корабль». Причем, на дне этого моря, под собой, «они видели крытые здания и прекрасную страну». Здесь вполне можно предположить что «громадный зверь» это не что иное, как гигантский гиростат, а плавание по морю похожему на облако – полет на самолете.
Но, пожалуй, самый удивительный эпизод содержится в саге «Плавание Брана, сына Фебала». Всем известен знаменитый парадокс, описанный в теории относительности, согласно которому для космонавта, путешествующего со скоростью близкой к скорости света, время течет медленнее, чем для оставшихся на Земле. Нечто подобное мы и находим в этой саге. В ней рассказывается, как Бран с товарищами, возвратившись домой после годичного путешествия, причаливает к берегу и видит собравшихся на берегу людей. Люди спрашивают, кто они такие. «Я Бран, сын Фебала», – отвечает Бран. В ответ он слышит: «Мы не знаем такого человека, но в наших старинных повестях рассказывается о Плавании Брана». После этого один из мореплавателей, некто Нехтан, сын Кольбрана, захотел спрыгнуть на берег. Но «едва коснулся он земли Ирландии, как тотчас обратился в груду праха, как если бы его тело пролежало в земле уже много сот лет». Что это, если не описание возможных последствий возврата человека из космического путешествия?
Надо сказать, что большинство подобных описаний содержится в кельтской литературе. Но есть и другие древние источники, содержащие не менее удивительные свидетельства. Можно вспомнить, например, видение Иезекииля, где явно описывается какой-то летательный аппарат: «И вот бурный ветер шел с севера, великое облако и клубящийся огонь, и сияние вокруг него» [4]. «…И из середины его видно было подобие четырех животных» [5]. «…Вид этих животных был как вид горящих углей, как вид лампад; огонь ходил между животными, и сияние от огня и молния исходила от огня» [13]. «…И вот на земле подле этих животных по одному колесу перед четырьмя лицами их» [15]. «…Ободья их у всех четырех вокруг полны были глаз» [19]. «И когда шли животные, шли и колеса подле них; а когда животные поднимались от земли, тогда поднимались и колеса» [19]. «Шум крыльев их, как бы шум многих вод, как бы глас Всемогущего, сильный шум, как бы шум в воинском стане; а когда они останавливались, – опускали крылья свои» [24]. Не квадрокоптер ли описал в своем видении древний пророк?
Еще одно свидетельство содержится в древнеиндийской поэме «Махабхарата», написанной на санскрите более трех тысяч лет назад. В ее десятой книге описывается применение огненных божественных стрел, слепящего, все сжигающего пламени «дивного оружия Брахмаширас», испепеляющего все живое и поражающего механизмы наследственности. Роберт Юнг, автор нашумевшей в свое время книги «Ярче тысячи солнц», в которой рассказывается об истории создания атомной бомбы, пишет, что и Эйнштейн, и Оппенгеймер были убеждены – в «Махабхарате» содержится описание ядерного оружия.
Вот тот самый текст: «Сын Дроны схватил рукой стебель былинки и выпустил оружие Брахмаширас. Тогда из стебля той былинки вырвался огонь, способный поглотить три мира в последний час Калиюги. И заблистало многолучистое пламя, в ореоле лучей воссияло великим блеском. Раздались непрерывные раскаты грома, тысячами падали звезды, великий ужас во всех существах родился. Мощный грохот возник в поднебесье, ярко вспыхивали огромные снопы молний, закачалась вся земля с ее горами, деревьями, лесами… И сказали Риши: «Никогда превосходные великоколесничие, знатоки разного оружия, это оружие ни в коем случае против людей не обращали». Потому что «где применяется оружие Брахмаширас, там в течение двенадцати лет дождь не выпадает, в той стране зародышей в женщинах оно убивает» [Гл. XIII-ХV].
Таким образом, мы имеем множество свидетельств, которые позволяют предположить существование на Земле в незапамятные времена мощной, даже по современным меркам, уникальной техники. В то же время никаких следов этой техники не осталось, а свидетельства эти исходят от людей, которые находились на первобытной стадии развития. Вывод, который можно из этого сделать, состоит в том, что параллельно с первобытными народами находилась, по-видимому, некая высокоразвитая цивилизация. Причем, цивилизация эта не обязательно была инопланетной. Это вполне могли быть потомки атлантов, или даже лимурийцев, выживших после постигших их катастроф.
Например, кельты верили, что рядом с ними в холмах Ирландии и на островах живут некие существа, которых они называли сидами. Сиды не имели никакого отношения к традиционным кельтским богам. Они были похожи на людей, хотя и обладали гораздо большей силой и мудростью. Считалось, что сиды миролюбивы, владеют неисчислимыми сокровищами, а время проводят в пирах и играх. С людьми они дружелюбны, помогают им, даже вступают иногда с ними в любовные связи. Причинить же людям зло они могут только в ответ на такое же зло, причиненное им людьми. Словом, все это действительно очень похоже на параллельное сосуществование двух цивилизаций.
А то, что сейчас сиды показываться людям перестали, не удивительно: прошли многие сотни лет, условия жизни на Земле изменились, человечество сильно размножилось, да и люди стали другими: на смену простодушию пришло своекорыстие, место наивности заняла расчетливость. Жизненное пространство для сидов резко сузилось. Возможно, они предпочли какую-то другую, более гостеприимную планету. А может, остались здесь, но поселились в таких труднодоступных местах, как Антарктида или Гималаи. Во всяком случае, то обстоятельство, что от их техники не осталось никаких следов, говорит о том, что они не погибли, а увезли эту технику с собой.
Но представляется мне, что далеко не все забрали они с собой, и что есть более загадочные вещи, нежели пропавшая техника. Например, некоторые тексты, которые поражают своим совершенством и глубиной мысли. Трудно представить, чтобы такие произведения, как «Бхагаватгита», упанишады, «Дао Дэ цзин» или диалог Платона «Парменид» были созданы людьми едва оторвавшимися от пуповины родовой жизни. Мы знаем уровень мышления античного человека, эти по-детски наивные попытки найти лежащую в основании мира единую субстанцию: воду, воздух, огонь или атомы. А здесь тайна жизни и смерти, знание о тождестве индивидуальной души с мировой, понятие об Абсолюте, математически выверенная схема порождающей модели. Это знания, от которых веет поистине неземной мудростью. И думается мне, оставлены они не случайно: именно они-то и направили развитие человечества по тому пути, по которому оно идет до сих пор.
В смерти пробуждение
В известной сказке Льюиса Кэрролла есть любопытный эпизод, когда маленькая девочка Алиса, путешествуя по лесу в сопровождении двух братьев Траляля и Труляля, вдруг увидела спящего Черного Короля. «Он лежал под кустом и храпел с такой силой, что все деревья сотрясались.
–Так можно себе и голову отхрапеть! – заметил Труляля.
–Ему снится сон! – сказал Траляля. – И как, по-твоему, кто ему снится?
–Не знаю, – ответила Алиса. – Этого никто сказать не может.
–Ему снишься ты! – закричал Траляля и радостно захлопал в ладоши. – Если бы он не видел тебя во сне, где бы, интересно, ты была?
–Там, где я и есть, конечно, – сказала Алиса.
–А вот и ошибаешься! – возразил с презрением Траляля. – Тебя бы тогда вообще нигде не было! Ты просто снишься ему во сне».
Этот забавный диалог можно было бы счесть не более чем остроумной шуткой веселого сказочника, если бы не одно обстоятельство: описанный эпизод является прекрасной художественной иллюстрацией одного из философских течений, называемого в науке субъективным идеализмом. По выражению комментатора «Алисы», известного популяризатора науки Мартина Гарднера, спор о сне Черного Короля погружает бедную Алису в самые мрачные глубины метафизики. Согласно точке зрения основоположника этого учения епископа Дж. Беркли, все материальные предметы, включая нас самих, просто снятся Господу Богу, и сами по себе не существуют. «Что касается наших чувств, – говорит он в своем трактате «О принципах человеческого знания, – то они дают нам знание лишь о наших ощущениях, идеях или тех вещах, которые, как бы мы их не называли, непосредственно воспринимаются в ощущениях, но они не удостоверяют нас в том, что существуют вне духа невоспринимаемые вещи, сходные с теми, которые восприняты».
Не следует думать, однако, что здесь мы имеем дело с этаким философским трюкачеством. Как сказал другой английский философ Давид Юм, аргументы Беркли не допускают и тени возражения, хоть не содержат и тени убедительности. В самом деле, с одной стороны, сомневаться в самоочевидной реальности мира никому и в голову не приходит: мы можем потрогать его руками, ощутить запах, вкус. Утром, поднимаясь после сна, мы находим его точно таким же, каким оставили накануне вечером. Каждый день мы испытываем самые неподдельные чувства, мы болеем настоящими болезнями и воспитываем настоящих детей. Словом, наша жизнь, казалось бы, сама является доказательством своей реальности. Но это с одной стороны. А с другой…
В своем разговоре с братьями Алиса была абсолютно уверена в реальности происходящего, но ведь читателям сказки хорошо известно, что рассказанная в ней история является не чем иным, как… сном Алисы. Следовательно, все события, которые в ней произошли, включая и эпизод с Черным Королем, на самом деле не существовали! Как тут не вспомнить известную притчу, рассказанную еще в глубокой древности знаменитым даосским мудрецом Чжуан Цзы: «Однажды Чжуан-Чжоу приснилось, что он бабочка. Весело порхающая бабочка. Он наслаждался от души и не сознавал, что он – Чжуан-Чжоу. Но вдруг проснулся, удивился, что он Чжуан-Чжоу и не мог понять, снилось ли Чжуан-Чжоу, что он бабочка, или же бабочке снилось, что она Чжуан-Чжоу».
В свое время литературный критик и поэт Сэмюэль Джонсон, полагая, что опровергает доводы Беркли, пнул ногой большой камень. Он считал, что если нога испытывает боль от удара при соприкосновении с твердым предметом, то это является исчерпывающим доказательством его, предмета, независимого существования. Но ведь если окружающий нас мир действительно является нашей иллюзией, то и камень Сэмюэля Джонсона, равно как и боль в его ноге, будет существовать лишь до тех пор, пока продлится его собственное существование.
Характерно, что Алиса допускает ту же ошибку, что и Джонсон: «Если бы я была не настоящая, я бы не плакала», – говорит она, улыбаясь сквозь слезы. Эту ее оплошность сразу же подмечает Труляля: «Надеюсь, ты не думаешь, что это настоящие слезы?» – резонно возражает он ей.
Таким образом получается, что доказать реальность окружающего мира не менее сложно, чем доказать его иллюзорность. Поэтому неудивительно, что представление о мире, как о вселенской иллюзии, грезе Бога, получили распространение гораздо более широкое, чем об этом принято думать. Целые религиозные системы базируются на подобной точке зрения. Вот, например, как проиллюстрирована она в одном из древнейших источников индуизма «Матсья-пуране»:
«Однажды бог Вишну, желая продемонстрировать мудрецу Нараде, что представляет собой вселенская иллюзия, майа, позвал его за собой и вывел на просторы голой пустыни, беспощадно палимой солнцем. Долго шли они по той пустыне, страдая от зноя и жажды и вот, наконец, кончилась она и вдали завиднелась деревня.
–Я не могу уже идти дальше, – сказал Нараде Вишну и опустился на землю в тени дерева, росшего на пригорке. – Ступай в это селение и принеси мне воды.
Нарада отправился туда и постучался в дверь первой же хижины. Ее открыла девушка невиданной красоты, и мудрец полюбил ее, как только увидел. В этом доме его встретили с таким радушием, что он позабыл о своем спутнике и посватался к девушке. Родители ответили ему согласием. Вскоре он женился, и у супругов родились трое детей. Одиннадцать лет прожил он в том селении, наслаждаясь семейным счастьем. Но на двенадцатый год хлынули небывало обильные дожди, река вышла из берегов и затопила все вокруг. И ночью, в бурю и ветер Нарада с женой и детьми, бежал, спасаясь из своего дома. Во тьме и потопе Нарада потерял жену и детей. Сам же он спасся, вынесенный на некий холм, едва возвышавшийся над волнами. Рыдая, он тщетно взывал с того холма к своим близким, как вдруг услышал знакомый голос:
–Куда же ты запропастился, Нарада? Я жду тебя уже полчаса.
И тотчас рассеялась тьма, и стихла буря, и в ясном свете дня Нарада увидел Вишну. Он восседал под тем же самым деревом на пригорке, а кругом простиралась все та же пустыня. С улыбкой глядел он на недоумевающего Нараду и говорил:
–Ну, как, понял ты, что такое майа?»
«Но ведь все это только сказка! – наверное, воскликнет недоверчивый читатель. – В жизни такого не может быть, потому что такого не может быть никогда!»
Я бы не торопился с выводами. Американский врач-психотерапевт Станислав Гроф разработал любопытную теорию, в соответствии с которой причинами большинства наших заболеваний являются поступки, совершенные… в прошлых воплощениях. Используя особые дыхательные упражнения, а также медикаментозные средства, он изменяет состояние сознания своих пациентов таким образом, что они получают возможность переместиться во времени в тот момент, когда был совершен пресловутый поступок, и исправить его. Однако самое интересное заключается в том, что нередко человек начинает ощущать себя, как наяву, в таких эпохах и таких местах, о которых он раньше даже и не слыхал. Вот, например, отчет С. Грофа об ощущениях одного из пациентов, полученных им во время сеанса.
«Ему виделись тоннели и подземные склады, казармы, толстые стены и бастионы, бывшие, по всей видимости, частями крепости, расположенной на скале, на берегу моря. Вокруг было много солдат, которые казались испанцами, хотя местность больше напоминала Шотландию или Ирландию. Находясь в окружении солдат, он вместе с тем чувствовал себя священником и в какой-то момент увидел себя с библией и крестом. Там же он увидел кольцо с печатью на своей руке и ясно рассмотрел инициалы на печати.
Будучи талантливым художником, он, после окончания сеанса, решил зафиксировать это видение в рисунках. Некоторые из них изображали различные части крепости, другие – сцены убийств, в том числе момент, когда его самого проткнули шпагой и сбросили с бастиона крепости умирать на берегу. Среди рисунков было и изображение печати с инициалами.
Потом еще долго он не мог понять, что же привиделось ему в ходе сеанса, и эта мысль не давала ему покоя. Но однажды его прямо-таки потянуло свой отпуск провести в Ирландии. Там, также неожиданно, ему захотелось сделать ряд снимков на западном побережье, которое, казалось бы, не выделялось ничем примечательным. Однако вскоре он смог установить по карте, что его внимание привлекли развалины старой крепости Дунуар. Он принялся изучать ее историю и к своему огромному удивлению обнаружил, что во времена знаменитого английского пирата Уолтера Рейли крепость была взята испанцами, а позже вновь отбита британцами. Осадив крепость, Уолтер Рейли пообещал испанцам свободный выход, если они откроют ворота и сдадутся. Испанцы согласились, но пират не сдержал слова. Попав в крепость, британцы безжалостно перебили испанцев и сбросили их с бастиона умирать на берегу.
Но самое интересное, согласно свидетельствам архивов, заключалось в том, что священник, находившийся в крепости с испанскими солдатами, был убит вместе с ними. Его инициалы совпали с теми, которые были зафиксированы на рисунке».
Не правда ли, рассказ напоминает описание вселенской иллюзии из «Матсья-пураны»? Однако нельзя не заметить, что одновременно он представляет собой и ярчайшую иллюстрацию того загадочного явления, которое известно нам под именем метемпсихоза, или перевоплощения душ. Явления, в существовании которого мы сомневаемся до сих пор, но о котором еще Эмпедокл в своей знаменитой поэме «Очищения» сказал:
«Был уже некогда отроком я, был и девой когда-то,
был и кустом, был и птицей, и рыбой морской бессловесной…»
Но если приключение Нарады из «Матсья-пураны» и испанского священника в рассказе Грофа действительно одно явление, то и в первом и во втором случае мы имеем дело не столько с иллюзией, сколько с вполне реальной возможностью жизни души после смерти и воплощением ее в другие тела. Может быть, именно поэтому князь Андрей Болконский, увидев во сне свою собственную смерть и внезапно проснувшись, вдруг подумал: «Я умер – я проснулся. Да, смерть – пробуждение».
Загадка Гамлета
1
Трагедия «Гамлет» является самым обсуждаемым и спорным произведением Шекспира. Количество статей, исследований, книг, написанных об этой трагедии, составляет целую библиотеку и включает тысячи наименований. Причиной такой обсуждаемости этой трагедии является содержащаяся в ней загадка.
Еще в 1736 году один из первых редакторов произведений Шекспира, некий Томас Ханмер, обратил внимание, что вся пьеса является не столько историей действий Гамлета, сколько историей его бездействия. Узнав в самом начале тайну убийства своего отца и побуждаемый Призраком к мести, он при полной решимости отомстить на протяжении всей пьесы занимается чем угодно, только не выполнением своего долга. Он притворяется сумасшедшим, потешается над Полонием, ставит спектакль, ссорится с матерью, унижает приятелей, но только не выполняет возложенную на него задачу. И только в конце пьесы он таки убивает Клавдия, но делает это почти случайно.
Сам Томас Ханмер считал, что причина медлительности Гамлета заключается в самой композиции трагедии: дескать, «если бы Гамлет осуществил свою задачу сразу, то не получилось бы никакой пьесы». Но поскольку репутация Шекспира как гениального драматурга не позволяла думать, будто все дело здесь просто в композиционной ошибке, это объяснение было отвергнуто, а смысл пьесы с тех пор стали искать именно в медлительности Гамлета.
2
Первую попытку разгадать тайну медлительности Гамлета предпринял Уильям Ричардсон. Он предположил, что причиной угнетенности героя была не столько смерть отца, сколько поведение матери, поспешившей выйти замуж за брата своего мужа. Поэтому, по версии Ричардсона, неприязнь к матери якобы просто пересиливала чувство неприязни к дяде и отодвигала задачу отмщения на второй план. Слабость этой версии заключается в том, что в тексте ей нет никаких подтверждений. Напротив, Гамлет искренне страдает от своей нерешительности и постоянно ругает себя за бездействие.
Еще одна версия причин медлительности героя принадлежит Гете, который считал, что дело здесь в особенностях характера героя, просто неспособного к решительным действиям: «Мне ясно, – писал Гете, – что хотел изобразить Шекспир: великое деяние, возложенное на душу, которой деяние это не под силу». Эту точку зрения разделяли немецкий философ А.Шлегель и английский поэт С.-Т.Кольридж, считавшие Гамлета человеком, лишенным воли. К ним примыкает также немецкий критик Г.Ульрицы, полагавший, что Гамлет каждый раз откладывает акт возмездия, потому что не может переступить через присущие ему моральные принципы. Вскоре было замечено, однако, что с этой версией не согласуется целый ряд эпизодов пьесы, а сцена убийства Полония, которого Гамлет принимает за своего дядю, вообще опровергает ее: здесь Гамлет явно не выглядит ни слабым, ни безвольным.
Тогда возникла вторая группа критиков, которые попытались найти причины медлительности героя в неких объективных обстоятельствах. Это направление наиболее полно выражено в «Лекциях о «Гамлете» Шекспира» немецкого критика К.Вердера. Он считал, что целью Гамлета было не столько убийство Клавдия, сколько доказательство его вины, а поскольку получение таких доказательств сопряжено с трудностями (Клавдия охраняют, он стремится нейтрализовать Гамлета, окружает его шпионами и т.д.), это затрудняет Гамлету выполнение его миссии. Но и это толкование не оказалось убедительным, так как не нашло подтверждений в тексте. Напротив, в пьесе речь идет о мести именно как об убийстве, а отнюдь не о доказательстве вины.
Наконец, систематические неудачи в попытках установить смысл поступков героя привели к мнению, будто никакого смысла в них нет вообще, что в этой пьесе Шекспир просто не справился с задачей, и «загадка Гамлета» – не более чем результат ошибок автора. Одним из ниспровергателей Шекспира был Л.Н.Толстой, полагавший, что «нет никакой возможности найти какое-либо объяснение поступкам и речам Гамлета и потому никакой возможности приписать ему какой бы то ни было характер». А в 1919 году вышла статья «Гамлет и его проблемы», в которой лауреат Нобелевской премии по литературе Т.С.Элиот писал: «В том, что материал не поддался Шекспиру, не может быть никаких сомнений. Пьеса не только не шедевр – это, безусловно, художественная неудача драматурга. Ни одно его произведение так не озадачивает и не тревожит, как «Гамлет». Это самая длинная из его пьес и, возможно, стоившая ему самых тяжких творческих мук, – и все же он оставил в ней лишние и неувязанные сцены, которые можно было бы заметить и при самой поспешной правке».

