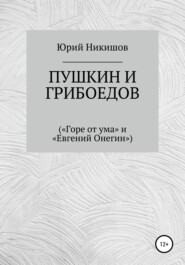 Полная версия
Полная версияПушкин и Грибоедов
Пушкинское определение на слуху постоянно. Но ведь четкая формула не раскрывает проблему, а только обозначает ее. К тому же «дьявольская» разница – ничуть не чрезмерная гипербола. Но поэт не избегает препятствий, воспринимаемых неодолимыми.
Термина, который соединил бы крайности в едином целом, не существует, пользуемся составным, с контрастными слагаемыми. При таком подходе возникает тенденция рассматривать романное (эпическое) и стихотворное (лирическое) составляющие как полюса, притяжения которых и выстраивают произведение.
Чтобы подчеркнуть ведущее начало, в пушкиноведении чаще расставляются односторонние акценты. Еще Ю. Н. Тынянов отдавал предпочтение «словесному плану» романа перед «планом действия»84. Подобная позиция получила распространение и развитие. Интересная мысль высказана С. Г. Бочаровым: «Единство романа “Евгений Онегин” – это единство автора; это, можно сказать, “роман автора”, уже внутри которого заключен “роман героев”, Онегина и Татьяны»85. Это суждение справедливо, если иметь в виду содержательную сторону романа, колоссальную роль личностного начала в «Онегине», то, о чем писал еще Белинский. Если же учитывать композиционную структуру произведения, в строгом значении понятия, то вернее будет сказать, что «роман автора» входит внутрь «романа героев»: автор ведет повествование о героях и попутно (хотя и весьма широко) развертывает повествование «о времени и о себе».
Реже, но в истолковании произведения встречается иной крен. Полагает М. М. Бахтин: «Стилистическое построение “Евгения Онегина” типично для всякого подлинного романа»86. Действительно, в «Онегине» очевидны фундаментальные опоры бахтинской концепции романа: многоголосие (диалогичность) романа, контакт с незавершенной современностью, смеховая фамильяризация мира. Вместе с тем заслуживает оговорки, что Бахтин не принимает во внимание стихотворную природу «Евгения Онегина», при всем том, что специально подчеркивает различие стихий поэзии и прозы.
Пушкин предельно точен во всем, что касается литературного творчества; но можно видеть и его двойной выбор из двойного жанрового обозначения столь важного для него произведения. В тексте «Евгения Онегина» устойчиво наименование «роман» («С героем моего романа», «И тем я начал мой роман», «Покамест моего романа», «Страницы нежные романа», «В начале нашего романа», «И даль свободного романа»), но синонимично встречается и обозначение «поэма» («Как будто нам уж невозможно / Писать поэмы о другом…»). В письмах у Пушкина другой крен: «Онегин» почти монопольно именуется поэмой.
Очень быстро, на полях второй страницы онегинской рукописи, появляется отсутствовавшее в начале рукописи общее название («Евгений Онегин»), оно сопровождается жанровой пометой: «поэма в …» Недописанное, надо полагать, означало бы цифру объема начатого произведения в каких-то единицах – частях? главах? песнях? Объем и структура первоначально (даже предположительно) не были указаны. Жанровое обозначение сделано – «поэма», хотя уже во второй строфе задействовано иное обозначение жанра («С героем моего романа…»). В двойном обозначении заключен определенный смысл. Подтверждается: «романное» и «стихотворное» начала образуют в жанровом строении «Онегина» своеобразные полюса, они и задействованы оба.
Но было и еще одно обозначение жанра: в предисловии к отдельному изданию первой главы она представлена как «начало большого стихотворения…» Это сугубо индивидуальное обозначение вероятнее всего содержит только отсылку к стиховому полюсу произведения, чем и ограничивается его жанровое наполнение.
Пожалуй, было бы непродуктивно разделить художественные приемы, под знаками полюсов, на два перечня. Конечно, обнаружатся и специфические приемы. Скажем, «стихотворный» раздел возглавили бы ритм и рифма (которая в поэзии необязательная – и преимущественно используемая). Но рифма (в основном грамматическая) и ритм стихийно может проникать и в прозаические фрагменты. Невозможно определить, стихами или прозой написана эпитафия Державина на могиле знаменитого полководца: «Здесь лежит Суворов». Мал объем текста! Фразу можно продолжить ритмично, возникнет эпитафия в стихах. А попробуем акцентировать деяния полководца («который…») – собьемся с ритма, перейдем на прозу. А эпитафия свидетельствует: даже «чистые» приемы норовят хотя бы стихийно сблизиться с контрастными.
Но еще важнее обстоятельство, что множество приемов активно как в одной, так и другой сфере творчества. Они-то нагляднее позволят увидеть «дьявольскую разницу» повествования в стихах и в прозе.
СЮЖЕТ. Своеобразие композиционного строя «Онегина» состоит в сочетании сюжетного повествования с системой авторских рассуждений. Что главное в такой структуре? Конечно, сюжет. Возникает надобность уточнять особенность этого сюжета – ослабленный, замедленный, пунктирный и т. п. (Но только не «лирический»: сюжет – прерогатива эпоса и драмы, это изложение событий, действия. Иногда возникает соблазн по аналогии назвать сюжетом движение авторских размышлений в лирике, но метафорический оттенок такого употребления термина очевиден). Напротив, можно отмечать содержательную емкость и разветвленность авторских рассуждений, само число которых решительно отделяет «Евгения Онегина» от «строгих» эпических произведений: «Если бы убрать из “Евгения Онегина” лирику, то роман потерял бы половину своего обаяния»87. При всем том именно эпизоды сюжета обеспечивают движение романа в целом и служат фундаментом, основой для монтажа рассуждений. «Композиционной основой “Онегина” является повествование о событиях. Автор влечется вперед не ходом ассоциаций, а “логикой” своего материала. Вот почему с большой поправкой надо принимать авторскую оценку своего произведения как “рассказа несвязного”»88.
Если мы поймем сюжет как доминанту повествовательной структуры, будет легко установить роль и место авторских рассуждений. Тем самым мы уясним эпическую, романную основу композиции «Онегина», что нисколько не препятствует установлению модификации повествования, осуществленного в стихах.
Содержательный уровень глав, может быть, в большей степени реализуется не в сюжете внешнем, а в «сюжете» внутреннем, в таком материале, к которому понятие «сюжет» применяется уже расширительно. Не следует ли исходить именно из главного и в определении композиционной структуры романа?
Художественной форме повествования необходимо отдать должное. Микродозу внешнего сюжета романа в первой главе можно изложить одной фразой: Онегин поехал – и приехал в деревню. Но хотя это сообщение разорвано, оно начинает и завершает главу, внешний сюжет создает конструктивную основу, на которой прочно крепится сложная и объемная содержательная система главы. Вот почему так важен сюжет и романная, эпическая составляющая «Евгения Онегина».
Содержательная (очень высокая) роль «лирического» начала не совпадает с его подчиненным местом в структуре повествования. Все-таки без реального (эпического) сюжета пушкинский роман рассыпается. Подтверждение может дать сама творческая история произведения. Сохранившиеся четверостишия из так называемой десятой главы читаются как связный текст! Но фрагмент, даже большой, так мог быть построен – глава без сюжета не состоялась.
Известно: где сюжет, там можно выделить экспозицию, завязку, развитие действия, кульминацию, развязку. В «Онегине» обнаруживается и эта композиционная схема, но она весьма своеобразна. Рассмотрим только экспозицию.
Возьмем для сравнения «Мертвые души»: здесь в экспозиционной первой главе в порядке первого представления картина дана широчайшая. Разумеется, основательно представлен главный герой (уделено внимание и его слугам), подробно описан губернский город, охарактеризованы общие нравы его жителей, выделена чиновная верхушка. Мало того, мы повстречаемся и с тремя из пяти «портретируемых» помещиков; даже Плюшкин (о котором Чичиков узнает лишь в конце визита к Собакевичу) прогнозируется проявленным уже в первой главе любопытством Чичикова ко всякого рода аномалиям.
Пушкин же отнюдь не спешит с «парадом героев». Первая глава «Онегина» тоже экспозиционна (в письме к Бестужеву 24 марта 1825 года поэт назвал ее «быстрым введением»), она сосредоточена на портрете главного героя, но зато полностью показывает его предысторию (упоение светской жизнью) и, как потом выяснится, почти исчерпывает (с прибавлением описания только самого начала деревенской жизни во второй главе) изображение первого этапа его истории, этапа хандры как внешнего выявления преждевременной старости души. Концовка главы служит экспозицией к основному (деревенскому) сюжетному звену. А здесь Пушкин не воспользовался для представления новых лиц такой благоприятной возможностью, как уездный съезд по случаю похорон онегинского дяди, ограничившись беглым, неиндивидуализированным сообщением, уместившимся в половине строфы:
К покойнику со всех сторон
Съезжались недруги и други,
Охотники до похорон.
Покойника похоронили.
Попы и гости ели, пили
И после важно разошлись,
Как будто делом занялись.
В. В. Набокова «с детства» беспокоил вопрос: «Как могло случиться, что соседи Онегина, Ларины, не присутствовали на похоронах и поминках, ощутимое эхо которых, как кажется, встречается в Татьянином сне (глава Пятая, XVI, 3–4), когда она слышит крики и звон стаканов “как на больших похоронах”?»89. Если бы литературные герои были живыми людьми, они, точно, встретились бы на похоронах. Только для Онегина (в его зоне ведется здесь повествование) все гости на одно лицо, ни к кому он не присматривался. Для Татьяны такая встреча была бы событием, только героиня еще не включена в повествование. Экзотично и некрасиво знакомить романтичных героев на поминках. Ради особенной для героини атмосферы первой встречи при визите Онегина Пушкин на поводу житейского правдоподобия не пошел.
Между тем всего лишь полстрофы описания похорон в полной мере выполнили роль романной экспозиции – но по законам лирического повествования: четко заявлена поэтическая тема соседства, которая будет подхвачена и активно развита во второй и третьей главах. Преобразование темы в групповой портрет состоится, но будет отложено до содержательно аналогичной сцены съезда гостей на именины Татьяны (заметим, что именно в пятой главе демонстративно акцентируется эпический склад повествования).
Роман в стихах противостоит поэмам Пушкина, но противостоит не контрастно – обновляя, но и заимствуя некоторые приемы изображения. В фундаментальном труде, посвященном истории романтической поэмы, В. М. Жирмунский особо отмечал ее композиционные основы: «В композиционном отношении романтическая поэма сохраняет традиционные особенности жанра, освященные примером Байрона и Пушкина, – вершинность, отрывочность, недосказанность»90.
Большой интерес представляет широко цитируемая Жирмунским рецензия Вяземского (1827) на «Цыган», где пылко пропагандируется подобный композиционный стиль подспудно в противопоставлении его новому стилю «Онегина»! Вот фрагмент этой рецензии: «Как в были, так и в сказке мы уже не приемлем младенца из купели и не провожаем его до поздней старости и наконец до гроба, со дня на день исправляя с ним рачительно ежедневные завтраки, обеды, полдники и ужины. Мы верим на слово автору, что герой его и героиня едят и пьют, как и мы грешные, и требуем от него, чтобы он нам выказывал их только в решительные минуты, а в прочем не хотим вмешиваться в домашние дела…»91.
На фоне рассуждений друга Пушкина (уже знакомого с началом «Онегина»!) особенно колоритно проступает повествовательный стиль романа в стихах. Пушкин не повел своего героя до старости или хотя бы до женитьбы, но он заставил читателя приять младенца из купели. Что касается ежедневных завтраков, обедов и прочих пирований, отметим обыкновенную гиперболу Вяземского: ежедневные застолья (к тому же неоднократные) просто невозможно изобразить (нет надобности изображать) в литературе. Пушкин поступил иначе: он подробно описал один, взятый на выбор, типовой день жизни столичного денди (потом описал деревенский день анахорета, даже в двух разновидностях, летней и осенней). Ежедневные повторения не показываются, лишь подразумеваются и прямо удостоверяются («и завтра то же, что вчера»). Но и типовые описания Вяземским воспринимаются излишними.
Что касается степени полноты описаний, тут надо разбираться. С точки зрения романтической поэмы подробностей у Пушкина явный преизбыток, с точки зрения неторопливого прозаического романа их, порою чувствительных, очевидная недостача. «…Улаживание дел по наследству – отца и дяди – должно же занять хоть сколько-нибудь времени…»92 – настаивает А. А. Аникин. Пушкин же росчерком своего пера моментально вводит своего приятеля в дядино наследство, минуя описание обязательных бюрократических процедур, которые ему художественно не нужны, а в результате (даже исследователь признает) «роман никак не создает ощущения суеты, скорее, наоборот, вся его музыка отражает неспешное течение жизни» (с. 9), кстати, как раз потому, что в романе предметов, выбранных для изображения, немного, им не тесно.
«Хандра», «Поэт», «Барышня»: а ведь это сюжетные звенья, выраженные назывными существительными в плане-оглавлении романа. Но это предполагает и определенный – описательный – тип повествования: оно принимает вид цепочки описаний («Описывать мое же дело»!).
В «Евгении Онегине» сюжет выполняет связующую конструктивную роль все-таки иначе, нежели в прозе. Вот один из важнейших компонентов первой главы – описание дня Онегина. Многое сюда поместилось, и наконец-то мы вместе с героем попадаем на бал. Тут-то герою, представленному исповедником науки страсти нежной, есть где разгуляться! Что имеем? Автор вытесняет героя – вплоть до момента, когда, уже утром, полусонным Онегин отправляется домой. Если разобраться, и невозможно в одно описание вместить весь разнообразный опыт героя; тут ниточки потянут множество просто обвальных историй, в которых легко было бы запутаться. В первой главе сюжет описания вытеснил сюжет действия. Мало того. Рассказчик, обнажив свое лицо, меняет и угол зрения. Для него описываемый образ жизни по обстоятельствам утрачен, а потому ностальгически воспевается…
Сцену свидания героев в саду невозможно понять, не учитывая специфики повествования в стихах.
А куда и зачем убежала Татьяна, увидев въезжающего во двор Онегина?
У нас, воспринимающих сцену задним числом, есть большое преимущество: над нами не висит дамоклов меч времени. Можем сделать остановку в чтении для размышления. Понадобится – вернемся к прочитанным страницам.
У Татьяны было время для раздумий. Только не парализовала ли ее сознание неясность, что ответит ее кумир? Когда увидела долгожданного, времени на раздумье уже не оставалось. В поведении Татьяны увидим и логику, и алогизм.
«Татьяна прыг в другие сени…» «Другие» сени ведут не к парадному выходу – «с крыльца на двор». А там желанный и страшный! Подойти к нему, конечно, нет никаких сил, мимо, в сад!
А возможен ли вариант? Ждет появления приехавшего в гостиной. Его, конечно, потчуют чаем, заводят общий разговор. Да, Татьяна выражала готовность довольствоваться малым: «единым взором / Надежды сердца оживи, / Иль сон тяжелый перерви, / Увы, заслуженным укором!» Взор Онегина может быть говорящим, только чувства его гораздо сложнее, чем «да» и «нет»; опять же у него есть желание даже отказом не обидеть девушку; тут без слов не обойтись. Татьяна колеблется. Не угасает надежда, что встретит ангела-хранителя. Но тревожат и сомнения, поскольку визиты героя не повторялись. Сидеть, как на угольях, в его присутствии? Нет, только выслушать!
При желании легко угадывается, куда и как убежала Татьяна. «Безотчетный» пробег Татьяны хотя и интуитивный, но прямой и недальный: вдоль основной аллеи этого направления до поворота к любимой скамейке, на которой наверняка сиживала с книжкой. Поймем это, если обратим внимание на обратный путь. Татьяна встала со своей скамьи, пошла, повернула в аллею (конечно, ведущую к дому), встретила здесь Онегина, который по саду не рыскал. Но ведь пробег Татьяны прописан иначе, и он излишне усложнен! Поведение Татьяны рациональному объяснению не поддается. Она, похоже, аллею вначале игнорирует («мигом обежала / Куртины…»), особенно явно в финале пробега: «Кусты сирен переломала, / По цветникам (?) летя к ручью…» В кусты не было надобности забираться, да и цветники топтать.
В описание явно лишнее попало. Это для чего? Чтобы читателю стало ясно: Татьяна убежала в беспамятстве. Сознание парализовано, только ощущение: он здесь! Что скажет? Жажда услышать – страшно услышать…
Пусть бежала не аллеями, а целиной, напрямую, только ноги сами привели ее, куда надо. Она же в этом саду выросла, тут ей каждый кустик знаком. Интуиция – сильное свойство героини. А описывать все это прямым текстом – скучно будет.
Пушкин, пожалуй, опрометчиво безотчетность пробега Татьяны показывает метафорически: как будто она дороги не различает. Не подвигнула ли его к этому привычка новую тему начинать в новой строфе? Вот он полстрофы и заполняет перечнем, что минует Татьяна. А в половину строфы много поместилось, в том числе и лишнее.
Зато в стихотворном построении концовка строфы изящна. Оценим: «И задыхаясь на скамью // Упала…» И «упала» – тоже гипербола, просто знак полностью истраченных (не только от бега, но и от волнения) сил: конечно, села, чуть грузнее обычного. И оказывается кстати ритмическая двойная (и строчная, и строфическая) пауза: успокаивайся, выравнивай дыхание.
Онегин и Татьяна возвращаются неспешным шагом по аллее, «вкруг (?) огорода». Еще одна странность? Аллею к дому вкруг (!) огорода не прокладывают. У Пушкина это не садово-парковая новация – к ходовому в поэзии слову нашлась простая и редкая, неожиданная рифма: огорода – свобода. Тут можно видеть особенный случай: не содержание ищет форму, а форма подчиняет себе содержание.
Потом «Явились вместе, и никто / Не вздумал им пенять на то…» Это списано на сельскую свободу, но ведь и она должна иметь пределы. Возвращались бы с прогулки Ленский с Ольгой – дело привычное. А тут – всего лишь при втором визите героя – возвращается парочка (а время-то позднее!) – и никаких вопросов? Из чувства деликатности не тотчас, но после вопросы были бы ожидаемы – у матери к дочери и у Ленского к приятелю тоже.
Я отмечаю явные пробелы на стыках или странные связки эпизодов не с целью злорадства над погрешностями поэта, но с целью показать избирательность его изображения. Поэт очень упорно работал над содержанием исповеди Онегина, обстоятельства свидания очерчены несколькими штрихами, а все остальное ему было не интересно; какие-то бытовые подробности опущены, другие не согласованы. Стихам противопоказаны болтливость, скатывание в ритмизированную и зарифмованную прозу. Иначе говоря, романтический принцип выказывать героев только в решительные минуты Пушкин распространяет и на изображение бытовых эпизодов: выделяет главное, какие-то объяснения (существенные, на иной взгляд) опускает, связки прорисовывает бегло и далеко не везде тщательно.
Парадоксально, что в число примет создаваемого романа поэт в посвящении включает «небрежный плод моих забав…» А в итоговой адресации заканчиваемого творения повторено:
Чего бы ты за мной
Здесь ни искал в строфах небрежных,
<…>
Живых картин, иль острых слов,
Иль грамматических ошибок…
Диапазон читательских предпочтений здесь обозначен весьма широко. Только желание поэта потрафить всем мы вправе воспринимать ироничным, зато разностильность охваченного материала надо взять на заметку.
Небольшой объем лирических стихотворений позволяет шедеврам достигать монолитности. Но невозможно представить, чтобы более пяти тысяч онегинских строк были написаны на одном (шедевральном!) уровне: обширное повествование требует волнообразно колеблемой интонации. Вплоть до удивительного: то, что Пушкин именует небрежностью, по-своему участвует в формировании художественности «Евгения Онегина», создавая блеклый фон, на котором и становятся заметными, броскими изысканные образы. В этом случае «небрежность» ослабляет свое словарное значение, а сближается с тем, которое Пушкин обозначает «свободный» роман.
ПЛАСТИКА ПЕРЕХОДОВ. Пушкин очень часто не нуждается в фиксировании «переходов» от одного состояния образа к другому, равно как и от эпизода повествования к смежному. Здесь переходы осуществляются по законам поэтического творчества: деталям не противопоказано взаимодействовать на расстоянии, функции переходов восполняет активная читательская мысль. (Тут важно стремление понять поэта и не наполнять его образы своим автономным воображением). Так возникает своеобразная пластика романа в стихах, отличная от непосредственно развертываемой пластики прозаического романа. Можно рискнуть уподобить ее реализации словесного поэтического образа, крови и плоти поэзии. Наиболее распространенной формой такого образа выступают сравнения и метафоры. Мысля метафорами, поэт передает изображаемому предмету или явлению свойства или признаки других предметов или действий; как правило, между тем и другим устанавливается связь неожиданная, неочевидная; обнаружение подобного рода связи во многом и есть поэтический способ познания мира. Высокое напряжение образа создается за счет преодоления неочевидным сходством очевидной разницы сопоставляемых предметов.
Пауза между двумя повторами образа по-прежнему оставляет ощущение отсутствия переходов, но пауза смягчается, пластика переходов реализуется не непосредственно в поэтическом тексте, а в восприятии читателя.
Красноречивый пример.
…прямо перед ней,
Блистая взорами, Евгений
Стоит подобно грозной тени,
И, как огнем обожжена,
Остановилася она.
Вот так молния блеснула и опалила Татьяну. Будет и гром, только ждать его приходится долго, до конца восьмой главы:
Она ушла. Стоит Евгений,
Как будто громом поражен.
Просто удивительно: Онегин «поражен» громом той самой молнии, которой блеснул его собственный взор. И на непомерном для природной молнии расстоянии, и в более чем солидном промежутке времени.
Только нужно ли, можно ли сближать эти два описания? Но художественная связка полностью соответствует смыслу эпизодов. Онегин наказан именно за то, что в ларинском саду, блистая взорами, читал проповедь.
Восьмая глава – конечная, а роман здесь не кончается: последуют еще примечания, а после них – фрагменты первоначальной восьмой главы «Странствие», «Отрывки из путешествия Онегина».
На органической связи «Отрывков…» с текстом романа настаивает Ю. Н. Чумаков. Исследователь глубоко комментирует последнюю строку романа «Итак, я жил тогда в Одессе…»: «Благодаря ей внутренние силы сцепления опоясали мотивом Одессы не только последнюю часть “Отрывков” (“Я жил тогда в Одессе пыльной” – “Итак я жил тогда в Одессе”), но связали вместе конец главы и конец романа (“Промчалось много, много дней” – “…я жил тогда в Одессе”) и даже заставали перекликнуться конец с началом “Онегина” (“Придет ли час моей свободы” с примечанием “Писано в Одессе”). Последняя строка романа стала гораздо более емким смысловым сгущением, чем была при своем первом появлении в печати… Стих дает пищу воображению читателя за пределами текста и в то же время начинает только что оконченный роман, первые главы которого писались именно в Одессе»93. Набоков пишет о Черном море, «которое шумит в предпоследней строке “Евгения Онегина” и объединяет линией своего горизонта» первую главу «и заключительные строки окончательного текста романа в один из… внутренних композиционных кругов…»94.
Наблюдения проницательны. Но затронутый материал богаче, он обладает повторяющейся композиционной функцией, причем проглядывается важный для романа принцип тройственного членения.
В черновике «Странствие» в качестве восьмой главы нарушало композиционную гармонию романа. «Отрывки из путешествия Онегина» в своем финальном положении – это не дисгармоничный придаток и довесок, но важное композиционное звено, довершающее – еще на одном уровне – триаду как основу художественной гармонии «Евгения Онегина». В романе реализован основной мотив концовок, выступающих в качестве композиционных вех, – мотив прощания. Он завершает шестую главу и восьмую, последнюю. Конечно, в «Отрывках» мотив редуцирован (как редуцированы все «Отрывки…», давая неполный текст главы), тем не менее здесь он тоже существен. Разделяя повествование на неравные отрезки (шесть глав – две главы – только фрагменты главы), мотив созвучен движению времени от неторопливого начала к стремительно нарастающему ускорению. Возникая на базе антитезы «В ту пору мне казались нужны…» – «Иные нужны мне картины…», мотив прощания готов достигнуть пределов отречения («Но, муза! прошлое забудь»), но отречение невозможно, прошлое напоминает о себе: «Таков ли был я, расцветая?». И вновь с мотивами творчества сплетается интимный мотив. Финальное положение строки «Итак, я жил тогда в Одессе…» демонстративно сознательно, поскольку, хотя полный текст «Странствия» неизвестен, рукописные строфы продолжения частично сохранились. Именно жест «Дай оглянусь» оставлен как решающий и заключительный.



