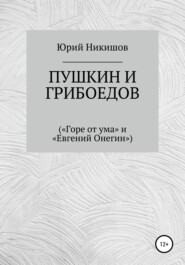 Полная версия
Полная версияПушкин и Грибоедов
Что противостоит? «Теперь пускай из нас один…». Все-таки остается – мы, только выступать приходится в одиночку. Результат предсказуем: староверы «тотчас: разбой! пожар! / И прослывет у них мечтателем! опасным!!». Нечто подобное Чацкий только что слышал от Фамусова. Протест героя сулит трагический исход обозначившегося конфликта.
Чацкого нередко воспринимали резонером. Писал по свежему следу Н. И. Надеждин: «Это не столько живой портрет, сколько идеальное создание Грибоедова, выпущенное им на сцену действительной жизни для того, чтоб быть органом его собственного образа мыслей и истолкователем смысла комедии. <…> Это род Чайльд-Гарольда гостиных»113. Мельком, но о том же сказал К. А. Полевой: «Поэт невольно, не думая, изображал в нем <Чацком> самого себя»114. Свидетельствует, но с неудовольствием В. И. Немирович-Данченко: «Большинство актеров играют его <Чацкого>, в лучшем случае, пылким резонером. Перегружают образ значительностью Чацкого, как общественного борца. Как бы играют не пьесу, а те публицистические статьи, какие она породила. Самый антихудожественный подход к роли. <…> Затем идет боязнь актеров унизить Чацкого, если отдаться всеми нервами веселости, радости или другим чувствам, так свойственным всякому молодому влюбленному, к каким бы гениальностям он ни принадлежал. В этом тоже художественная узость, оскопившая множество сценических образов на протяжении последних двадцати пяти лет»115 (имеется в виду начало ХХ века).
Впечатление резонерства Чацкого закрепляется ситуацией. Третье действие вершится обширным монологом героя. Начинается он адресно, жалобой на горе в душе. Возникает у героя желание, как говорится, поплакать в жилетку Софье, найти хоть у нее уж не нежности – лишь капельку сочувствия среди всеобщего отчуждения. Недолго это длится: и он теряет из виду Софью, и та от него удаляется (послушная знакам отца? или просто приглашенная кем-то на танец?). Монолог произносится в пустоту и обрывается незавершенной фразой: «Глядь…» И следует многозначительная ремарка: «Оглядывается, все в вальсе кружатся с величайшим усердием. Старики разбрелись к карточным столам». И опускается занавес. Конец III действия.
Но есть большой соблазн посчитать, что монолог идет не в пустоту. Да, «действующие» монолог не воспринимают, оратора отторгают. Но монолог идет в зрительный зал – не в расчете ли на то, что именно там (пусть не у всего зала, но хоть у кого-нибудь; в советские годы нашей истории – у многих, если не у всех, кто пришел на этот спектакль) герой найдет понимание и сочувствие, чего лишен на сцене? Иными словами, возникает характерная ситуация общения автора со своими сочувственниками при посредстве героя-резонера?
Контрастное представление о герое наличествует: «Чацкий не псевдоним Грибоедова, а его подставное лицо»116. «Чацкий – не идеал, не рупор, а живой человек, написанный к тому же психологически сложно, тонко, разветвленно. <…> Появление Чацкого в русской литературе сродни его явлению в доме Фамусова: он был странен и неприемлем» (с. 170).
Воззрение на Чацкого как на резонера, пожалуй, инерционно и неверно. Разумеется, этот герой выделен и пользуется авторской симпатией (чуткое ухо Пушкина услышало и сатирические замечания, почерпнутые у Грибоедова), но этого все же недостаточно, чтобы воспринимать героя alter ego писателя117.
А. А. Кунарев обращает внимание на психологическую сторону проблемы: «Теперь относительно пушкинского упрека: “кому говорит?” Да, фамусовым и скалозубам, репетиловым и т. п. – это правда. Но, положа руку на сердце, спросим себя: если сердце изболелось, если невмоготу становится от самодовольно торжествующей пошлости и подлости, если не можешь уже сдержаться, будешь ли выбирать специально слушателей, “аудиторию”?»118. «…Чацкий не агитатор и целью его вовсе не является обращение в свою веру слушателей – для него важно четко обозначить свою позицию, дабы молчание не было воспринято за согласие с превозносимыми Фамусовым и иже с ним житья “подлейшими чертами”» (с. 433).
Дополню то, о чем уже говорилось: монологи Чацкого, за исключением выпада против крепостного права, не слишком острые. В первом монологе второго действия досталось минувшему веку и тем, кто примитивно подслуживался. Но достижения своего века завышены. В монологе «А судьи кто?» критика стала предметней и вскрыто главное социальное зло тогдашней России – крепостное право. Острота монолога по поводу «мильона терзаний» идет на спад. Даже прямо отмечено: терзания голове копятся «от всяких пустяков». Чацкий долго изъясняется по поводу «незначащей встречи» с французиком из Бордо, ратуя за то, «Чтоб истребил господь нечистый этот дух / Пустого, рабского, слепого подражанья…» Попутно он отрекается от своего утверждения «что старее, то хуже»; напротив, теперь он согласен прослыть старовером, презирая «наш Север» после того, как тот «отдал всё в обмен на новый лад – / И нравы, и язык, и старину святую, / И величавую одежду на другую / По шутовскому образцу…» Народная тема исчерпана пожеланием, «Чтоб умный, бодрый наш народ / Хотя по языку нас не считал за немцев». Ревниво сетует, что пустой человек, но иностранец «Лишь рот открыл, имеет счастье / Во всех княжён вселять участье…» (а что за счастье в такой акции?).
Заключительный монолог героя под занавес – это попытка погромче хлопнуть дверью. Чацкий «растерян мыслями», но сохраняет способность мыслить рационально. Он даже набрасывает целую программу: «Теперь не худо было б сряду / На дочь и на отца / И на любовника-глупца, / И на весь мир излить всю желчь и всю досаду». Только любопытно: программа оглашена к концу монолога, когда уже выдано свое и отцу, и дочери, и любовнику. Тем не менее напоследок еще остается – не шутка – «весь мир»! Перед кем произносится монолог? Дочь погружена в свое горе. Отец от конкретики имеет опыт отключаться. Толпа слуг – не лучшая аудитория, она высокими материями не интересуется. Концовка монолога, как и прежние, идет в пустоту. Но и широкий размах («весь мир»!) сужается: перед мысленным взором Чацкого проходят только что вызывавшие раздражение частные особи:
С кем был! Куда меня закинула судьба!
Все гонят! все клянут! Мучителей толпа,
В любви предателей119, в вражде неутомимых,
Рассказчиков неукротимых,
Нескладных умников, лукавых простяков,
Старух зловещих, стариков,
Дряхлеющих над выдумками, вздором…
Не много было бы чести писателю, если бы речи героя объявить его кредо. Это речи именно героя, человека достойного, честного, в меру вольнолюбивого, но который лишь «немножко повыше прочих» и с которым автор лишь «немножко» поделился своими «мыслями, остротами и сатирическими замечаниями».
Нет надобности умалять роль бытового слагаемого в построении «Горя от ума». Напротив, оно заслуживает должной оценки: «Умирающий быт оказывается действенной и жестокой политической силой, что и определяет судьбу Чацкого и отводит быту место в политической комедии»120. Все равно этого мало.
Чтобы понять трагедию Чацкого и смысл всей комедии, потребен философский уровень.
2
Возвращаясь к «Евгению Онегину», учтем, что ведущих здесь два героя, заглавный и рассказчик (автор). Поэта нельзя забывать: его жизнь датирована, стало быть, внутренняя жизнь непосредственно связана с историческим временем и оказывает сильное влияние на построение романа.
Пушкин стойко перенес начало ссылки, даже с успехом попытался обернуть к своей выгоде новизну впечатлений. Между тем какие-то внутренние часы беспрестанно отсчитывали время ссылки. «Вот уже восемь месяцев, как я веду странническую жизнь, почтенный Николай Иванович», – начинает Пушкин письмо Гнедичу 4 декабря 1820 года. Тут поэт даже несколько поторопил время: фактически истекал седьмой месяц его ссылки. 9 мая 1821 года поэт оставляет памятную запись: «Вот уже ровно год, как я оставил Петербург». 26 сентября Пушкин пишет Я. Н. Толстому о друзьях «минутной младости»: «Два года и шесть месяцев не имею от них никакого известия, никто ни строчки, ни слова…»
Отбывая в замаскированную переводом по службе ссылку, Пушкин не уповал на скорое освобождение. Первая реплика на тему возвращения выдержана в мрачном тоне: «Друзья мои! надеюсь увидеть вас перед своей смертью» (Гнедичу, 4 декабря 1820 года). И позже колеблется ожидание свободы и трезвая оценка обстоятельств. Мечта о свободе редуцируется, поэт рвется получить хотя бы краткий отпуск. В 1822 году эта мечта делается неотступной, остается лейтмотивом пушкинских писем и в 1823 году. Вот сетование на судьбу в письме к брату 30 января: «…кюхельбекерно мне на чужой стороне»; «…неприятно сидеть взаперти, когда гулять хочется». Надежда слабеет, а желание остается и осенью.
Отголосок этих переживаний синхронно отразился в концовке первой главы «Евгения Онегина», где показана разлука автора и героя:
Но скоро были мы судьбою
На долгий срок разведены.
Откуда (в момент разлуки!) в авторе такая проницательность? Но этот вопрос был бы уместен, если бы перед нами был чисто литературный сюжет. В горечи указания на «долгий срок» и прозвучала уже накопившаяся утомленность поэта от разлуки с друзьями, драматически усугубляемая полной неопределенностью перспективы.
На общение с достойными собеседниками (начиная с Лицея!) судьба Пушкина никогда не была скупа. В пушкинских письмах находим благословение семейству Раевских, упоминание о «демагогических спорах» в Каменке среди «людей известных в нашей России», о беседах с «конституционными друзьями» на квартире Орлова. Сделана запись о встрече с Пестелем, «умным человеком во всем смысле этого слова». Достойное место в этом перечне займет «первый декабрист» поэт В. Ф. Раевский. Но Пушкину явно не хватало литературного воздуха. Поэт издал первые книжки (поэмы «Руслан и Людмила» и «Кавказский пленник») и начинает, к своей выгоде, учитывать конъюнктуру – но трудно было владеть инициативой на расстоянии в две тысячи верст от издателей, к тому же в иных случаях почте предпочитая оказию.
В Кишиневе Пушкин службой не занимался, в Одессе Воронцов, приласкавший поэта при первой встрече, потребовал от него чиновничьего служения. «Изгнанник самовольный» почувствует себя тем, кем и был на самом деле, – «ссылочным невольником».
Личные невзгоды переживались с подчеркнутой остротой, потому что усугублялись напряжением исторической обстановки. В материалах, предназначенных для десятой главы романа (главы «не для печати»), рисуется такая обобщенная картина:
Тряслися грозно Пиренеи –
Волкан Неаполя пылал,
Безрукий князь друзьям Мореи
Из Кишинева уж мигал.
Нигде борцы за свободу успеха не имели.
Именно тогда, когда ссылка сделалась невыносимой, когда и осозналась как ссылка, а не добровольный разрыв со светом и поиск освежения под небом полуденным, общественные перемены к худшему стали солью на рану. Рана же в сердце поэта открылась из-за того, что со всей остротой встали вопросы, верны ли принципы, за которые поэт боролся и за свою борьбу пострадал. Именно потому, что Пушкин был не сторонним созерцателем, а политическим ссыльным, был борцом за свободу против тирании, вставшие перед ним общие политические проблемы приняли обостренно личный характер. Он, признанный поэт, многое потерял, он вдали от друзей, от литературной среды, от журналов и издателей, а во имя чего? Если цель возвышенна и благородна, но недостижима, то не напрасна ли жертва?
Звоночек сомнений прозвучал уже в 1821 году и повторялся с нарастанием. Общественная ситуация, как ее воспринимал Пушкин, продолжала ухудшаться. 1 декабря 1823 года в письме А. И. Тургеневу Пушкин в ответ на желание адресата «видеть оду на смерть Наполеона» выписывает из нее «самые сносные строфы», заключая: «это мой последний либеральный бред, я закаялся и написал на днях подражание басне умеренного демократа Иисуса Христа (Изыде сеятель сеяти семена своя)…» Приводимая евангельская строка взята Пушкиным в качестве эпиграфа к стихотворению; это «Свободы сеятель пустынный…»
Свободы сеятель пустынный,
Я вышел рано, до звезды,
Рукою чистой и безвинной
В порабощенные бразды
Бросал живительное семя –
Но потерял я только время,
Благие мысли и труды…
Паситесь, мирные народы!
Вас не разбудит чести клич.
К чему стадам дары свободы?
Их должно резать или стричь.
Наследство их из рода в роды
Ярмо с гремушками да бич.
Во всем пушкинском поэтическом наследии вряд ли найдется другое стихотворение с таким суровым, даже мстительным отрицанием. Такова реакция на прозрение, что благородный порыв наткнулся на глухую стену не просто непонимания, но отчуждения, прямой враждебности. С предельной ясностью выражено отношение к своим вольнолюбивым стихам, «либеральному бреду»: поэт зарекается их писать, «чести клич», как ему кажется, более не прозвучит. К тому, что сделано, отношение двоякое: поэт не отказывается от своих порывов в их содержании, они в его восприятии по-прежнему «живительное семя». Но они осознаются несвоевременными, преждевременными, тем самым, при всем их обаянии, обреченными на гибель.
Пушкин проницательно определяет причину поражений европейских революционно-освободительных движений: они совершаются кучкой благородных заговорщиков при безучастности и даже отчужденности народов, во имя свободы которых заговоры учиняются. Пассивная покорность народов обессиливает восставших, обессмысливает их порыв.
Европа – при активном воздействии России – входила в полосу политической реакции: это прочитывалось со всей определенностью. Чем же мучительны для поэта его свидетельские показания? Тем, что понижение общественного тонуса размывает критерии ценностей.
Обозревая безрадостную как европейскую, так и отечественную обстановку, Пушкин делает личный выбор. К 1824 году относится последнее из поэтических пушкинских посланий к Чаадаеву – «Чаадаеву. С морского берега Тавриды». Первая часть описывает развалины храма Дианы в Крыму (разрушенного землетрясением), славит, на основе греческих мифов, «святое дружбы торжество». Вторая часть решительно переиначивает известное послание «К Чаадаеву» 1818 года:
Чедаев, помнишь ли былое?
Давно ль с восторгом молодым
Я мыслил имя роковое
Предать развалинам иным?
Но в сердце, бурями смиренном,
Теперь и лень и тишина,
И, в умиленье вдохновенном,
На камне, дружбой освященном,
Пишу я наши имена.
Больно читать эти строки. Какая огромная смысловая дистанция между метафорическими «обломками самовластья» и реальным камнем из развалин храма, когда-то сооруженного, по легенде, в честь дружбы! А слово подкрепляется поступком: политическая лирика Пушкина сходит на нет. Сравним: поэт не чувствовал себя связанным обязательством два года ничего не писать против правительства, которое против его воли вырвал у него Карамзин; теперь решение принимается самостоятельно.
На политическом фланге наблюдаются наиболее значительные потери. Гордое и емкое слово «свобода» ужало свое содержание настолько, что чуткий к слову поэт предпочел синоним, различая личное и общественное наполнение понятия. Об этом с предельной ясностью свидетельствует черновик письма А. И. Казначееву, управителю воронцовской канцелярии (июнь 1824 года, подлинник по-французски): «Единственное, чего я жажду, это – независимости (слово неважное, да сама вещь хороша); с помощью мужества и упорства я в конце концов добьюсь ее». Именно на данном отрезке этот синоним в письмах Пушкина устойчив.
Политическая подоплека духовного кризиса Пушкина очевидна. Но огонь, вспыхнув, быстро охватил все здание. Как раз к началу работы над романом в стихах, к середине 1823 года, кризис вызрел. Его кульминация и программа – стихотворение «Демон». Оно симметрично распадается на две равные по объему части. В первой изложена система воззрений юного поэта. Она включает универсальное по ширине обобщение: «все впечатленья бытия», которое следом поясняется широким перечнем выбранных предметов: взоры дев, шум дубровы, пенье соловья, возвышенные чувства, свобода, слава, любовь, вдохновенные искусства. Во второй части обозначена контрастная система нигилизма, которой владеет «злобный гений» (так оформляется голос внутренних сомнений). Она тоже безразмерно широкая: не заслуживает одобрения «ничего во всей природе», конкретизирующий перечень сведен к минимуму, зато выбраны вершинные ценности: «не верил он любви, свободе».
В стихотворении нет ответов на очень важные вопросы: преуспел ли в своей агрессии «злобный гений»? Обратил ли он поэта в свою веру (точнее – в свое безверие)? Посеял ли сомнение, не искоренив веры? Сохранил ли поэт свои опоры? Ситуация нарочито оставлена открытой. В контексте пушкинского творчества, если судить по результату, ответы на возникающие вопросы возможны, и они, пожалуй, неожиданны. Большинство объявленных предметов поэзии (впечатленья бытия, природа, возвышенные чувства, любовь, вдохновенные искусства) не только выстояли, но и упрочили свое значение. Чувствительный удар претерпела, но удержалась в сфере ценностей слава. Может даже возникнуть вопрос: что же это за кризис, если эстетический идеал выдержал натиск скептицизма? Но таков итог, а бой за сохранение идеала был мучительным, ожесточенным, длительным.
Ранее Пушкин руководствовался иным, возвышенным значением слова «свобода» («Хочу воспеть Свободу миру…»). Теперь для себя поэт закрепляет редуцированное понятие, синоним «независимость». Демон не верил свободе – и частично преуспел в своем влиянии на поэта, но не до конца: от борьбы за свободу в общественном смысле в новой ситуации приходилось отказываться, но внутренняя потребность свободы оставалась неискоренимой.
Пушкин понимал: «служу и не по своей воле – и в отставку идти невозможно» (брату 25 августа 1823 года). Все равно он проявляет упрямство. Мечтая получить денег за «Онегина», Пушкин заключает: «…я не шучу, потому что дело идет о будущей судьбе моей, о независимости – мне необходимой» (Вяземскому, апрель 1824 года).
О том, насколько напряженным было состояние поэта, свидетельствует авантюрный поступок. Пушкин попытался воспользоваться двусмысленностью решения правительства: его же не отправляли в ссылку, просто был перевод по службе. Он пишет прошение об отставке! Подоплека: получает свободу – и вольным возвращается в Петербург!
Он понимал, что у него было мало шансов на успех, но и последние рухнули по стечению обстоятельств: на стол высокого начальства практически в одно время легли три документа. Пушкинское прошение парировалось доносом Воронцова с просьбой перевести куда-нибудь нерадивого чиновника, а еще выпиской из перехваченного полицией атеистического письма поэта (в последнем случае он нарушил свое обыкновение: «Сноснее нам в Азии писать по оказии»).
Пушкин получил отставку, но не получил свободу и был отправлен теперь уже в действительную ссылку – в деревню под полицейский и церковный надзор. К тому же эта ссылка была бессрочной – до очередного царского повеления.
Вяземского ужаснула весть о деревенской ссылке поэта; он расценил это чрезмерное наказание бесчеловечным убийством. Он не был уверен, что «одна деятельность мыслей» способна выдержать такое испытание. Для этого «должно точно быть богатырем духовным» (А. И. Тургеневу 13 августа 1824 года).
Ситуация в деревенской (ссылочной) жизни оказалась двойной – тяжкой и целительной («…скучно, да нечего делать; здесь нет ни моря, ни неба полудня, ни итальянской оперы. Но зато нет – ни саранчи, ни милордов Уоронцовых» – Д. М. Шварцу, черновое, начало декабря 1824 года). Тут прямая возможность путаницы оценок, если они даются без уточнений. Чтобы верно понимать эмоции и связанные с ними размышления Пушкина, необходимо учитывать жизненные обстоятельства, с которыми они связаны.
Комментируя быстрое охлаждение Онегина к деревенским впечатлениям, поэт выставляет отношение к природе одним из проявлений «разности» между собой и героем. Между тем развернутое авторское рассуждение с попыткой действительного противопоставления себя, поэта, герою воспринимается мистификационным:
Я был рожден для жизни мирной,
Для деревенской тишины:
В глуши звучнее голос лирный,
Живее творческие сны.
Досугам посвятясь невинным,
Брожу над озером пустынным,
И far niente мой закон.
Я каждым утром пробужден
Для сладкой неги и свободы:
Читаю мало, долго сплю.
Летучей славы не ловлю.
Не так ли я в былые годы
Провел в бездействии, в тени
Мои счастливейшие дни?
Мы настолько привыкаем (с полным основанием!) доверчиво относиться к пушкинскому слову, что и эти слова берем на веру. Утверждения поэта абсолютно категоричные, итоговый вопрос носит подчеркнуто риторический характер, а между тем ничто здесь не соответствует действительности. Эти строки написаны поэтом-горожанином, за плечами которого не было сколько-либо основательного опыта сельской жизни. Главного не меняет его последующий опыт. Пушкин не был рожден «для деревенской тишины». В процессе работы над первой главой он не вел так пылко изображенного образа жизни, безделье (far niente) никогда не было законом жизни поэта (хоть и выступало в роли поэтической маски в юношеских посланиях). «В былые годы» он не проводил счастливейших дней «в бездействии, в тени». Откуда однотонность идиллической картины сельского уединения, тогда как в «Деревне» (1819) сходное миропонимание рушилось под напором жизни? Неимоверным испытанием явились для поэта и годы михайловской ссылки. «…Пускай позволят мне бросить проклятое Михайловское. …Давно бы надлежало мне быть в Петербурге. <…> Мне не до «Онегина». Чёрт возьми «Онегина»! я сам себя хочу издать или выдать в свет. Батюшки, помогите», – писал Пушкин Плетневу в марте 1826 года.
И все-таки как неуместны в пушкиноведении торопливые выводы! Вот мы натолкнулись в первой главе на весьма колоритный факт – и что же, надо просто отвергнуть достоверность биографического переживания в указанной строфе (и начале следующей)? Ничуть не бывало! Фрагмент мистификационен как описание образа жизни, но он реален и достоверен как поэтическая декларация. Поэт «подружился» именно с разочарованным героем – и неспроста: началу работы над романом аккомпанирует «Демон», декларация самого острого и продолжительного духовного кризиса Пушкина, когда подверглись строгой проверке все духовные ценности его поэзии. Первая глава и дает ответ на один из вопросов, поставленных в стихотворении. «Злобный гений» не хочет благословить «ничего во всей природе». Юного поэта волновали «шум дубровы, / И ночью пенье соловья…». Теперь мы можем рассудить, что клятва поэта: «Поля! я предан вам душой», – это ответ «злобному гению». Перед его искушением поэт устоял. Особый вопрос, что, начиная с Лицея, природа лирически Пушкина волнует мало, что пылкие поэтические декларации постоянно превышают реальные отклики на впечатления от природы, – остается фактом, что природа неизменно остается в числе высоких духовных ценностей; на фоне «Демона» такое подтверждение очень весомо. Вот теперь заключим, что само по себе биографическое начало – не плоское, а объемное, многогранное, как многогранно предстает сама личность художника-творца. При этом поэтическое шире собственно биографического, духовный мир не скован узкими телесными рамками. Вот почему явно противоречащий фактам пушкинской биографии автобиографический этюд на фоне пейзажа в концовке первой главы достоверно биографичен – как поэтическое переживание, как элемент духовной жизни.
А деревенская ссылка на самом деле томит. Пушкин упорно вынашивает вариант бегства за границу. Обдумывает нелегальный вариант под видом дворового человека соседа-студента Вульфа. Пробует и легальный вариант: испрашивает позволение выехать за рубеж под предлогом лечения аневризма. Власти в выезде отказывают. Жуковский, обеспокоенный здоровьем друга, готов прислать опытного хирурга в Псков. Пушкин раздосадован (Вяземскому, 13 сентября 1825 года): «Ах, мой милый, вот тебе каламбур на мой аневризм: друзья хлопочут о моей жиле, а я об жилье».
В другом письме к нему Пушкин сравнивает жизнь в российской глухомани и в краях цивилизованных: «Ты, который не на привязи, как можешь ты оставаться в России? Если царь даст мне свободу, то я месяца не останусь. Мы живем в печальном веке, но когда воображаю Лондон, чугунные дороги, паровые корабли, английские журналы или парижские театры и – – – – – – – – то мое глухое Михайловское наводит на меня тоску и бешенство» (27 мая 1826 года). Эмоциональный перехлест этого рассуждения очевиден, и надо различать настроенческие и выверенные высказывания. Таковое заключение находим позднее в полемике поэта с Чаадаевым: «…клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество, или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам бог ее дал» (19 октября 1836 года, подлинник по-французски).



