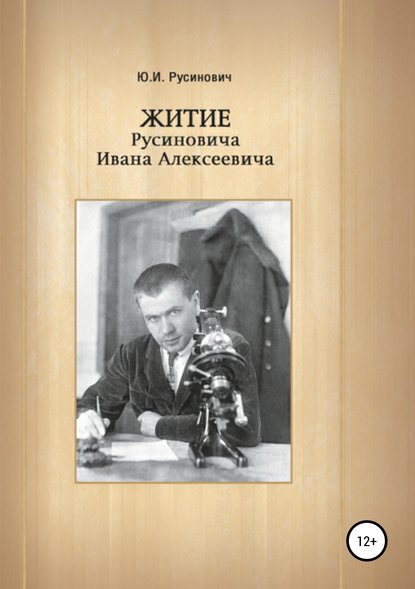 Полная версия
Полная версияПолная версия:
Житие Русиновича Ивана Алексеевича
Крутым поворотом в его биографии стала аспирантура в МИСиС – в 1962 году 29-летний Юрий успешно ее заканчивает и защищает диссертацию по проблемам холодной прокатки труб из некоторых сплавов титана. Результаты его исследований оказались важны для ракетно-космической отрасли Советского Союза, становление которой проходило в те годы в подмосковном городе Калининграде (ныне – Королеве). Кстати, научным руководителем у Русиновича был доктор технических наук Юрий Фёдорович Шевакин, отечественный классик в области теории и практики периодической прокатки.
Молодого кандидата технических наук приглашают на работу в научно-исследовательский институт НИИ-88 Министерства вооружений СССР, который занимался проектированием, экспериментальной отработкой и исследованиями космических аппаратов и ракет. Государство собирало в Королеве талантливых людей для дальнейшего покорения космоса – всего лишь год назад совершил свой легендарный полет вокруг Земли Юрий Гагарин, и советская молодежь рвалась помочь стране в достижении амбициозных целей. Русинович начинал старшим инженером, затем его назначают старшим научным сотрудником – начальником группы, начальником отдела металловедения.
В 1975 году он переходит начальником отдела в Центральный научно-исследовательский институт материаловедения (ныне ОАО «Композит») здесь же, в Королеве. Принимает участие в создании и постановке в производство межконтинентальной баллистической ракеты 8К98 (по классификации НАТО – СС-13 «Дикарь») и ее модернизированного варианта 8К98П. Эти твердотопливные ракеты были первыми и положили начало целой серии твердотопливных баллистических ракет наземного и морского базирования.
Еще один ракетный комплекс – 3М17, который значится в послужном списке Русиновича, – был рассчитан на пуски из глубин океана и размещался на подводных лодках.
Но самый трудоемкий творческий «марафон» прошел Юрий Иванович со своими коллегами, занимаясь исследованиями металлических материалов для применения на кислородно-водородных двигателях 11Д122 ракеты-носителя «Энергия». Ракета с этими двигателями успешно вывела в 1988 году на орбиту советский космический корабль многоразового использования «Буран», который по ряду параметров превосходил американские «Шаттлы».
Под руководством Ю.И. Русиновича проводилась разработка металлических материалов для ракетных комплексов с жидкостными двигателями и двигателями твердого топлива, шахтных сооружений и стартового оборудования морского базирования.
Государство высоко оценило талант и труд нашего земляка. В 1981 году в составе группы космических творцов он был отмечен Государственной премией СССР, в 1999 году – премией Правительства России. Награжден орденом «Знак Почета» и пятью государственными медалями, а также серебряной и бронзовой медалями ВДНХ. Федерация космонавтики России удостоила его знака «Заслуженный создатель космической техники». Является заслуженным изобретателем России, это звание ему было присвоено в 1986 году.
В творческом багаже Юрия Ивановича – более 100 научных трудов, многие из которых до сих пор под грифом «секретно», он имеет 109 авторских свидетельств на изобретения и патентов. В 1999 году его избрали действительным членом-корреспондентом Российской академии космонавтики имени Э.К. Циолковского, академиком-секретарем отделения «Проблемы космического материаловедения».
В последние годы Ю.И. Русинович работает заместителем главного конструктора и директором по научно-исследовательским работам научно-производственного предприятия «Маштест» в Королеве, вкладывает свои энергию, талант и опыт во внедрение военно-космических технологий в гражданские отрасли. Спектр его интересов широк. Он занимается производством оборудования и техники для пожаротушения, спасательных работ (дыхательных аппаратов, огнетушителей, и т.д). Пригодились высокие технологии и для удовлетворения сугубо бытовых нужд населения, в выпуске, например, газовых баллонов.
Напряженная работа не позволяет Юрию Ивановичу часто бывать на своей малой родине. Но вот он в очередной раз посетил Старый Оскол. Остановился в гостинице «Металлург». В городе своего детства и юности он пробыл три дня, с 20 по 22 февраля. Готовясь к отъезду в Москву, Юрий Иванович нашел время заглянуть в центральную городскую библиотеку имени Пушкина. Здесь за чашкой чая в кабинете директора Валентины Николаевны Агарковой и состоялась его короткая беседа с сотрудниками библиотеки и журналистами.
И для космоса, и для земли
Так сложилось, что на эту встречу академик Русинович не мог отвести больше 15 минут, но все же она продолжалась втрое дольше. Вопросов к своему земляку у нас было много.
– Юрий Иванович, говорят о замедлении развития нашей космонавтики, даже о кризисе? Что происходит? Почему падают спутники?
– О спутниках нужно вести разговор отдельный. А в целом, к сожалению, система отработки запусков, конечно же, стала не такой, какой она была в советский период. Она в значительной степени потеряла свое качество, надежность. Многие проблемы связаны с тем, что космонавтике нужны молодые кадры, новые мозги. К сожалению, молодежь не идет сюда работать, поскольку платят гроши.
– А насколько серьезно обстоит в России проблема с утечкой мозгов на Запад?
– Очень серьезно, и из этого никто секрета уже не делает. Процесс для нашей страны угрожающий. Молодые едут на Запад часто по приглашению. Едут туда, где востребован их талант, где есть для них работа с нормальной зарплатой. А у нас нет для них такой работы.
– Неужели всё так безнадежно в нашей космонавтике?
– Что значит безнадежно? Не в этом дело, а в том, что нет конкретной и жесткой программы, системы, которая мобилизует средства, деньги и, главное, людей. Нужный результат в космонавтике возможен только при условии тщательно продуманной системы. А у нас зачастую преобладает стихийность… Вот у американцев, к примеру, есть программа подготовки высадки на Марс. У нас подобной программы, которая бы могла подстегнуть молодежь, нет…
– Но вот сейчас поставлена амбициозная задача – Сколково…
– Мое мнение – тоже непродуманный до конца проект. Делать просто «город науки» – это глупость. Раньше все наши «научные» или «космические» городки и центры создавались для решения масштабных и конкретных задач. Подчеркиваю еще раз – конкретных! Что это означает? К примеру, когда из Москвы выделили Зеленоград, то сказали: мужики, вы должны сделать самые маленькие компьютеры. Вот вам задача, а вот под нее ресурсы и кадры. Когда приступили к созданию научного центра в Троицке, то определили: цель – термоядерные разработки. Саров – тот же подход: не абстрактные исследования, а четкий проект – нам необходимо атомное оружие. Так создавался и наукоград Королев.
И были результаты! А создать просто «город науки» – без четкого программирования – это означает бросать деньги на ветер или, еще хуже, рассовывать по чужим карманам.
Поэтому у меня оптимизма в отношении реальной модернизации нет. Я не вижу серьезных предпосылок для этого.
– Но мы же гордимся тем, что сегодня, например, по числу космических запусков обгоняем США?
– Важно не количество запусков, а конечный результат, отдача от них.
– Юрий Иванович, а как проходили запуски в вашу бытность? Вы переживали за каждый пуск ракеты?
– Конечно, я следил за разными запусками, но больше всего переживал за «Энергию», поскольку 13 лет занимался двигателем для этой ракеты-носителя. А по другим ракетам была рутинная работа – они были доведены до такой надежности, что никогда не вызывали беспокойства.
А вот особые чувства у меня как руководителя работ по выбору материалов рождал комплекс «Энергия»-«Буран». Прекрасно помню главный день. В 8 часов состоялся старт, уверенный, чистый. И в тот момент мы, конечно, ликовали. Потому что была выполнена уникальная работа, корабль ушел с первого пуска, затем успешно приземлился… Разумеется, это не могло не вызывать гордости за нашу советскую космонавтику.
– На Байконуре приходилось бывать?
– Да, приходилось, по нескольким случаям. Один из них – когда делали Н-1, ракету сверхтяжелого класса. Техническое наименование ракеты означает – «носитель». Она была высотой 100 метров, на ней наши космонавты должны были высаживаться на Луну. При первом запуске загорелся двигатель. И я вместе с другими специалистами занимался выяснением причин нештатной ситуации.
К сожалению, все четыре испытательных запуска Н-1 были неуспешными. В 1974 году советская пилотируемая лунная программа была закрыта, а через два года были прекращены и работы по Н-1.
– Вы были знакомы со всеми космонавтами?
– Нет, так не могу говорить. Потому что я работал начальником отдела металловедения ракетного института, от которого зависело, какие материалы должны быть применены на космических комплексах. А в подготовке космонавтов не участвовал.
С некоторыми космонавтами пришлось в той ли иной степени общаться. Например, с Виктором Савиных – он у меня несколько раз брал горные лыжи, чтобы покататься. Он любил этот вид спорта, а лыж таких у него на тот момент не было. С семьей Николая Рукавишникова мы жили по соседству, доводилось общаться.
– А Сергея Павловича Королева видели?
– Нет, видеть его не мог, потому что я стал начальником отдела, то есть занял положение, позволявшее мне контактировать с Главным конструктором, в середине 1966 года. А Сергей Павлович умер в январе того года.
А вот с Алексеем Михайловичем Исаевым, главным конструктором ракетных двигателей, довелось работать. Это был талантливый инженер и симпатичный человек, к сожалению, скоропостижно скончался в июне 1971 года. Работа сводила меня и с Валентином Петровичем Глушко, академиком, основателем советского ракетного двигателестроения.
– Все ваши радости и горести – это космонавтика? А что Вас еще радует?
– Родной дом, жена, две дочери, два внука, внучка и правнук. Это – мой дом, мой тыл. И мое счастье, в конце концов. Моя жена, Лиля Макаровна, – героический человек. Имея двух детей, она отпустила меня в Москву, в очную аспирантуру. А сама осталась в Никополе. Потом, когда наши дочки подросли, она окончила институт, финансово-экономический. И работала тоже на космонавтику: в Королеве есть организация, которая занимается экономикой космической техники.
– Могли бы уточнить, откуда корни Вашей фамилии? Ваш отец родился в Польше. Какая кровь в вас течет – польская, русская, белорусская?
– Сколько и какой крови во мне – не мерил. Отец мой родом из Белоруссии, из местечка Нарев, мать – из Сибири. Мы всегда были укоренены в русскую жизнь, так что – русские…
– В какой школе Старого Оскола Вы учились? Кто из учителей Вам запомнился?
– Первый класс окончил в школе-семилетке. Она размещалась в здании, где сейчас центр детского творчества, это за общежитием геологоразведочного техникума. Моей первой учительницей была Анна Романовна Бурцева. Десятый класс окончил в первой средней школе. Помню также других замечательных учителей – Анну Васильевну Краснопевцеву, математика Александра Николаевича Игнатова, его жену, нашего классного руководителя Анну Григорьевну, Сергея Петровича Райского, Таисию Алексеевну Чунихину, русский язык до седьмого класса преподавала Евдокия Николаевна Бронская…
Вы спрашиваете, как бы я оценил уровень советского школьного образования? А вот как: из 32 выпускников нашего класса 31 получил высшее образование, в том числе в МГУ, Ленинградском университете, других столичных вузах. Мы успешно туда поступили, потому что имели прекрасную, классическую подготовку. А сегодня меня, извините, ужас охватывает, когда я вижу, что делают с отечественным образованием.
– Профессия инженера-металлурга, МИСиС – это был Ваш выбор?
– Нет. Это было желание матери, Валентины Дмитриевны. Во-первых, в МИСиС давали общежитие, во-вторых – можно было получать стипендию с «тройками» и, в-третьих, она сказала: «С этой профессией ты будешь жить и работать в больших городах. Хватит того, что отец всю жизнь мотался по деревням и поселкам».
– Не пожалели, что поступили в институт стали и сплавов?
– Был такой момент – пожалел. Учился я в МИСиС на «отлично». Тем не менее, как-то уже на четвертом курсе решил, что неправильно выбрал себе специальность и задумал перейти на учебу в МВТУ имени Баумана, но тогдашний его ректор Дмитрий Иванович Прокошкин, который до этого работал деканом в институте стали, меня отговорил. Потом я ему за этот совет был благодарен. Скажу, на работу я сам более охотно брал выпускников МИСиС, чем «Бауманки».
– Вы следите за развитием нашего края? Например, за становлением и ростом ОЭМК?
– Да, конечно. Я в восторге от Оскольского электрометаллургического комбината. Прежде всего, меня особенно радует то, что это – современное, экологически чистое предприятие. Настолько чистое, что рядом с ним – пшеничное поле. Это здорово! Даже невозможно сравнить с той картиной, которая наблюдается вокруг некоторых других металлургических заводов.
– Юрий Иванович, используется ли сталь ОЭМК в производстве космических и военных комплексов?
– Не могу говорить о том, где конкретно и в каких конструкциях она используется. Таких сведений у меня нет. Естественно, качественная сталь космонавтике и ракетостроению нужна. Я впервые использовал оскольский металл не в космической технике, но все же при решении не менее ответственных задач. Мы применили его при создании баллона высокого давления для дыхательных аппаратов, который используют бойцы пожарной охраны. Баллоны, выполненные из стали, выпускаемой на некоторых других заводах, быстро ржавеют, приходят в негодность, а оскольская сталь надежна. И через десять лет баллоны из нее – как стеклышко!
– Какое впечатление у Вас от новостроек города, от новых кварталов?
– Понимаете, я родился в старой части Оскола, и так до сих пор там живу. Сердце мое там и нигде более. Это места по улице Ленина – здесь жила наша семья, здесь мы учились, гуляли с друзьями. Напомню, мы с родителями после войны жили в доме, который потом был отдан под Дом художника. Нашими были Гумны, поле в Соковом, куда ходили собирать колоски… Это все наше, и оно остается в душе. А новое – это уже не наше, никаких эмоций, извините, не вызывает.
– За что получили Государственную премию СССР?
– Скажу то, что написано официально: за разработку новых сталей и сплавов, применяемых в ракетно-космической технике. Что-то из этих разработок пошло на производство твердотопливных ускорителей, что-то – на «Буран».
– А премия правительства Российской Федерации в 1999 году?
– За создание конкурентоспособных технологий в гражданских отраслях. Тогда наступил период, когда надо было уходить от военной тематики, осваивать мирную. И мы разработали технологии, которые применили, например, в пищевой, газовой промышленности. Именно этими задачами мы занимаемся на нашем предприятии «Маштест». Так что работал и работаю и для космоса, и для земли.
В завершение нашей встречи, дорогие мои земляки, хотел бы сказать: такого внимания я не заслуживаю. Спасибо вам за вашу доброту. Посещать наш город для меня всегда ни с чем не сравнимая радость.
Сергей Леонтьев,
Виктор Вербкин
(Газета «Оскольский край», № 35-37, 5 марта 2011 года,
город Старый Оскол)



