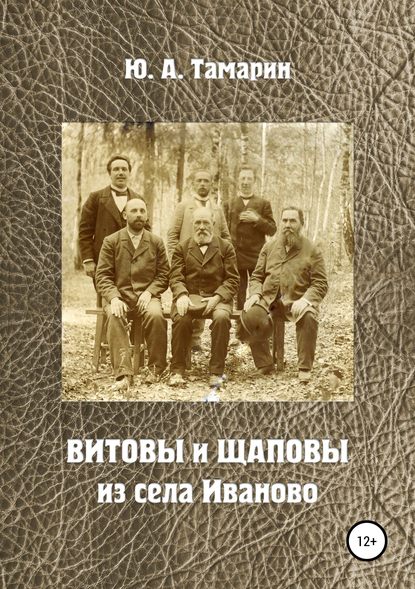 Полная версия
Полная версияВитовы и Щаповы из села Иваново
Квартира постепенно «уплотнялась»: в неё переехали сёстры Вяземские, Любовь Орестовна и Валентина Орестовна, со своей мамой. Они жили в соседнем здании «Частной женской гимназии Л. О. Вяземской в Москве», которая была открыта в 1908 году по высочайшему разрешению императора. Эту гимназию Любовь Орестовна передала государству, она стала школой № 41. Вяземским было предложено переехать в дом Курлюкова. Они заняли большую комнату, расположенную рядом с комнатой бабушки. Их домработница Ксения поселилась в самой последней комнате квартиры, около туалета. Через некоторое время в квартиру въехал красный казак из Запорожья – Пётр Иванович Гавриш – со своей женой Анной Иосифовной и сыном Сергеем. Таким образом, состав жильцов квартиры был разнообразен: мои бабушка и дедушка из семей Иваново-Вознесенских фабрикантов, дворяне из старинного рода Вяземских, казак, член ВКП(б) Пётр Гавриш с семьёй, троцкист Зейц с женой и две домработницы (до революции – горничные). Отмечу, что громких скандалов, ругани, брани, различных коммунальных ссор в квартире никогда не было.
Постепенно устанавливался новый порядок, порядок совместной жизни в коммунальной квартире: система оплаты электричества за каждую лампочку и расчёт общего, весьма тусклого освещения в коридоре, обязательное по графику дежурство каждой семьи – мытьё полов в коридоре, мест общего пользования. Вымыть полы из отличного дубового паркета и мест общего пользования для неподготовленных жильцов была задача не из простых. Помню, как значительно позднее, в конце 60-х, жена и я ползали на коленях по коридору не один час, отскабливая въевшуюся в паркет грязь.
Пётр Иванович Гавриш был деятельным человеком и умело использовал своё положение члена ВКП(б). Он стал требовать, чтобы кухня, которая относилась к комнатам, в которых жили мои родственники, стала общей и ей могли бы пользоваться все семьи. Для этого надо было провести существенную перестройку – от части комнаты моей бабушки отрезать угол для прохода на кухню. Был построен крохотный коридорчик шириной 70 см, высотой 1,8 м. В комнате бабушки образовался угловой выступ. Стенки коридора из картона пропускали и усиливали все звуки. Когда кто-то протискивался по коридорчику на кухню, казалось, что он шагает напрямик через комнату. Одни соседи вставали уже в 5 утра, а другие ложились после 12 ночи.
Моим родным повезло, рядом с ними поселились высокообразованные женщины – сёстры Вяземские. Валентина умерла в 1944 году, память о Любови Орестовне я бережно храню всю жизнь.
По прошествии многих лет вижу Любовь Орестовну глазами юноши – она умерла в августе 1960 года, когда мне исполнилось 19 лет. Она идёт по коридору квартиры, всегда аккуратно одетая (никаких халатов), среднего роста, полная, седые волосы сзади зачёсаны в пучок. У неё низкий грудной приятный голос, строгое выражение лица, серые вдумчивые глаза. В ней чувствовались ум и достоинство. Удивительно, в моих глазах Любовь Орестовна никогда не выглядела старухой, даже в возрасте далеко за 80 лет. Я думаю, что это было связано с её осанкой: отсутствием сутулости, старческого «шарканья» ногами, с уверенной походкой, с правильной чёткой речью хорошего преподавателя. Она была постоянно занята своей работой. Кроме основной работы в Московском институте инженеров транспорта (МИИТ), занималась дома с аспирантами, писала учебные пособия по английскому языку.
Её отец, Орест Полиенович Вяземский, был выдающимся инженером-путейцем[35], известным далеко за пределами России. Орест Полиенович руководил строительством более четырёх тысяч вёрст железных дорог, проложенных по трудным и неизведанным местам Сибири. Объёмы и разнообразие выполненных Орестом Полиеновичем работ невероятны – восемь лет он работал на строительстве морского порта Санкт-Петербурга и морского канала Петербург – Кронштадт, с 1888 года был руководителем работ по изысканию пути строительства труднейших участков Забайкальской и Крутобайкальской железных дорог, частично проходящих по зоне вечной мерзлоты. Он участвовал в изыскательских работах по прокладке более двенадцати тысяч вёрст железных дорог. За работы на Транссибирской магистрали Орест Полиенович был награждён многими орденами Российской империи, наградами от Бухарского эмира, китайского и японского правительств. Его работы по строительству Транссибирской магистрали были отмечены золотой медалью Всемирной выставки в Париже в 1900 году. У Ореста Полиеновича и Елены Дмитриевны Вяземских было трое детей: сын Валериан (1868–1924), дочери – Любовь (1869–1960) и Валентина (1871–1944).
На стене в комнате Любови Орестовны висела подаренная её отцу в 1900 году на Всемирной выставке в Париже большая серебряная карта России с золотой ниткой этой железной дороги. Любовь Орестовна рассказывала мне, что она с сестрой и братом были с отцом в его многочисленных поездках во время изыскательских работ в Сибири. Вспоминала, как они ездили в сильнейшие морозы на санях, укутанные медвежьими полостями.
Любовь Орестовна – одна из первых русских женщин, обучавшихся в Кембриджском университете. Она рассказывала, что в годы учёбы много путешествовала на велосипеде по дорогам Англии. В 1902 году учредила «Первое частное женское коммерческое училище Л. О. Вяземской в Москве». В 1908 году, по высочайшему разрешению императора, оно было преобразовано в «Частную женскую гимназию Л. О. Вяземской в Москве». Располагалась гимназия в Колпачном переулке (дом № 4), в ней обучались О. Н. Андровская, сёстры Каган – Лиля (Брик) и Элла (писательница Эльза Триоле).
Одновременно с работой в гимназии Любовь Орестовна поступила на физико-математический факультет Московского университета, который окончила в 1916 году (в возрасте 46 лет). В начале 1918 года она передала свою гимназию государству, но, по воспоминаниям одного из её учеников, «… продолжала работать в школе № 41, была сильным математиком и безупречным педагогом». С 1919 года работала учёным секретарём физико-математической секции научного отдела Наркомата Просвещения.
Не обошла Любовь Орестовну и участь многих людей из интеллектуальной российской элиты: 20 августа 1919 года её арестовали по групповому делу кадетов[36], но по ходатайству юридического отдела Московского Политического Красного Креста освободили. В ночь с 18 на 19 октября 1920 года вновь арестовали. Выписка из её личного дела говорит о произволе ВЧК, твёрдых нравственных устоях и уме Любови Орестовны. 19 октября 1920 года Любовь Орестовна Вяземская показала на допросе: «Причин ареста я не знаю, но думаю, что потому, что в 1905 году я записалась в члены партии конституционных демократов (КД), но через год вычеркнулась. Затем в связи с арестами по делу Тактического Центра, но там я никого не знала. Куракиных не знаю. Точно так же не знаю Лопухиных, Бернгард и Сологуб. С кадетскими кругами я совершенно не знакома. Когда я записалась в партию, то это сделал один из родителей. Фамилии его я сейчас не помню».
На том же допросе на вопрос о своих политических убеждениях Любовь Орестовна Вяземская ответила так: «Я подчиняюсь Советской власти и считаю, что идеалы социализма хороши, но насколько он осуществим и верным ли путем мы идем, судить не берусь». Заместитель народного комиссара по просвещению Покровский направил телефонограмму в Президиум ВЧК. «Телефонограмма № 850. В ночь на 19 октября по ордеру № 8361 МЧК арестована сотрудница Наркомпроса Любовь Орестовна Вяземская, так как она выполняет ответственную работу по Государственному Комитету охраны памятников природы, прошу срочно рассмотреть ее дело и, если возможно, освободить. Заместитель Наркомпроса Покровский».
1 ноября 1920 года было утверждено Заключение по делу Вяземской Л. О. «Вяземская не является активной работницей в партии кадетов, полагаю ходатайство зам. Наркомпроса Покровского об освобождении Вяземской из-под ареста удовлетворить». Любовь Орестовна была освобождена 5 ноября 1920 года и продолжила свою работу учёным секретарём научного отдела Наркомпроса. Всю свою жизнь Любовь Орестовна посвятила педагогической работе, с 1938 по 1957 год она была заведующей кафедрой иностранных языков МИИТ. В 85 лет Любовь Орестовна защитила диссертацию на степень доктора педагогических наук.
В квартире Любовь Орестовна общалась только с моей бабушкой, у них были общие темы для разговоров. Любовь Орестовна всегда вела жизнь трудолюбивого, увлечённого работой человека, не обсуждала с соседями никаких проблем. Очень простую еду ей готовила её домработница Ксения.
В соответствии со своей должностью в МИИТ Любовь Орестовна являлась полковником железнодорожных войск. У неё была форменная одежда: тёмно-синий китель с погонами. В этой форме я её видел всего несколько раз, она выходила в ней в коридор, когда возникала необходимость дать указания мастеру из домоуправления провести какие-либо работы по починке и ремонту в квартире. Любовь Орестовна отличалась невероятной скромностью в бытовых делах, у неё никогда не было ни к кому претензий.
В начале пятидесятых годов, благодаря влиянию Любови Орестовны, в квартире установили телефон. Это было большое событие, телефон повесили посередине коридора, напротив комнаты Зейц. Для Любови Орестовны был установлен отдельный параллельный аппарат. Телефон был большим удобством для жильцов и постоянным беспокойством для Серафимы Васильевны, ей постоянно приходилось подходить к нему. Вся стена у телефона была исписана телефонными номерами – своеобразная телефонная книга коммунальной квартиры. Часто и долго по телефону разговаривал Сергей Гавриш, причём он выходил из своей комнаты, которая располагалась рядом, в одних трусах. В этой ситуации Любовь Орестовна испытывала ужасные неудобства. Она не могла пройти из своей комнаты мимо голого мужчины в туалет, который располагался в конце квартиры. Открывала свою маленькую дверь из комнаты в коридор и выглядывала, видела Сергея, стоящего у телефона, и тут же закрывала свою дверь. Это продолжалось до тех пор, пока Сергей не завершал разговор и не уходил в свою комнату.
Отдыхать Любовь Орестовна ездила только в Коктебель, к которому она привыкла ещё с детских лет. Её родители были дружны с матерью Максимилиана Волошина – Еленой Оттобальдовной (урождённой Глазер), которая некоторое время после развода с мужем жила вместе с сыном в семье Вяземских. Об этих годах сохранились воспоминания, написанные Валентиной Орестовной, которая была старше Максимилиана на пять лет[37].
Изредка к Любови Орестовне из Коктебеля приезжала её знакомая, Мария Степановна Волошина (Заболоцкая), жена Максимилиана Волошина. При редких встречах запомнилась её лёгкая доброжелательная улыбка, обращённая ко мне, пятнадцатилетнему юноше.
Любовь Орестовна очень доброжелательно и внимательно относилась ко мне, она приходила на скромное торжество моего дня рождения и всегда приносила подарок. Я помню их и храню. Книгу «Рассказы из истории русской науки и техники»[38] со специфическим оттенком русского интеллектуального превосходства, что было распространено в то время, я прочёл очень внимательно, думаю, она оказала влияние на мой выбор технического института для профессионального обучения. Другой подарок до сих пор стоит на моём письменном столе – это блокнот для записей с верхней серебряной крышкой.
Когда у меня возникала необходимость посмотреть какие-либо исторические сведения, я робко стучался в дверь и заходил в комнату Любови Орестовны. У неё в книжном шкафу была Энциклопедия Брокгауза и Ефрона[39], которую она собирала и бережно хранила. Любовь Орестовна обращалась ко мне всегда на Вы, независимо от моего возраста: «Юра, берите очень аккуратно, корешки переплёта легко повреждаются».
Любовь Орестовна первая в нашей квартире приобрела телевизор. Это был «Ленинград» – огромный аппарат с маленьким экранчиком, закрывавшимся специальной шторкой. Телевидение вело только прямые передачи, системы записи телевизионного сигнала не существовало. Самыми распространёнными были театральные постановки, которые транслировались непосредственно из театрального зала. Если был хороший спектакль из Большого театра или из Малого театра, Любовь Орестовна приглашала бабушку, маму и меня. Она садилась в своё рабочее кресло перед телевизором, рядом в кресле – бабушка, мы сидели на стульях за ними. Конечно, появлялись и родственники её домработницы Ксении, дочь Валентина и её сын Сашко. Ему вход в комнату Любови Орестовны был запрещён, но, когда уже начиналась программа, свет в комнате тушили, чтобы было лучше видно действие на крохотном экране, Сашко незаметно пробирался и сидел на полу, разглядывая экран между телами сидящих впереди. Поскольку передачи были прямыми, были и антракты, во время которых все расходились и затем после антракта собирались вновь, как в театре.
Иногда к Любови Орестовне приезжал из Ленинграда её племянник Орест Валерьянович, сын Валериана Орестовича Вяземского. Он останавливался в нашей квартире. Высокого роста, подтянутый, доброжелательный, внимательный к окружающим. В лице и походке чувствовалось внутреннее достоинство. Его приезд был всегда совершенно незаметен, Любовь Орестовна и он тихо беседовали в комнате, громкие разговоры были бы слышны через все двери, соединяющие анфиладу комнат квартиры. Я ничего не знал о нём, кроме того, что он прошёл через ГУЛАГ, участвовал в строительстве Беломоро-Балтийского канала им. Сталина.
Орест Валерьянович родился в 1902 году в Ташкенте. Закончил в 1924 году Петроградский институт путей сообщения. В поисках работы приехал в Ташкент и занялся проблемами мелиорации. Надвигался процесс «Промпартии», многие технические специалисты были признаны врагами, на них наклеили ярлык – «вредитель». Молодой талантливый инженер Орест Валерьянович был арестован 28 декабря 1930, ему было предъявлено обвинение по статьям 58–7 и 58–11 Уголовного кодекса «… в подрыве государственной промышленности и контрреволюционной деятельности…». Постановлением ОГПУ от 23.07.1931 г. он был приговорён к пяти годам заключения. Оресту Валериановичу повезло, ему приписали «вредительство», могли с той же лёгкостью приписать статью 58–10, по которой в 1938 году был расстрелян мой двоюродный дед. После допросов в Бутырке его, как нужного специалиста, переводят в Отдельное конструкторское бюро (ОКБ) по проектированию сооружений Беломоро-Балтийского канала, так называемая «шарашка», а затем направляют на строительство канала. Это был первый в СССР опыт создания концентрационного лагеря («БелБалтЛаг») и использования заключённых для строительства. Рабский труд объясняли необходимостью перевоспитания вредителей и врагов строительства социализма.
Тяжёлые условия жизни и работы, унизительное положение врага и «вредителя», полная зависимость от многочисленных безграмотных лагерных начальников. Но и в этих невыносимых условиях Орест Валерьянович нашёл возможность проявиться своим инженерным талантам. Сказались твёрдые жизненные устои, заложенные в семье во многих поколениях Вяземских, посвятивших себя служению России. В книге «Беломоро-Балтийский канал имени Сталина»[40] немало страниц посвящено «перековке» Ореста Валерьяновича. Это был прекрасный пример «перевоспитания»: дворянин, из известной семьи стал целеустремлённым строителем новой жизни. Многое в этой книге целенаправленно и по возможному недомыслию писателей, «инженеров человеческих душ» по образному выражению М. Горького, злостно перевёрнуто с ног на голову. Орест Валерьянович честно, много, творчески и физически работал не потому, что его «перевоспитали», а, наоборот, потому, что его хорошо воспитали родители, заложили в нём любовь к России, любовь к честному труду. Он не мог жить и работать иначе, никакие «перевоспитания» не могли изменить его жизненные принципы. Писатели не хотели видеть жестокость создаваемой системы, приведшей в конечном итоге к гибели миллионов людей. Они создали книгу, поддерживающую искажённые представления руководителей страны о социализме и методах его построения, закладывающую в головы обычных людей иллюзии о возможности и целесообразности рабского труда.
Орест Валерьянович выдержал все испытания, его работа была отмечена, срок заключения сокращён, он был награждён орденом Трудового Красного Знамени. В 1957 году он был реабилитирован.
Но не стоит заблуждаться: травмы от жестоких допросов, унизительного положения «вредителя», издевательств безграмотных начальников, болезней и многочисленных смертей заключённых тяжёлым грузом сохраняются на всю жизнь. Орест Валерьянович вышел из лагеря больной туберкулёзом. Дальнейшая инженерная деятельность сложилась для Ореста Валерьяновича счастливо – он был автором проектов и руководителем строительства многих гидротехнических сооружений и электростанций. Его именем названа улица в городе Рыбинске.
Однажды я сказал Оресту Валерьяновичу, что у меня есть альбом зарисовок художника Ю. К. Арцыбушева «Диктатура пролетариата в России»[41], сделанных в 1917–1918 гг., он попросил его посмотреть. Через несколько дней вернул его мне, под рисунками многих выступающих я обнаружил поставленные им маленькие крестики. Сначала я не понял, что он отметил, задумался, обратился к нему. «Юра, это революционеры, которые в последующие годы были репрессированы и расстреляны». Я был поражён, пересмотрел альбом, действительно, эти фамилии были для меня совершенно незнакомы, их не было в наших школьных учебниках. «Министерство правды» переписало историю, как, например, художник Д. Налбандян с лёгкостью убрал Ягоду с картины «Сталин, Ворошилов, Киров и Ягода на Беломорканале». Ягода был одним из основных руководителей строительства и создания системы концентрационных лагерей, идеологом книги о Беломорканале. Его расстреляли в 1938 году.
1958 год был тяжёлым для меня – выпускные экзамены в школе, вступительные – в институт. Любовь Орестовна немного занималась со мной, хотела подготовить меня психологически к экзаменам в институте. «Юра, – говорила она, – возьмёте билет, никогда не читайте все вопросы. Сядьте за парту, подготовьте всё, что необходимо для ответа, – ручку, карандаш, бумагу. Посмотрите в окно, на деревья, на небо и только после этого читайте первый вопрос экзаменационного билета. Не надо читать сразу все вопросы, остановитесь на первом. Если прочитать всё и окажется, что не знаете ответов на один из вопросов, то будете волноваться и плохо ответите на вопросы, которые вам известны». Я всегда следовал советам Любови Орестовны и передавал их своим студентам.
В нашей семье хранилась большая старинная икона Спаса Нерукотворного, принадлежавшая моей прабабушке – Екатерине Михайловне Витовой (Кузнецовой). Икона находилась в комнате Лукерьи Ильиничны (тёти Луши), перед иконой всегда горела лампадка. Однажды в конце 50-х годов Любовь Орестовна пришла к бабушке и попросила разрешения постоять у этой иконы. Наверное, ей хотелось побыть у иконы одной, обратиться к Господу. Я решил пойти вместе с ней и бабушкой. Постучались, тётя Луша открыла дверь и пригласила зайти к ней в комнату. Любовь Орестовна не стала входить, икона стояла на столе у большого окна, прямо напротив двери, горела лампадка. Две старые женщины стояли в темноватом коридоре, внимательно и задумчиво смотрели на икону, тёмную от времени, со следами «слёз» на лице Христа от постоянного протекания крыши, а может, и от боли за происходившее… Что они говорили Господу, о чём каялись, что просили? У обеих было общее в судьбе: разрушение благополучной жизни в дореволюционные годы, борьба за выживание, разочарования, несбывшиеся надежды. Стояли долго, Любовь Орестовна повернулась и пошла в свою комнату. Думаю, что это обращение к Христу поддержало её в последний год жизни. Ведь ни она, ни моя бабушка в церковь с «красными» священниками не ходили. Посещение церкви могло обернуться для Любови Орестовны серьёзными проблемами, потерей работы, составлявшей основу её жизни.
В последние годы своей работы в МИИТ Любовь Орестовна стала ездить на машине, которую она заказывала в таксопарке, это был ЗИМ (ГАЗ 12), по тем временам шикарная машина. После моего поступления в институт я, естественно, захотел встречать Новый год в студенческой компании. Но бабушка была решительно против, был достигнут следующий компромисс: я встречаю Новый год дома, после чего еду в студенческую компанию. Чтобы отвезти меня, бабушка решила прокатиться по новогодней Москве вместе с Любовью Орестовной на ЗИМе. Так я был доставлен в изрядно подпившую компанию моих друзей. А новогодняя Москва в то время была совершенно пустынна.
Через год, в марте 1960 года, умерла моя бабушка. В день, когда были назначены похороны, мы открыли двери комнаты, и жильцы квартиры могли зайти и попрощаться с умершей. Пришла Любовь Орестовна, она стояла поодаль, была грустна. Очень скоро с ней произошёл несчастный случай, она упала и сломала себе бедро. Ей был 91 год, отвезли в больницу, операцию делать не стали. Она лежала в своей комнате, за ней ухаживала верная Ксения, прошедшая с ней большую часть жизни. В августе 1960 года Любовь Орестовна скончалась.
В сентябре приехал разобрать вещи Любови Орестовны сын Ореста Валерьяновича – Валериан Орестович Вяземский – с женой. Вещей было немного. Валериан Орестович пригласил меня и сказал: «Мы знаем, Любовь Орестовна относилась к Вам с теплотой, и мы хотели бы, чтобы та вещь, которую вы выберите, напоминала Вам о ней. Вы можете взять всё, что захотите, кроме серебряной карты с Транссибирской железной дорогой». Я знал, что мне хотелось взять, – Энциклопедию Брокгауза и Ефрона, которую Любовь Орестовна собирала в течение многих лет жизни. Эти книги стоят в моём книжном шкафу и всегда напоминают мне о замечательной русской женщине, Любови Орестовне Вяземской, с которой я жил в одной коммунальной квартире в течение многих лет.
Дядя Толя
Брата моей бабушки, Анатолия Александровича Витова, вижу в дымке прошедшего времени. Он принадлежал к новому поколению купечества, получил хорошее техническое образование, окончил Императорское Московское техническое училище. Впереди была работа по превращению текстильных фабрик Иваново-Вознесенска в передовые европейские предприятия. Однако судьба распорядилась иначе.
Я любил приходить в гости к дяде Толе в старый дом на улице Щукина. Здесь, в небольшой коммунальной квартире на втором этаже, в двух смежных комнатах жили его дочь Ирина, Ванда, дальняя родственница Елены Дмитриевны Тютчевой, выступавшая в роли домохозяйки, и Дюдя, жена Владимира Дмитриевича Тютчева, брата Елены Дмитриевны.
Владимир Дмитриевич был лётчиком, в 30-е годы служил на границе. С его самолётом случилась авария, и он упал на польскую территорию. Поляки его выходили и отправили домой, но он попал не домой, а в ГУЛАГ. Вернулся в начале 50-х, жить в Москве ему было нельзя. Преподавал физику в школе в Рязани, в школе и жил. Кончилось это всё плохо: Дюдя решила уйти из жизни, а затем ушёл и он.
Больше всего я поражался полом в квартире у дяди Толи: из-за старости перекрытий он был сильно наклонён в сторону от окон к двери. Сидеть за столом приходилось скособочившись, столовые приборы надо было придерживать, иначе они могли упасть.
Анатолий Александрович любил свою сестру. Бабушка рассказывала, что они были очень близки в детстве. Позже из-за его женитьбы их отношения стали более прохладными. Я хорошо запомнил его последний визит к нам: он пришёл со своей молодой женой – актрисой театра Вахтангова, был весел. Они принесли с собой фрукты, которые лежали в небольшом чемоданчике. Мне почему-то запомнился виноград «Дамские пальчики», который я до этого никогда не видел. Анатолий Александрович был талантливым человеком, работал главным бухгалтером «Мосэнерго», участвовал в самодеятельности. Мы рассматривали фотографии сцен спектакля, в котором он играл. Вскоре он попал в больницу с высоким давлением и умер в возрасте 63 лет.
Долгие годы, уже после смерти Анатолия Александровича, его семья была для меня вторым домом. Я часто приходил в квартиру на Мейеровском проезде, куда они переехали с ул. Щукина и где жили Елена Дмитриевна, её муж Аркадий Алексеевич, моя тётя Ирина с мужем Валентином, Ванда. Здесь все меня любили, тут было тепло и уютно, я был всегда накормлен и обласкан. Память об этих людях всегда согревает мою душу.
Здесь я часто встречался с сестрой Елены Дмитриевны – Анной Дмитриевной Тютчевой, замечательным человеком, учительницей русского языка и литературы в школе № 15. При встречах она часто говорила мне: «Юрка, когда мы тебя будем крестить?» Предлагала пригласить батюшку домой и окрестить в «тазике». Жалею, что тогда не последовал её совету.
Анне Дмитриевне Тютчевой посвящены тёплые строки в воспоминаниях Народного артиста СССР Евгения Яковлевича Весника[42]. «Моим ангелом-хранителем была учительница литературы Анна Дмитриевна Тютчева. Одинокая пожилая женщина, в отличие от тех, кто утверждал (от трусости), что не понимает происходящего в стране геноцида, прекрасно всё видела и правильно трактовала. Будучи истинно русской интеллигенткой – она правнучка поэта Тютчева – и истинной христианкой, старалась помочь всем, чем могла, слабым, бедным, одиноким. Я стал предметом её особого внимания[43]: она помогала мне учиться, сдавать экзамены, даже рискуя потерять работу, подкидывала мне шпаргалки.



