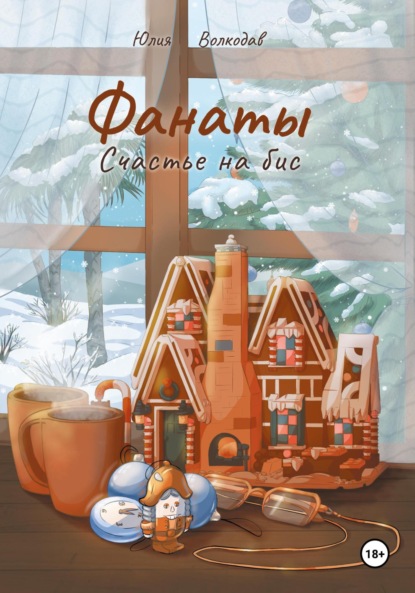
Полная версия:
Фанаты. Счастье на бис
– От воспаления лёгких, Саш. Вот ты мне скажи, как можно в двадцать первом веке от воспаления лёгких умереть? В Москве! Не последнему в стране человеку!
Сашка не знает, что сказать. Объяснять, что чудесному Николаю Павловичу было за девяносто, а в этом возрасте смертельно опасным может оказаться даже насморк, она совсем не хочет. Зачем Всеволоду Алексеевичу такие сведения? Он ведь на себя всё примерит. Уже примеряет. И почему у него в глазах звериная тоска, тоже понятно. Доброва жаль, но дело не в жалости. Страшно осознавать, что его поколение уходит. Уже проще пересчитать оставшихся, чем ушедших. И Сашке тоже страшно.
– Не всегда болезнь можно задавить антибиотиками, – начинает Сашка пространно. – Не каждый организм к ним восприимчив. Антибиотики стали считать панацеей, население думает, что надо всобачить дозу посильнее, и дело в шляпе. Ещё и сами лечатся, сами себе назначают препараты, сами пьют. Потом бросают, у организма вырабатывается иммунитет. В следующий раз требуется большая доза, чтобы подействовало. Мы имеем все шансы через несколько лет получить поколение, на которое вообще никакие антибиотики воздействовать не будут.
Сашка старается увести разговор подальше от композитора, рассказать о медицине будущего, но замечает, что Всеволод Алексеевич её не слушает.
– Саша, – перебивает он. – Воспаление лёгких – это же не причина смерти? Это диагноз. А причина должна быть более конкретной. Он задохнулся, да?
Сашке хочется взвыть. Главный страх Всеволода Алексеевича. Проблема, решения которой у Сашки нет. Объяснять бесполезно. Она до сих пор не знает, сколько раз его приступы доходили до серьёзного удушья в той, прежней жизни. В этой, новой – ни разу. Сашка всегда успевала. Но и одного раза достаточно, чтобы в человеке поселился страх. А ещё Сашка думает, как меняется с возрастом характер. Как судорожно цепляются за жизнь старики, в молодости рисковавшие ею легко и охотно. Цепляются, когда в их распоряжении лишь истаскавшаяся оболочка, доставляющая массу проблем. И не ценят здоровое сильное тело и саму возможность жить, когда впереди столько интересного. Иногда Сашке кажется, что рядом со Всеволодом Алексеевичем она сама стареет в разы быстрее. Сначала взрослела раньше сверстников, глядя на него. Теперь стареет. Всё закономерно.
– Я не знаю, что с ним произошло, Всеволод Алексеевич. Подробностей не сообщают. Да и зачем? Пусть люди запомнят его песни, а не последний диагноз. Вы ведь много его песен спели?
– Немало. Саша, а что делают, если астматический статус не получается снять?
Опять двадцать пять. Она пытается с ним о творчестве, а он о болячках. Ещё и дождь как назло, сейчас вытащить бы его на улицу, отвлечь. Какой он всё-таки феноменальный эгоист. Ведь не об ушедшем товарище он сейчас думает. На себя всё перевёл и сидит, гоняет в голове старых добрых тараканов.
– Добавляют гормоны. Иногда адреналин вводят.
– А если и они не помогают, то прорезают в горле дырку и вставляют трубку? Этот… как его… дренаж? Это очень больно?
О господи! Иногда Сашке хочется отобрать у него «волшебную говорилку» или хотя бы отключить в ней Интернет. Это он у Алисы выяснил? Или какую-нибудь идиотскую передачу по телевизору посмотрел, где выжившая из ума бабушка, которой белый халат достался по недоразумению, пляшет в костюме матки, объясняя не менее идиотическим зрителям природу месячных?
– А если мне такую придётся ставить, то как? У меня же не заживёт из-за сахара…
Так, всё. Финиш. Сашка больше не может видеть этот расфокусированный, будто внутрь себя смотрящий взгляд. И то, как он перебирает пальцами по подоконнику. С ним уже несколько раз случалось подобное. Однажды после разговора с Зариной по телефону. Чёрт её знает, что она ему сказала, Сашка принципиально вышла во двор, чтобы даже случайно не подслушать. Но потом он дня два вот так внутрь себя смотрел, на вопросы отвечал невпопад, медитировал на окошко и молчал. Другой раз на его день рождения. Первый день рождения не на сцене, не в Москве. Когда никто не позвонил. Оба раза закончились плохо – жестокими приступами астмы и скачками сахара. И сегодня Сашка не хочет повторения этого сценария.
– Ну-ка вставайте. – Она решительно подходит к нему и, вопреки собственным принципам, берёт под локоть, понуждая встать. – Вставайте, вставайте. Идите переодевайтесь, куртку потеплее наденьте.
– Зачем ещё? – возмущается он. – Куда ты собралась? Дождь на улице.
– Ничего страшного, вы сами утверждали, что не сахарный. Пройдёмся до почты, мне извещение пришло, надо посылку получить.
– А я тебе зачем? Не хочу я никуда идти в такую погоду.
– Посылка тяжёлая, я не дотащу.
Запрещённый приём, да. Но он же у нас рыцарь?
– И к чему такая срочность? Завтра бы сходили, – ворчит он, но поднимается.
Сашка идёт за ним по пятам. Пока он роется в шкафу, сообщает нейтральным тоном:
– У меня к вам огромная просьба, Всеволод Алексеевич. Не смотреть и не читать никаких околомедицинских ужасов. Вы знаете, что такое синдром третьекурсника?
Мотает головой.
– Это когда на третьем курсе у студентов меда начинаются профильные предметы, и они разом обнаруживают у себя признаки всех болезней, которые изучают. К пятому курсу всё проходит. Когда вы смотрите или читаете всякую ересь, вы оказываетесь на месте третьекурсника. Зачем оно вам надо? Спрашивайте у меня.
– Я и спрашиваю! А ты злишься!
– Господи, да я не на вас злюсь! А что вы ту синюю толстовку отложили? Наденьте её, она чистая. И тёплая. С белой курткой будет идеально. Так вот, я не на вас злюсь. А на тех, кто поселил в вашей голове столько тараканов. Ну какие ещё трубки? С чего вдруг? Трахеостомия не имеет никакого отношения к астме. Проще говоря, если спазм в бронхах, нет никакого толка делать дырки в трахее. Шикарно смотритесь. И обувь непромокаемую. Вон те ботинки у вас самые крепкие, мне кажется. Всё, жених. Я пойду тоже переоденусь.
Вроде бы «отвис», стал реагировать на раздражители. Сашку всё ещё потряхивает. Ну в конце концов, она не на психотерапевта училась! У неё за плечами общий курс психиатрии, прослушанный вполуха как абсолютно не нужный и не интересный. Как ей тогда казалось. В юности нам свойственно ошибаться.
На улицу Всеволод Алексеевич идёт без особого энтузиазма – сырость ему не нравится. Но больше не ворчит. Галантно открывает над ними зонтик, один на двоих. Он намного выше, поэтому зонт сподручнее держать ему. Свой зонт Сашка найти не смогла.
– А что за посылка? К чему такая срочность?
– Сладости ваши пришли. Помните, мы на сайте выбирали?
– Что ж ты сразу не сказала?!
Вот, тут же появилось настроение на почту топать. И даже шаг прибавился. Сашка едва за ним поспевает. Хорошо хоть настояла на ботинках, лужи обходить ниже его королевского достоинства.
В местных магазинах выбор сладостей для диабетиков ограниченный, бесконечные батончики, похожие на замазку, и банальные леденцы. Сашка их тоже ест, за компанию. Дрянь редкостная. Поэтому приходится заказывать через Интернет всякие вкусности. И посылка пришла как нельзя кстати – и из дома его вытащила, и чай со сладостями ему не помешает, для поднятия жизненного тонуса.
Чтобы оставаться под защитой зонта, Сашке приходится идти вплотную ко Всеволоду Алексеевичу. Она слышит его дыхание, машинально отмечая, что всё нормально, в пределах его нормы. Без свистов и сипов. То есть причина всех мрачных мыслей исключительно в Доброве. Может быть, оберегать его от печальных новостей? Ну да, и вообще от жизни оберегать. Отобрать телефон, отключить Интернет, пусть сидит в гетто собственных мыслей. Быстрее с ума сойдёт. Молодец, Сашенька. Гений психотерапии. Доктор Фрейд рыдает от зависти вместе с доктором Менгеле.
– Если ты возьмёшь меня под локоть, идти будет удобнее, – спокойно говорит он.
Сашка хочет возмутиться, но у него такой уверенный тон, а у неё не находится ни одной убедительной причины отказаться. Приходится взяться за его локоть. Так и правда удобнее. И даже теплее.
– Всеволод Алексеевич…
– Мм?
– А помните, вы в девяносто девятом клип сняли, где летали на истребителе? Это ведь не монтаж был, да? Вы действительно летали?
– Летал. Планировался монтаж. Я должен был просто посидеть в кабине и всё. А лётчики предложили по-настоящему всё сделать. Хотя полёты на истребителях даже профессионалы прекращают в сорок пять. А я был уже постарше. Лет на много. Но какой-то кураж охватил. Потом, когда взлетели, пожалел. Давление бешеное, глаза на лоб лезут в буквальном смысле. Меня вторым пилотом посадили, считай, что пассажиром. А первый пилот как начал фигуры пилотажа показывать: бочка, мёртвая петля. Куда там американским горкам.
– А клип получился шикарный, – хихикает Сашка. – Вы, такой задумчивый, рассекаете небо.
– Ага, задумчивый. Ты бы видела, что потом было. Как я два дня с унитазом расстаться не мог. Обнимал его как родного.
– А правда, что вы начали летать в Израиль, когда это ещё было очень опасно? Во время военного конфликта?
– Саш, летать всегда опасно. Самолёты падают. А поезда сходят с рельсов.
– Ну, в Израиле тогда ещё и стреляли.
Всеволод Алексеевич неопределённо пожимает плечами:
– От судьбы всё равно не уйдёшь.
Сашка кивает. Она нашла подтверждение своим мыслям. И рассказам артистов, которые всегда утверждали, что Туманов фаталист. И явно знает какую-то тайну, другим не доступную. Считали его чем-то вроде талисмана. Мол, если страшно лететь, лети с Тумановым, и ничего не случится. Он всю жизнь летал, плавал, ездил на чём угодно и куда угодно, не рефлексируя. Не побоялся сесть в истребитель. Пел в «горячих точках». И теперь этот человек боится задохнуться ночью в собственной кровати. Где логика? Или в том логика и заключается? В своей кровати особенно обидно. После стольких абсолютно безбашенных лет.
Он идёт неторопливо, но в его спокойном шаге не старческая немощь, а чувство собственного достоинства. Большинство прохожих в такую погоду смотрят под ноги, а у него, как всегда, взгляд поверх голов. Как будто он на сцене. Сашка втайне любуется им. И вздёрнутым подбородком, и широкими плечами, и идеальной осанкой, которую не испортили годы. И даже волосами цвета «перец с солью», которые он зачёсывает назад, слегка фиксируя гелем. Раньше они держались ещё и на лаке, но чёртова астма внесла коррективы. И Сашке ещё больше нравится лёгкая растрёпанность в его причёске, появляющаяся к вечеру или в сырую погоду, когда одного геля явно недостаточно. Ой, кого она обманывает. Ей нравится абсолютно всё. С ней рядом идёт её придуманный мужчина. Её идеальный мужчина. Что бы ни казалось окружающим, до которых ей теперь нет ровно никакого дела.
Дверь почтового отделения он открывает царственным жестом. Пропускает её вперёд. К счастью, дождь смыл вечных бабулечек, желающих оплатить коммунальные услуги. У стойки только один влагоустойчивый дед заполняет какие-то бланки. Сашка встаёт за ним, жестом предлагая Всеволоду Алексеевичу сесть на стул. Всеволод Алексеевич отрицательно качает головой и остаётся стоять у неё за спиной. Не устал, хорошо. Правильно она сделала, что вытащила его из дома.
Дед всё ещё возится с бланками, никак не разберётся, в какой графе что писать. Обычный дед, не слишком ухоженный, неприятно пахнущий, и Сашке даже не хочется анализировать природу этого запаха. С жёлтыми длинными ногтями и трясущимися руками. А ведь ему может быть даже меньше лет, чем Туманову. Сашка уже не раз убеждалась, что важен не год рождения, а то, как человек себя держит. Подумала и тут же устыдилась своих мыслей. Ей хорошо рассуждать. Может быть, дед одинокий. Может, у него нет никого, готового следовать по пятам днём и ночью. Гладить рубашки и стричь ногти. Впрочем, с маникюром Всеволод Алексеевич справляется сам. И следит за собой тоже сам. И гладит он лучше, чем Сашка, у которой вечно на каждой брючине по пять стрелок получается. К стирке она его не подпускает, даром что у них стиральная машинка. Порошки, кондиционеры – всё это серьёзные раздражители для дыхательных путей. Но в любом случае их двое. И у каждого есть как минимум одна причина чисто одеваться, аккуратно причёсываться и прямо держать спину. А деда, может, никто дома не ждёт.
– А здесь что писать? – в пятый раз спрашивает дед у почтовой работницы, которой нет до него никакого дела.
– Ну я же вам всё сказала! Не отвлекайте, я почту отправляю!
Сашка заглядывает деду через плечо, придвигаясь чуть ближе.
– Вот тут дату и подпись, – показывает пальцем.
Дед резко оборачивается:
– А ты чего лезешь? Спрашивали тебя? Ишь ты, курвица! Табачищем от тебя, как от пепельницы, несёт. А потом у таких, как ты, дети без ушей рождаются!
Сашка на мгновение теряется. Давно она не работала с таким контингентом, поотвыкла от проявлений старческой деменции. Пытается соотнести услышанное с реальностью, найти причинно-следственные связи в неожиданных претензиях деда.
И в следующую секунду видит, как тяжёлая рука Всеволода Алексеевича сгребает деда за грудки:
– Слышь ты, м..к недоделанный! Сиди дома со своим маразмом и пей галоперидолчик! Ты как с женщиной разговариваешь? Думаешь, если до седой жопы дожил, то всё можно? Старость нужно уважать? Ну так я тебе на правах старшего сейчас как въе…
И всё это красивым, поставленным баритоном, надо заметить. Договорить Всеволод Алексеевич не успевает, деда как ветром сдувает. Даже бумажки свои забыл недозаполненные. Почтовая работница поднимает голову от стопки писем и без всяких эмоций констатирует:
– Как хорошо, что вы его прогнали. Может, сегодня не вернётся. Каждый день сюда шастает и скандалы закатывает. Следующий!
Сашка всё ещё в оцепенении, поэтому Всеволод Алексеевич молча берёт из её рук паспорт и кладёт на стойку:
– Выдайте нам посылочку, будьте любезны. На фамилию Тамариной.
Он само обаяние. Народный артист, интеллигент, франт. Который ну никак не мог произнести все те реплики, прозвучавшие в адрес деда. Сашка сто раз себе напоминала, в какой среде прошло детство маленького Севы. Послевоенная Марьина Роща – самый криминальный район Москвы. Да и шоу-бизнес – не институт благородных девиц и не кадетский корпус. И он совершенно прав, дементные агрессивные деды понимают только силу. Бить их, конечно, нельзя, но разговаривать надо жёстко, иначе не поймут. И всё-таки…

Посылочку им, разумеется, выдают. И через пять минут Всеволод Алексеевич уже увлечённо роется в коробке, рассматривая яркие пакетики с конфетами и баночки с конфитюром на фруктозе. Довольный, как ребёнок, получивший новогодний подарок. Как и договаривались, сам несёт коробку домой. По дороге Сашка всё-таки решается задать мучающий её вопрос:
– Всеволод Алексеевич, а от меня действительно пахнет табаком?
Чёрт бы подрал этого деда. Она ведь всегда переодевается. И руки моет. Волосы у неё короткие, вряд ли хранят запах. Может, у деда просто пунктик? Мало ли как его глючит. Может, он всем женщинам одно и то же выдаёт. Но Всеволод Алексеевич как-то странно ухмыляется.
– Что? Пахнет?!
Кивает.
– Предупреждая твой сеанс самобичевания, замечу, что мне нравится запах табака. И если ты не станешь курить в спальне, то ничего не случится. Я и сам бы с удовольствием курил, если бы мог. И сигарета в женской руке мне нравится. Вот такой я извращенец. Это чертовски сексуально.
Сашка тихо ойкает. А он смеётся. И берёт её под руку, потому что дождь усиливается, а зонт у них по-прежнему один.
***
– Можно, Всеволод Алексеевич? – Сашка замирает на пороге.
Глупо, конечно, стучаться в спальню, где ты ночуешь чаще, чем в своей собственной. Но она встаёт гораздо раньше его, и если потом требуется зайти назад, то стучится. И он прекрасно знает, зачем она пришла, не дождавшись его появления на кухне. И сразу мрачнеет. Он сидит на краю кровати, только что из душа, влажные волосы зачёсаны назад, в синем махровом халате, и даже в нём выглядит артистом, хоть сейчас на сцену.
– Опять? Всё чаще и чаще. Скоро каждый день начнём менять!
– Неделя прошла, Всеволод Алексеевич.
Сашка сама предпочла бы, чтобы это происходило реже. Лучше вообще никогда. Никогда у доктора Тамариной не дрожали руки, никогда ничего не ёкало, даже в бытность студенткой-практиканткой. А сейчас и опыта завались, и рука набита до автоматизма. Но только не с ним. Иногда Сашке кажется, что легче было бы нанять медсестру. Но он же никого к себе не подпустит. И зачем она ему тогда нужна?
Всеволод Алексеевич тяжело вздыхает и скидывает халат. Дозатор инсулина лежит на тумбочке, он может не подсоединять его около часа. Вполне хватает, чтобы спокойно принять душ и не спеша одеться. Электронная коробочка цепляется на пояс брюк, а ночью он кладёт его рядом на постель. Очень удобная штука, если бы не еженедельная замена канюли – иглы с фиксатором, через которую инсулин поступает в организм. Одна неприятная процедура в неделю при её установке, вместо ежедневных многократных инъекций. Чудеса техники и электроники. Проблема в том, что он совсем не переносит боль. И Сашка чувствует себя последней сволочью, когда приходит к нему вот так, по утрам понедельника.
Он, конечно, молчит. Всё-таки большой мальчик. Отводит взгляд, пока она снимает старую канюлю и обрабатывает место прошлого прокола. Заживать оно будет ещё дня два, поэтому новую надо ставить как можно дальше, на другую сторону живота. Иногда ставят на руку или на бедро, они пробовали по-разному, но ему так неудобно: на руке постоянно задевает, а на бедре ещё больнее. Технологии шагнули далеко вперёд, устанавливается канюля одним щелчком, чтобы пациент мог справиться сам. Более молодые диабетики обычно справляются. Но в его случае уже моторика не та.
– Сейчас сделаем и на неделю забудем.
Сашка повторяет одно и то же каждый раз, привычно его забалтывает, прикладывая к животу ватный диск, щедро смоченный лидокаином. Методика, подсмотренная когда-то у педиатров. Взрослые терпят, но только не это сокровище.
– Погода на улице изумительная. Пойдёмте в парк погуляем? Или у вас есть какие-нибудь пожелания? Всеволод Алексеевич, на меня смотрите, пожалуйста.
Щелчок, и он вздрагивает всем телом, со свистом втягивает воздух и тут же порывается сесть. Только не это опять!
– Всё, всё нормально, дышим. Ну всё, мой хороший. Всё, солнышко.
То самое исключение, когда Сашка забывает про вечное «вы». И про дистанцию, которую держит всегда, тоже забывает. Потому что сейчас главное не допустить приступа чёртовой астмы, который случается чуть ли не через раз при этой, плёвой в общем-то, процедуре. Ему больно, и в мозгу срабатывает какая-то защитная реакция, вызывающая в том числе бронхоспазм.
– Дышим. Не надо глубоко. Главное, медленно. Ну всё, уже не больно ведь? Нет? Водички хотите? А сладкой? Пойдёмте на кухню. Пойдёмте, пойдёмте. Вставайте. Вы дышите, всё хорошо.
Не то чтобы совсем хорошо, он свистит, как закипевший чайник. Но если сейчас успокоить, переключить на что-то внешнее, то может обойтись. Тут такая тонкая грань между психологией и физиологией, что Сашке порой хочется застрелиться. А лучше бы перестрелять всех, кто в таком его состоянии виноват. У неё целый список есть.
– Ну одевайтесь, Всеволод Алексеевич. Вы с голым торсом за стол собрались?
Она бы и слова против не сказала. Хоть без штанов. Но ей надо, чтобы он «включился». На кухню идёт за ним след в след на всякий случай – его пошатывает. Надо подсоединить дозатор инсулина, и лучше побыстрее. Но сначала сделать замер, опыт подсказывает, что сейчас сахар низкий. Она уже определяет на глаз лучше любого глюкометра, по движениям, по взгляду, по тому, как он облизывает губы, сам того не замечая.
И так, ну или почти так, каждое грёбаное утро понедельника. И жалко его до слёз, но жалеть нельзя. И самой раскисать нельзя. Всё, что у него есть, это её оптимизм и уверенность, что она справится с ситуацией.
Через полчаса всё входит в норму. Он накормлен и напоен сладким чаем, сахар замерен, дозатор инсулина подключён. Можно жить дальше. Но гулять обоим уже не хочется, Всеволод Алексеевич возвращается в кровать, тихий, молчаливый, грустный. Тоже привычно, ничего нового. Сашка пробовала разные подходы, в её распоряжении каждый понедельник. Пробовала тащить на улицу насильно, пробовала чем-то занять. Ничего хорошего не выходило. Лучшее, что она может сделать, это посидеть рядом. Что-нибудь рассказать, он будет охотно слушать. Если просто оставить в покое, он уйдёт в свои мрачные мысли, и станет только хуже.
Кровать застелить не успели, и он лезет под одеяло. Что ещё за дела? Май месяц. Морозит, что ли? Сашка озабоченно касается его лба, шеи. Никакой реакции с его стороны, как кукла. Только смотрит грустными больными глазами. И Сашке реветь хочется от собственной беспомощности.
– А я уже видел у тебя этот взгляд, – вдруг выдаёт он негромко. – Я его помню.
– Что?
Мысли Сашки витают исключительно в области медицины, и она не сразу понимает, о чём он.
– Вот этот взгляд побитой собаки. Я его помню. Не помню город. Москва, наверное же? Хотя вряд ли юбилей, на юбилейном концерте мне точно не до деталей было бы. А обычные концерты я в Москве не пел. У меня саунд-чек был, а ты вошла через служебку. И в дверях встала, ещё с какими-то девочками. И вот так же на меня смотрела. Я мельком глянул, кто вошёл. И чуть с текста не сбился. Взгляд у тебя, конечно…
Сашка не знает, что сказать. Она считала, что он её не замечал до самой их встречи в маленьком городке на Алтае.
– Мама говорила, ведьминский взгляд. Она вечно орёт, а я сижу молча и просто на неё смотрю. А что мне, отвечать, что ли? А её это только больше раззадоривает. «Что ты смотришь на меня глазами своими ведьминскими? Признавайся, смерти моей хочешь».
По лицу Всеволода Алексеевича пробегает тень, и Сашка понимает, что зря подняла такую тему.
– Я, конечно, ничего не смыслю в воспитании, но, по-моему, так детям говорить нельзя. Глупости какие. Причём тут ведьмы? У тебя тогда были глаза побитой собаки. И я как будто споткнулся о твой взгляд, понимаешь? Потом собрался, конечно, решил, что не моё дело. У меня концерт, мне готовиться надо. Мало ли кто там пришёл и с какими проблемами. Вот ты сейчас так же на меня смотришь. Я тебя обидел?
– Чем? Тем фактом, что здоровье у вас хреновое? Ну что за ерунда. Не обращайте внимания. У меня национальная многовековая грусть еврейского народа в глазах, это неистребимо.
Качает головой. Не поверил конечно же.
– А там? В Москве?
– В Новосибирске, Всеволод Алексеевич. Это был Новосибирск.
– Ещё не легче. И как ты туда попала?
– На самолёте. Так же, как и вы, полагаю. На концерт ваш полетела.
– А ближе никак нельзя было? Из Москвы на концерт в Новосибирск? Саш, ты с ума сошла?
– Ну, поклонники вообще люди ограниченно вменяемые, это факт. В Москве вы обычные концерты не давали.
– Почему Новосибирск?!
– Я не помню детали, Всеволод Алексеевич. По-моему, вы тогда в очередной раз заболели. Точнее, вам первый раз стало плохо на глазах у журналистов. На съёмках новогодней «Песни года».
Хмурится. Вспомнил ту отвратительную статью и беспардонные фотографии налетевших журналистов, где Ренат ведёт его, бледного, под руку в гримёрку.
– Да, было такое. Пришлось отменить потом несколько выступлений.
– И первый раз после болезни вы вышли в Новосибирске. Ну я и метнулась за вами. Увидеть живьём. Убедиться, что вы в порядке.
У него так смешно изгибается одна бровь, что Сашка не может сдержать улыбки, несмотря на общую тональность разговора и ситуации.
– М-да, девочка, ты выбрала самый простой способ! Деньги же огромные. А работала ты тогда кем, напомни?
– Нянечкой в военном госпитале. Я же ещё в университете училась. На самолёт не очень дорогие билеты удалось взять. А на концерт меня Тоня провела. Поэтому я вошла через служебку и явилась на саунд-чек. На саунд-чеке самое правильное впечатление можно получить. Когда зажгутся прожекторы и вы выйдете к зрителям, там уже включится артист. Как бы вы себя ни чувствовали, вы будете веселить народ. А на саунде вы ещё человек живой.
– Или еле живой, – хмыкает он. – Вот детали не помню. Ни город, ни как себя чувствовал в тот момент. А тебя помню. Так откуда страдальческий взгляд тогда? Приехала на концерт любимого артиста. Или я так плохо выглядел?
– Да нет, нормально. Просто… Как вам объяснить…
Сашка тяжело вздыхает. Вот нужен ему сейчас такой разговор? Но, судя по заинтересованному лицу, нужен. Он уже не пластается по кровати, а полусидит, и взгляд стал более живым.
– Не знаю, как для всех поклонников. Но для меня ваши концерты никогда не были радостью. Точнее, не так. Это мазохистская радость. Когда сначала хорошо, а потом больно. И ты заранее знаешь, что будет больно. И с каждым разом всё хуже. И всё безнадёжнее.

