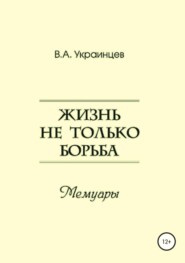 Полная версия
Полная версияЖизнь не только борьба
1978 год запомнился как год ряда важных событий. Главное – Сергей закончил университет, поступил в аспирантуру МГУ и был направлен на работу в НИИ АС Минавиапрома, (М. «Аэропорт»). Судя по тому, что он пару раз приезжал на дачу с разными девушками, я понял, что он готовится жениться. Я попросил Розу достать ему путевку в какой-нибудь Дом отдыха, чтобы ему отдохнуть.
Однажды он приехал ко мне в гости и заночевал. Мне представилась возможность дать ему несколько жизненно важных советов. В частности, я сказал, что «судя по моему опыту, не стоит бросаться жениться на первой же девушке, в которую влюбился, можно ошибиться». Думаю, что разговор пошел на пользу.
Когда он собрался поступать в аспирантуру, приехал ко мне на дачу посоветоваться. У меня уже было определенное отрицательное мнение об этой форме «выпечки» ученых, большинство из которых по уровню знаний были далеки от совершенства – главное было получить «корочки», и, соответственно, значительную прибавку к зарплате. Я Сергею сказал своё мнение: «Лучше быть хорошим инженером, чем плохим кандидатом наук (В аспирантуру он поступил, руководителем у него был известный ученый д.т.н. Парусников. Тема – по оптимальному управлению космическим аппаратом. Защитился он успешно. Я на защите не смог быть). Роза достала путевку, и он уехал в какой-то Дом отдыха под Киев. И там нашел свою половину, с которой построил хорошую, крепкую, как мне до сих пор кажется, семью. (В 79 году сыграли свадьбу в Киеве. Я на свадьбе не был, плохо себя чувствовал, да и не хотелось ехать в Киев, достаточно было того, что поехала Зина).
Летом этого года Юля написала про меня характерную эпиграмму. Она очень огорчалась легкомысленным отношением Иры к учебе (так было и у неё самой на первых курсах физфака МГУ, как она мне рассказывала). Когда Ира не сдала зачет по математике, я прокомментировал: «Что твоя халтурщица (был «синоним» похлеще) по сравнению с моим Сергеем». (Чтобы Иру подтянуть по математике, с ней, по собственной инициативе, впоследствии, занимался преподаватель МГУ д-р Крейнес. В разговоре с Юлей он охарактеризовал Иру как «очень способную»).
В ответ Юля обиделась, расплакалась и написала:
Бревно, пять отростков
Один говорящий,
В.А. Украинцев,
Мой муж, немудрящий!
Я возмутился за явную несправедливость – она забыла про важный отросток, и спросил: «Почему же пять?».
До сих пор, как вспомним про этот стих и мой вопрос, смеёмся. Нередко за прошедшие годы совместной счастливой жизни мы говорили и говорим, как нам обоим крупно подвезло , что мы так нестандартно нашли друг друга.
(Весной 2009г, прочитав это своё четверостишие перед отправкой материалов Мемуаров в Канаду (Торонто) моей двоюрной сестре Лене, Юля провела по моей просьбе модернизацию, добавив в начале и в конце несколько строк:
В начале:
Плывём по реке, называемой жизнью
Начало – случайно, в конце – всех нас ждёт тризна.
Кто – в одиночку, с детьми, иль в семье,
А я при большом однослойном бревне.
В конце:
« Пять почему?» – только спросит, «Ответь!»
«Ладно» – сказала я: «Пусть будет шесть!»
В 79 году Ира вторично вышла замуж за Андрея Митякова и в 80-ом у них родился Сашка, а в 82 – Вовка, названный в мою честь. (Первый раз Ира выскочила замуж в 17 лет за какого-то еврейского охламона и через короткое время от него сбежала. Мне даже пришлось её спасать от него, когда однажды он приехал за ней на Ферсмана – пришлось применить силу и обещание зарезать, если ещё раз приедет. Испугался, и больше не приезжал). Почти синхронно в те же годы у Сергея тоже родились два парня – Мишка и Гришка. (По очень странным и непонятным для меня причинам фото Гришки у меня нет).
В январе 79 года отца не стало. Ещё летом на даче я заметил, что у него проблемы с желудком и его опорожнением. Как-то он мне сказал, что без «матери он не хочет жить». Похоронили его прах рядом с прахом матери на Химкинском кладбище в могиле Феди Булычева.
3.2 НИЭР «Облако». Новые задачи и проблемы
3.2.1. Общая ситуация. Подготовка к важному эксперименту.
Вскоре после закрытия «Тигра», ко мне подошел М.Е. Кутейников и предложил перейти к нему в отдел всем коллективом, чтобы взять на проработку вопрос оценки эффективности комплекса «Облако», совершенно не затронутый, как ни странно, при его проектировании. К этому моменту готовность экспериментального образца, изготовляемого на з-де «Баррикады» в Волгограде, была примерно 80%. (Справка: з-д « Баррикады» – изготовитель баллистических ракет серии СС (по американской классификации) с атомными боеголовками. Их возили на всех парадах по Красной площади). Головным разработчиком комплекса был один из ведущих руководителей завода, главный конструктор Соболев Валерьян Маркович, а Никодиму придумали роль «научного руководителя». «Луч» должен был спроектировать систему управления всего комплекса, создать как сам мощный лазер, так и весь оптический тракт вывода излучения из телескопа, осуществляющего концентрацию излучения на цели (изготовитель ЛОМО – Ленинград), создать комплекс для натурных испытаний комплекса в «Радуге» и на Балхаше.
Создать систему управления было поручено М.Е. Кутейникову, назначенному Устиновым «Заместителем Главного конструктора комплекса».
Компоновку комплекса Соболев произвёл на самом мощном в то время колесном носителе МАЗ-547. Составные части лазера размещались в корпусе от баллистической ракеты (трубе) серии СС и в блоке генерации и концентрации излучения на цели (телескоп), размещенном на ОПУ – опорно-поворотном устройстве с двумя степенями свободы – по азимуту и углу места. Общий вес конструкции около 30 тонн. В положении, когда эта 15-ти метровая стальная труба, с нахлобученным вверху блоком генерации и телескопом, из горизонтального положения (походного, см. коллаж выше) поднималась в вертикальное (боевое) и разворачивалось на цель, высота конструкции достигала 20 метров. Кошмар, змей Горыныч! (При первом взгляде на это странное сооружение, у меня блеснула мысль, что первая бомба будет сброшена на этого монстра, а потом уже на заданную для атаки цель).
По задумке «великих» академиков и «научного руководителя» темы, мегаджоульные выстрелы лазера должны были создать на головной части атакующей ракеты плазму и головка системы наведения (ГСН) ракеты должна была ослепнуть, т.е. высокоточное наведение на наземную цель становилось невозможным – ракета должна была перейти на неуправляемый (баллистический) полёт при полной потере наземной цели или продолжать полёт под воздействием полезного сигнала от цели, забитого помехами от плазмы. Т.е. вероятность поражения наземной цели должна была упасть до нуля. А это, до натурных испытаний, можно определить только на математической модели!
Мне, с моим коллективом теоретиков, программистов и моделировщиков, предстояло весь этот процесс промоделировать на ЭВМ вычислительного центра предприятия и дать оценку эффективности боевой работы комплекса «Облако».
Я, не задумываясь, согласился, тем более Беседина куда-то задвинули.
Исходя из огромного опыта, приобретенного в «Алмазе» за 15 лет работы в
теоретической лаборатории Цепилова методика решения задачи мне была предельно ясна и понятна – надо было создавать большую (пространственную) математическую модель управляемого полёта ракеты и включить в неё блок, имитирующий воздействие плазмы на приёмник ГСН.
Кутейникову я сказал, что ключевая задача в работе должна быть: «путём прямого эксперимента на трассе полигона в Радуге в стационарных условиях получить статистические оценки активных помех, поступающих с ГСН на автопилот ракеты от плазмы, образующейся на прозрачном обтекателе ГСН – на отечественных аналогах ракет вероятного противника. Это даст возможность построить математический «блок активных помех», по множеству математических пусков рассчитать оценки промаха ракеты по цели и рассчитать вероятность сохранения наземного объекта, защищаемого комплексом». Для этого военные должны дать координатный закон поражения конкретной наземной цели.
И Кутейников и Шахонский эту мою позицию поняли и с энтузиазмом поддержали.
Так начался путь, который привел к развенчанию плазменного способа подавления ракет.
Придя на фирму в марте 75 года, Кутейников, как опытный тематик, получив Приказ о назначении его Заместителем главного конструктора комплекса «Облако», потребовал от военных основной документ для разработки – ТТЗ (тактико-техническое задание). К 80-му году, к моменту прихода моей лаборатории в его отдел, ТТЗ было подписанным на самом высоком уровне и согласовано со всей кооперацией. Меня порадовало, что в нем четко были прописаны параметры зоны поражения комплекса, перечень целей вероятного противника и даже «вероятность поражения цели» – 0.95! К сожалению, для комплекса, обороняющего объект, это хорошая, но не конечная цифра – конечной является «вероятность сохранения объекта». По этой цифре комплекс должен сдаваться заказчику после Госиспытаний на полигоне!
Самое удивительное для меня было то, что военные требовали, чтобы после изготовления, им отдали комплекс на испытания, и они сами, без нас, т.е. без промышленников, создателей комплекса, будут определять эту цифру. И по ней будут принимать решение, брать его на вооружение или выбросить на свалку. Встаёт вопрос: А денежки?
Исходя из опыта работы по «Тигру», я понял, что здесь тоже идёт какая-то сложная игра.
Логика разработки промышленностью оружия может быть только одна: «Я создал оружие (хоть пистолет, хоть рогатку), я его испытал на заводских испытаниях, я, на совместных испытаниях получил заданную в ТТЗ вероятность поражения цели, ВЫ, ВОЕННЫЕ, ОБЯЗАНЫ ЗАПЛАТИТЬ МНЕ за работу. А потом можете с ним делать что угодно». Так была поставлена работа в «Алмазе» великим Генеральным конструктором, разработчиком ракетных комплексов ПВО Александром Андреевичем Расплетиным! Так намеревался действовать и я.
В процессе работы, мне удалось переломить эту позицию военных !
Но до испытаний было ещё далеко. Соболеву надо было закончить изготовление и сборку комплекса на носителе в Радуге, провести цикл автономных испытаний составных частей, Кутейникову закончить изготовление системы управления и руководить всем процессом сборки комплекса на «Радуге». С 85г к этой работе он начал привлекать и меня.
.
3.2.2.. Подготовка к проведению эксперимента. Мне – 50. «Жигули». Серьёзная травма левого голеностопа
После новогодних праздников 80-го года началась интенсивная работа уже в отделе Кутейникова по созданию матмоделей для оценки эффективности комплекса и организации трассовые испытаний в «Радуге». К этому времени «задышал» стенд 6Д01. т.е. аналог лазера «Облака» вскоре мог бы выдавать излучение на трассу. Я поручил Юле взять на себя руководство созданием матмоделей, а сам стал добывать отечественные аналоги ракет, обозначенных в ТТЗ как цели для комплекса «Облако». Генштаб ВВС мне отказал – лишних ракет нет! Тогда я поехал в ВВИА – Военно– Воздушную Инженерную Академию им. Н.Е. Жуковского.
Академия заинтересовалась этим экспериментом и согласились в нём участвовать с поставкой штатных ГСН ракет, бортового подсветчика цели, комплексов регистрации параметров в процессе испытаний и обслуживать работу техники своими офицерами, в основном преподавателями, во главе с зав. кафедрой №24, полковником, д.т.н. Гончаровым Игорем Николаевичем, высококлассным специалистом в области бортовых систем управления ракетами и бомбами. (В одном вопросе, правда, я его ущучил – он слабо знал систему гиростабилизации ГСН ракеты. Эта часть ракеты мало чем отличается по принципу построения от системы гиростабилизации гирокомпаса корабля, которую я знал в совершенстве. Поспорили, он согласился со мной, а вечером в гостинице вместе выпили «за дружбу и плодотворное сотрудничество». Он был тоже как и я, страстным охотником). Включились в работу и офицеры видового института ПВО (гор. Калинин, сейчас гор. Тверь) и офицер (полковник) Генштаба Министерства Обороны Игорь (фамилию забыл).
Категорически отказались участвовать в эксперименте разработчики ГСН –
КБТМ (Гл. конструктор Хорол, Москва) и изготовители – завод в г. Азов. Отказался и НИИ АС, ответственный за эффективность авиационного бортового вооружения Союза. Боялись что ли того, что мы можем показать слабость их продукции и поколебать их авторитет? Не знаю.
Процесс подготовки эксперимента занял более 2-х лет. За это время мне пришлось много помогать Юле. Надо было объездить организации, разработавшие аналоги ракет, которые прописаны были в ТТЗ как цели, и уговорить их дать мне паспортизованные алгоритмы наведения их ракет. В некоторые организации я брал с собой Юлю. Пришлось слетать и на полигон ПВО в Капустин Яр, (под Волгоградом), где мне дали алгоритмы наведения некоторых ракет и бомб-аналогов, результаты их натурных испытаний, в том числе и результаты аварийных пусков на их полигоне. (Они нужны были для расчета зон безопасности – у некоторых изделий отказывали в полете системы управления, заклинивали рули и они улетали аж за 40км от цели. Во время испытаний в зоне с этим радиусом не должно быть никого живого!). В НИИ-28 – головном институте по ракетному вооружению кораблей ВМФ в Ленинграде, мне дали алгоритм наведения противокорабельной ракеты «Гарпун», аналога американской ракеты. (Естественно, все эти алгоритмы носили гриф «Сов. Секретно» и высылались мне спец почтой).
Работа развивалась в хорошем темпе. Под руководством Юли, по поступающим из организаций алгоритмам, мои программисты и моделировщики (Боря Лебедев, Володя Нефедов, Валя Орлова – очень красивая незамужняя женщина, Валя Пискун, Лена Ржанова и программисты из Караганды) создавали программы матмоделей оценки эффективности лазерного воздействия.
Вспоминается один смешной эпизод. В 12 НИИ МО (тогда г. Загорск), ответственном за критерии и критериальные параметры поражения лазером всей боевой техники вероятного противника от Министерства Обороны, в начале 83 г. проходила какая-то конференция, и Шахонский попросил меня там побывать. У меня уже были результаты моделирования – цифра по минимальной дальности полного ослепления лазером ГСН, не помню, какой ракеты, при которой обеспечивается промах, не меньший заданного. Докладчик называет цифру в 2 раза большую моей. Я достал маленький блокнотик и записал её. После окончания доклада я подошел к докладчику, чтобы обсудить это расхождение, и, не успел я открыть рот, как с обеих сторон меня хватают «под локотки» и насильно, не говоря ни слова, куда-то тащат два здоровенных майора. Притащили в кабинет начальника института, д. т. н. генерал-лейтенанта Замышляева, родной брат которого у нас был зам. начальника СКБ (см. выше). Эти два бугая доложили генералу, что поймали шпиона. Когда он узнал от меня кто я и откуда, он отпустил этих молодчиков из 2-ого отдела. Он мне объяснил, что я, записав что-то в несекретный блокнот, грубо нарушил инструкцию по ПДИТР (служба Противодействия Иностранным Техническим Разведкам). Как будто я без него это не знал! (Ради дела, я эту инструкцию нарушал уже несчетное количество раз). Попросил у меня блокнотик, увидел там одну безразмерную цифру, и спросил что это за цифра. Пришлось мне ему все растолмачить с азов. Я даже ему высказал моё предположение, почему расходятся цифры. Для нас, разработчиков лазера, это очень важно, т.к. тянет за собой увеличение в квадрате мощности лазера! Он очень удивился, когда узнал, что в «Луче» занимаются оценкой эффективности комплекса на таком высоком уровне – он считал, что это дело военных. Пришлось мне его переубедить, и, кажется, успешно. Он попросил у меня блокнотик, вырвал листочек, порвал его и вернул мне. Предложил покинуть Конференцию, что я и сделал.
Приближалось моё 50-ти летие. Юля предложила купить а/машину – подарок к этой замечательной дате. Неоднократно моя фотография висела на доске почета ОКБ, и я подал заявление в завком выделить мне право на покупку автомашины. В июне 80г мне выдали какой-то документ на право покупки комиссионной а/м «Жигули» – новые машины завкомовские ребята давали только большим начальникам и брали себе. Около 2000р заняли у друзей на работе.
В машинах я тогда разбирался слабо, хотя некоторые знания о принципах работы системы зажигания у меня были ещё со времён, когда я, 13-ти летним пацаном, в 44 году вынужден был с голодухи летом пойти работать на автобазу склада химоружия (подробности – в разделе 1.4).
Пару раз мы с Юлей съездили в Ю. Порт, где были выставлены комиссионные машины, но ничего подходящего не увидели. Стало ясно, что нужен был надёжный консультант. И я такого нашел. Порекомендовал мне его мой друг детства Володя Чекалин. У него в стройуправлении был парень, который занимался на профессиональном уровне ремонтом а/м. При первой же поездке в Ю. Порт он выбрал «ВАЗ-2101», 78 года выпуска, экспортного исполнения с чуть помятым задком. Я заплатил 5200р. (Новая – стоила 5600). Машина была в эксплуатации на а/базе дипкорпуса и прошла всего около 7000км. И он сам же взялся её отремонтировать. Через месяц он машину мне сдал в отличном состоянии. Заплатил я ему за ремонт 300р. (Прослужила она нам отлично без серьёзных сбоев в системах 17 лет, накатал я около 200000км. По-началу, несколько раз я попадал в мелкие аварии, а один раз – в серьёзную).
22 декабря 1980, день моего 50-ти летия, отмечен был в рамках ОКБ. С поздравлениями приходили все руководители отделов и ОКБ. Был выпущен спец номер стенгазеты с описанием в юмористической форме эпизодов моей биографии и заметных достижений во время службы на флоте, работе в «Алмазе», на охоте и работе в «Луче». (В ОКБ был профи художник. Особое впечатление производила физиономия оскаленного тигра). Был поздравительный Приказ, подписанный Н.Д. Устиновым и Адрес с огромным количеством подписей).
В начале декабре 82г произошел печальный инцидент – я серьёзно повредил левый голеностоп, выходя из вагона электрички во Владимире на низкую обледенелую платформу. Стопа подвернулась и я упал, застонав (заорав!) от дикой боли. С вокзала меня доставили в областную больницу, где рентген показал серьёзный разрыв связок с отрывом фрагментов кости. Мне повезло, что на этом же поезде ехал мой товарищ из другого отдела. Он сопровождал меня всюду и организовывал транспортировку сначала в гостиницу полигона, а потом в Москву до дома. В 1-ой Градской мне сделали гипс и сказали, что снимать будут только через месяц.
Я, конечно, им не поверил – до сих пор на мне всё заживало максимум за неделю. Через 3 недели гипс я срезал, т.к. под ним стало здорово чесаться. Во-первых, я почувствовал себя здоровым – на ногу свободно без боли уже наступал. Во– вторых, он очень мешал мне заниматься с машиной. Вскоре, я понял ошибочность этого шага, т.к. свободно бегать и прыгать, как раньше, я уже не мог. В обычной ситуации голеностоп я не чувствовал – что при строительных работах на даче, что при обработке земли. (Третий раз я поломал этот же голеностоп в 2005г, когда пахал на своём тракторе огород под картошку, и ходить без палочки стало трудно. Об этом – в своё время).
3.2.3 Эксперимент. Важные выводы и последствия.
В конце августа 83 года стенд 6Д01 устойчиво стал выдавать излучение, и мы начали трассовые испытания – обстреливать ГСН, установленную в КУНГ-е на дальности 500м от лазера и по осциллограммам анализировали, как ведут себя параметры, поступающие с ГСН на автопилот. По ним я планировал построить блок «модель активных помех» для матмодели контура наведения ракеты. Лазерное пятно, за которое ГСН хваталось как за цель, создавал на имитаторе цели – бетонной плите, штатный бортовой подсветчик ВВИА. Чтобы не матировался сферический оптический обтекатель ГСН (спец. стекло!), перед ним ставилось обычное (силикатное) стекло. После каждого выстрела оно становилось непрозрачным от действия очень высокой температуры плазмы.
Всем этим ансамблем на эксперименте руководил Кутейников. Я же занимал самую важную для меня позицию – у осциллографа, записывающего параметры, поступающие с ГСН на автопилот во время и после импульса излучения. Работать можно было только ночью и только во временнǒе окно, выдаваемое службой ПДИТР – когда космос был свободен от спутников-шпионов. Обычно, за ночь таких окон было 2…. 3, по часу.
Запланировано было провести 100 пусков и получить осциллограммы, характеризующие поведение ГСН. Алгоритм обработки осциллограмм был написан Орловой. По нему Нефедов сделал программу на Фортране. Всё было готово к приему данных с осциллограмм!
Эксперимент мы начали в первой декаде сентября, а закончили в конце ноября, когда уже валил снег, иногда с дождём. Я и Саша Алявдин, один из выдающихся специалистов отдела Кутейникова, сидели на Радуге безвылазно, а Катейников иногда уезжал в Москву, оставляя меня руководить экспериментом. В самое горячее время, 14 ноября, он умчался в Москву, не объяснив зачем. Когда вернулся, он сообщил, что уезжал на празднование своего 50-ти летия. Мы с Алявдиным его чуть не убили! Он объяснил: «не хотел, чтобы мы прерывали работу». Пришлось ему напоить вечером всех участников эксперимента. В том числе и военных. А спирт у нас был всегда – официально: «для протирки «оптических» осей ГСН».
Внимание! Далее будет самое интересное!!!
«»Из 100 пусков мощнейшим лазером стенда 6Д01 по оптическому обтекателю головки самонаведения 500 килограммовой авиабомбы она, т.е. головка самонаведения, от воздействия плазмы потеряла цель только в 2-х случаях!»»
Все были шокированы! В 98 случаях головка игнорировали излучение от плазмы, и устойчиво держало цель – параметры, поступающие с неё на автопилот, были без помех. Анализ осциллограмм показал, что срыв автосопровождения цели произошел только тогда, когда импульс излучения лазера совпал со стробом, открывающим приемник ГСН всего на 5 мс! Остальное время 10-ти герцового цикла подсвета цели – 95мс, приёмник был закрыт. Это был режим штатной работы головки. Я и полковник Гончаров знали это, потому сразу и определили причину отсутствия срывов. Т.е., мне анализировать было нечего! Головка «чихала» на лазер! Какая уж тут вероятность! (по ТТЗ на комплекс «Облако» вероятность подавления ГСН атакующей ракеты должна быть 0.95, как я написал выше).
Скандал вселенского масштаба!
По возвращению в Москву я поехал (не помню зачем) в НИИ АС. В Союзе они отвечали за эффективность бортового авиационного вооружения. Принял меня Базазянц, один из замов директора института. В разговоре он спросил, как идут дела на «Радуге»? Я откровенно ему все рассказал.
Через пару дней меня вызывают в кабинет Зам. Главного инженера предприятия Германа Евгеньевича Тихомирова. Мы были симпатичны друг другу. Он спросил, что я сказал Базазянцу? Я ответил по существу. «Владимир Александрович», сказал он, « для Вас это может кончиться плохо, Вы выдали Государственную тайну, а это – 10 лет, как минимум».
Чушь, конечно, мы официально, письмом, приглашали институт на эксперимент! Я специально ездил в институт, объяснял этому самому Базазянцу, что, как и зачем мы хотим делать. Но, при сложившейся ситуации, с провалом крупномасштабного проекта – создания комплекса «Облако», на который истрачено уже 100 млн. рублей (точная цифра нашей старшей экономистки Виолетты Иосифовны Богословской!), от этих горе-руководителей и академиков, авторов плазменного подавления ракет, можно было ожидать любой гадости.
Но, почему-то, всё обошлось!........... А тема?
А тема продолжала развиваться, как ни в чем не бывало. Соболевцы из «Баррикад» закончили сборку комплекса, лазерщики вмонтировали лазер в «трубу» и начали его автономные испытания……. А он, гад, не хотел выдавать излучение! Как ни бились наши и Соболевцы под руководством крупного ученого-лазерщика, д.т.н. Глеба Георгиевича Долгова-Савельева! Еще в течение двух лет продолжалась эта битва, но так и не была получена устойчивая генерация с выходом излучения из телескопа – высоковольтный тракт схемы «накачки» не срабатывал – шли сплошные пробои.



