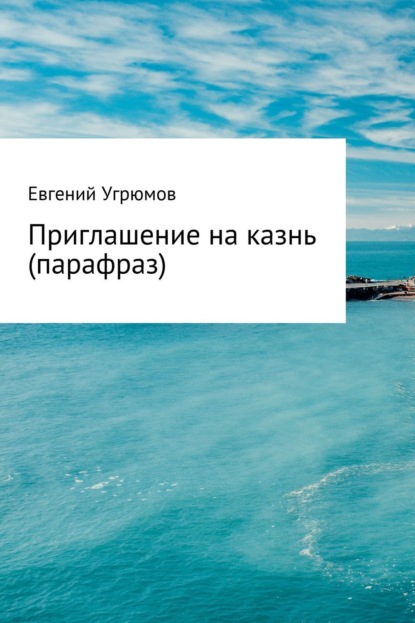 Полная версия
Полная версияПриглашение на казнь (парафраз)
Однако, прежде, всё же, о «камарилье».
Разделяя мир на две части… ну, на какие две части можно разделить рой комаров? Сначала на самочек и самчиков! В любом случае, по этому признаку (sowieso) только две части. И в этом смысле мир весь состоит из пар: мальчик – девочка, хороший – плохой, толстый – тонкий, север – юг, восток – запад, революция – контрреволюция, вот ещё хорошая парочка: микрокосмос – макрокосмос. Об этом давно уже сказано… кто только об этом ни говорил? Гераклит, Протагор: вечное сражение, война… а что, когда не воюют – интересна жизнь? Да и где мы видели, чтоб в мире, хоть на секунду прекратилась война? Кто с кем и с самим собой не воюет? Это уже давно известно!
Платон ещё мне нашёлся! – было бы приписано дальше, если бы было приписано.
Ага, да, правильно: «Избытком мысли поразит нельзя, – снова умная приписка была бы, – так удивите недостатком связи»
И я ещё от себя… в смысле последней парочки, в смысле последней парочки хочется только ещё сказать, что – пропал человек, и пропал целый космос, пусть и микро. С другой стороны: расплакались все – пропал! пропал и никогда больше, и никто так же! она была просто прелесть… она была лакомый кусочек… а бёдра у неё, когда она проходила мимо, стоили всех любовных историй, сочинённых сочинителями: про Авраама и Сару, про Исаака и Ребеку, про Абеляра и Элоизу…
Всегда найдутся, конечно, для которых и космос не космос, и мир не мир, и человек – мошка…
Всё! Выходим!
Таким образом, выходя и двигаясь дальше к психическому и социальному осознанию нашей метафоры, мир разделяется на нападающих и защищающих(ся). Уже независимо от того, мальчики они или девочки. Например, секретарь суда – девочка… Нападающая она или защитница? как немцы говорят – Stürmer(rin) или Verteidiger(rin)?
Хорошо хоть не Torwart, в смысле – вратарь, – приписал бы кто-нибудь снова.
Да по статусу она должна быть вообще нейтральной, но в душе? Сочувствует «ни в чём не повинному», а если и виновному, то всё же симпатичному, ведь видно же, чтоон «сработан так тщательно» и в икрах ещё много накручено чего. И прыщик на сосредоточенном лобике девочки сосредоточенно щемит: «И что это? проблема – пропустить запятую, или поставить в не нужном (в нужном) месте, или другой какой-нибудь… другой знак препинания?..»
Хорошо хоть не препирания… Не проблема! Но писк уже не тот. Писк не тот! Написано же там, в колодце, в туннеле окна, куда Цинциннат не смог дотянуться… Мой автор не стал цитировать, потому что глупость… потому что глупость написана: «Душа болит о (судо)производстве, а руки тянутся к добру», – но написана же! хоть и глупость. Любая глупость, как только её напишешь, становится не такой уж глупостью. Хотя бывает наоборот, становится такой уж глупостью, что как сказал бы Родион – ни в какие ворота не лезет! или, как ещё мог бы сказать: «Э-эх житьё – вставши, да за вытьё!» Но не это главное для нас здесь, главное здесь, что, как сказано – писк уже не тот.
Или, скажем – прокурор. Согласитесь… Из личного общения знаю, что не неприятен (не неприятен) ему наш, извините, узловатый шепелявый Цин-цин, но, как уже сказано – Nobles oblige, – и снова не чистая нота звучит, зудит, я бы сказал. Когда приходится выбирать – всегда зудит.
Адвокат, опять же… уже про адвоката много сказано. Некоторому – прокурором хотелось бы, поотрубывать бы туда и сюда, и на все стороны, но снова… кто тогда адвокатом будет? И вот уже вместо чистого аккорда, увеличенный какой-нибудь интервал, извините…
А судья? Ему же синтезировать надо, вот и бросается он тоже – из защиты в нападение и назад. Мотает головой туда и сюда, а за ним вся публика, кроме Марфиньки. О Марфиньке ещё будет, не волнуйтесь. Она у нас ещё в шляпе и на пуантах… и так далее.
А это уж совсем – когда в душе кошки скребут, h-moll, как говорится, а снаружи D-dur. Частный свидетель, честный, друг, который даёт показания «против», хоть и считается другом, хоть и хотел бы «за», но истина ему дороже.
Есть и со стороны защиты… защитники. Здесь всё наоборот. Терпеть он не может этого в шепелявых башмаках, но истина… и снова: «amicus Plato magis amica veritas». Смешно! Никто им в детстве не рассказал, что истиной сыт не будешь. Да и где она? Ну, покажите мне! Вот, сейчас она истина, а через мгновение уже не истина, уже другая истина – истинна; сейчас истина, а смотришь – уже не истина, а через ещё одно мгновение и эта уже не истина, потому что уже снова другая истина истинна… рассказал бы им кто-нибудь, так может другое свидетельствовали бы.
Потерпевший. И тут уж, хоть на два, хоть на четыре дели! Да я бы, как некоторый автор, тоже мог бы сейчас хоть на восемь, хоть на шестнадцать; могли бы по древу, сейчас, мыслью, как говорится, мол, в простоте своей и т.д., как сказано, мы бы «…пожалуй, пожалуйста…» но, у нас, работников пера и, извините за злую шутку – и топора, принято всё кратко и компактно; на счёт десять пообещаем, а на пять уже… уже и кончаем, как сказал президент: «Если вы хотите, чтобы вашу докладную прочитали, напишите её на одной странице»42.
Но кто потерпевший? Семьи с телеграфистами? Им-то, именинникам (постоянно справляют свои именины на своих дачах), им-то что? Они выпивают тосты разные: тире, тире, точка, точка, точка тире, пробел, точка, точка, тире, точка, точка, тире, тире, точка, точка, тире, точка, тире, точка, точка, тире! За патрона своего, спасителя и святителя, святого Самюэля. Конечно же, в любом случае, и правильно они думают, что в этом мире главный – всегда именинник. А тут гуляли, гуляли, веселились, веселились, а именинника забыли. Вот и написали на стенке: «Вечные именинники, мне вас…»
«Такая у них азбука, – сказал про них Родион, – «морзянка» – одним словом», – сам-то так и не научился щёлкать телеграфным ключом. Был бы сейчас телеграфистом.
Или Марфинька? Конечно! «…это такая маленькая вещь… мужчине такое облегчение», – так что же из-за этого в туалет бегать, хлопотать там унитазом?.. Да, опять, сегодня опять «Марфинька сегодня опять это делала», так что же из-за этого дёргать ручку сливного бачка и шлёпать туфлями? Прозрачнее надо быть. Покаяться. А то всё через силу, и другие от этого страдают. Другим страдание. В туалете от страданий не спрячешься. Неужели этого не понять? О Марфиньке ещё дальше будет. Не волнуйтесь. Она ещё у нас в шляпе…
А может потерпевший – сам уважаемый Председатель суда? Разве может быть Председатель неуважаемым? Нет, Председатель должен быть как закон – наказать или оправдать, третьего не дано (это не футбол вам), «ничьей» не должно быть (хотя, забегая наперёд… нет, не буду, чтоб не просчитаться), надо только сказать, что Председатель должен быть как закон, даже если он (закон) думает иначе. Хотя снова, тоже, вот – сиди, мотай головой здесь… направо и налево…
Всякий, даже совсем неприметный, пусть даже и неприличный персонаж, будь то, или официант из мелированной молодёжи, или женщины в лисьих шубках поверх шёлковых платьев, или даже стражник в пёсьей маске, или в подержанном халате библиотекарь, или девушки без шляп, которые вечно скупают все цветы у жирной цветочницы, пусть даже и сама цветочница с бурыми грудями, не говоря уже о попечителях, главном инженере и начальнике снабжения и о жене директора, кондитерше – всякий выдаёт себя потерпевшим, потому что в душе имеет свое, своё сокровенное и потаённое, как говорится – маленькое, да зато своё право, и всякий не хочет, чтоб кто-то наступил ему на его это, хоть и маленькое… и простите, уж совсем не хотелось бы, чтоб шепелявым башмаком…
Всякий имеет в душе свой пафос (Родионово словечко) и свою возможность осуществлять, выставлять и предьявлять, и предъявить претензии, мол, «с волками жить по-волчьи выть», или «не лезь со своим уставом в чужой монастырь», или «ничто человеческое всем не чуждо!», или «бабкин боб расцвёл в дождь, будет бабке в борщ», или «мёртвый пёс зайца не поймает», или «бублик, баранку, батон и буханку пекарь из теста испёк спозаранку» и очень мне понравившаяся сентенция: «Мышка залезла под крышку, чтобы под крышкой з(а)грызть крошку…»
Так что «кости есть, – как обнаружили древние рыжие, ещё до того, как об этом сказали древние греки, – даже в самой хорошей рыбе». Такая у нас камарилья…
Луна! Оп-ля-ля! Зашла. Не дала дочитать понравившийся уже, было, репортаж. Не дочитали. Что случилось? Почему именно в этом месте должна была зайти луна? Да потому, что это не живая жизнь и не правдоподобная жизнь. Это псевдоправдоподобная.
Наконец-то я могу объясниться! Это я придумываю жизнь. А раз я, то где захочу, там и зайдёт луна, как сказано: «Мы гуляли по Неглинной, Заходили на бульвар, Нам купили синий-синий, Презелёный красный шар». А вот ещё лучше: «Кто на лавочке сидел, (а) Кто на улицу глядел»! Или про Картофельного Эльфа… кто помнит. Или – захотел, чтоб Марфинька заберемела и забеременела, захотел, чтоб не от Цинцинната, и – не от него. Так что, будем ждать. Ночь длинная.
«Интересно, – быстро подумал, пользуясь тем, что у автора зашла луна, Цинциннат, – интересно, а преподаватель разряда эФ может рассчитывать перейти там в другой, более высокий разряд, например «уФ», но, при этом, минуя промежуточные, а не как у нас, здесь?..»
– Интересно, – согласился с ним… может, его двойник, хотя вряд ли, давно его нет, куда-то исчез. Лучше сказать – они объединились, стали одним. Бывает же так.
Луна не вышла.
«Или, скажем – сообщают смертнику там… когда?.. ведь здесь не…» – продолжал думать объединённый Цинциннат.
Луна опять ещё не вышла.
Потом уже, лёжа, пока не выйдет Луна, пока Луне снова не вздумается выйти – «Вышел Месяц из-за туч…», правильнее: «Вышел Месяц из тумана, вынул ножик из кармана!» – размышлял: «Может там умеют заменять «тупое тут» на что-нибудь типа губного «утуту»?.. как в детстве… ему-то немного доставлось этих «у-ту-ту». Он был ладным… «был лёгок и ловок», как сказано, был «резов, но мил», как сказано ещё глубже, но утутукать любили больше с другими… Появилась слеза и каплей покатилась по Цинциннатовой щеке, и никто этого не увидел, потому что Луна сейчас светила на другую сторону или, как уже сказно, пока ещё не вышла. А капля остановилась в уголке рта, постояла, подумала и сорвалась, взявшись руками за голову, в пропасть: – ожидание несуществующего бытия обращается в пребывание существующее… а как же тогда «мой сонный мир, его не может не быть, ибо должен же существовать образец, если существует корявая копия»?
Бедный, плачущий, ну прямо как ребёнок в просторной для него чересчур люльке, Цинциннат Ц. Путались в головке кто ни попадя, поэты всякие, писатели, философы, издатели, целители, ценители, утешители и предсказатели… всякий предлагал своё «там», своё «тут», своё, извините, «fort/da/fort…» «Из книжек вспоминаете? – припутывался Родион. – Дело хорошее, – говорил, предлагая пауку большую жёлтую личинку на листочке газеты, – дело хорошее, только что толку? лучше бы всё-таки крестиком или в шахматы вышивать, а то, как люди, – грозил пальцем людям, – говорят: «Подняла хвост – да пошла на погост». Да вам-то… «Лёг, – как говорят, – зевнул, да ножки протянул».
«А как там примут мои… ума холодного наблюдения или ума холодные наблюдения и сердца горестного заметы или сердца горестные заметы, смешно! то, что не смог сдержать в себе, отдал на суд, надеясь – ведь всё изнутри, каждая жилока, веночка тянется, как сказал тот же Родион, просит быть услышанной. Для чего? Кем быть услышанной? Там найдутся желающие слушать? Или как здесь, будут пинать тебя и в дождь, и в борщ… («бабкин боб расцвёл в дождь, будет бабке в борщ») Там что, найдётся тот, кто тебя поймет, и будет радоваться соловьинной радостью, соловьинной твоей радости; такой же, какой радуешься ты, когда вдруг жаба превратится в журавля, журавль в жёлтого жучка, а жучок в жужелицу, а та в жизнь целую?
Жил был кузнечик. Кузнечик не в том смысле, что насекомое с мощным жевательным аппаратом, которое, кстати, интересно совокупляется (может с совокуплениями перебор, но интересно). Интересно и интересней, и технологичней, чем у пауков. Самец носит с собой, в определённый период, сперматофор – такой, в гламурно-чешуйчатой оболочке флакончик. Шейка флакона длинная, ничего нового, с такой же как у всех зарубкой на конце. Ещё, похожа на торчащий сучёк. Сам флакончик переполнен, понятное дело, мечтами о лучшем будущем для своих детей. В нужный момент самец, урвавши лавры первого скрыпача (ведь чем громче играешь, тем больше выдавливается из тебя в драгоценный флакон), начинает das Vorspiel или, как сказад бы проще русский человек, предигру (не надо нам русским никаких прописных, никаких артиклей)… Ага, да! Зашли, как всегда не туда, куда хотели… Кузнечик бьёт смычком по струнам, бьёт, бьёт, интенсивно и самозабвенно. А самки… тут уж всё им понятно. У кого больше, тот и лучше! Говорим сейчас не про размер. Может лучше тогда сказать: у кого громче у того и больше, или тот хорош кто лицом пригож, или тот хорош кто на дело гож, или ещё как-нибудь? Словом, смычком по струнам! Самки тут как тут. Последний септаккорд переполняет флакон, и любимый даёт любимой слизнуть переполнившую каплю, после чего любимая, в предощущении, открывает прелести.
У-ух, какой беззастенчивый «там-там» влетел, ворвался сейчас в обезлуненное (ни в какое сравнение не идёт с «безлолитен», но оттуда, наверняка отуда), в обезлуненное окошко. От такого «там-тама» ограны Цинцинната пришли в движение, ещё невидимое внешним глазом, но уже мощно ощущаемое внутренним. Не дослушал про кузнечика, да и какой кузнечик, если там, в Тамариных садах, если там, оттуда «там-там» выводил городской оркестр, если сирень там, оттуда источала, все знают, синильную кислоту, от которой, все знают, даже и у жуков-антипок сердце растворяется в любовном томлении; а жасмин, удушающим своим душным духом душит все нравственные императивы. Это в правдоподобном романе сирень и жасмин цветут в разное время – у нас, в разгорячённой нашей цинциннатовой головке давно смешалось время, и цветений, и оплодотворений.
«А что, там сирень цветёт слаще?..» – удивительно, что он ещё смог сформулировать вопрос, – да и вообще… – дальше уже, лучше бы, чтоб вышла Луна. Ну, хотя бы потому, что в правилах… в правилах разве не записано, с упором на «половое общение с особами», что желательно, чтоб не видел, не воображал… узник. Но может, может это уже в прошлом, может, сейчас как-то по-другому… может… сказал же Родион… может сейчас уже желательно, желательно, чтоб видел, чтобы снилось ему, чтоб ничком в матрац? «помилование», – сказал же Родион. И все они вели себя не так… не так как-то. Эммочка хотела… что-то ей было известно («отец за столом, мать на кухне…»), что-то ей было обязательно надо… она же завтра уже уезжает, и у директора что-то, всё не получалось, и адвокат с газетой… и м-сье Пьер, похожий на личинку. Помилование, Марфинька, ты пойми!
Нет, Цинциннат! Будем пытать тебя дальше. Луна не вышла! Время ещё не пришло. Бессонница, скажем, тебя (за)мучала!
Кубометры ночи, и сажени, и кубические дюймы, и, как сказал Родион в своих свидетельских показаниях (к сожалению, в собственном его, прокурорском расследовании отказали – слишком рыж был и бородат), как сказал Родион, гекатомбы и квадрильоны черноты набросились на тебя, Цинциннат. Ты уже стал прозрачнее, ты уже хотел бы остаться, хотел бы быть прощённым и помилованным? Хотел на потребу жизни предать своё сокровенное. Это безнравственно, Цинциннат! Безнравственно продавать за деньги сокровенное, а ещё безнравственней за так бросить своё потаённое на поругание и насмешки… Обманет она тебя. Обманет тебя жизнь. Как же твой сонный мир? Его же не может не быть, «…ибо должен же существовать образец, если существует корявая копия»?
– А! Не до этого сейчас! Я хочу…
«О сладостная привычка бытия! … меня всего пронизывает радостная мысль, что ныне я вполне сроднился с этой сладостной привычкой и не имею ни малейшего желания когда-либо расставаться с нею». Поэтический Кот Мурр! Гурман, любитель нежной сахарной косточки.
Сладкое молоко! Рыбное филе! которое воспитанный приветливый господин никогда не позволит себе вырвать у тебя из-под носа!
«О, природа, святая, великая природа! – скользим по прелестям Dasein у романтического автора: – Каким блаженством и восторгом переполняешь… как овевает меня… ночь свежа… таинственный шелест… необъятный свод звёздного неба»…
Поэт в бекеше вторит: «К привычкам бытия вновь чувствую любовь»…
И ещё один, со своим: “Schönes Leben! schöne, freundliche Gewohnheit des Daseins und Wirkens…
И ещё:
«Как слит с прохладою растений фимиам!
Как сладко в тишине у брега…»
И «…мёд в ароматных и тоненьких ломтиках дынных, и кровь обновляется с терпким глотком божоле…»43 – это уже unserer Zeitgenosse, – что дословно – наш товарищ по времени.
И снова врывается бекеша, внимание:
Ох, лето красное! Любил бы я тебя,
Когда б не зной, да пыль, да комары, да мухи, -
Слышите, какая модуляция вдруг? Ах, эти мне поэты: -
…я не люблю весны;
Скучна мне оттепель; вонь, грязь…
А это уже не смена тональности, это контрапункт, со всеми его последствиями:
Рабом родился человек,
Рабом в могилу ляжет,
И смерть ему едва ли скажет,
Зачем он шёл долиной чудной слёз,
Страдал, рыдал, терпел, исчез.
Вот до чего доводят, Цинциннат, штудии (как говорит автор: он «упивался»), штудии старинных книг, «под ленивый плеск мелкой волны, в плавучей библиотеке имени д-ра Синеокова».
Всплывает навеянная сладость… хочется быть акробатом, гимнастом под куполом, жокеем на скачках… пылким любовником…
Ах, эти поэты! Они-то, они навевают нам «сон золотой»… Изгнать! и поэтов, и художников. В тюрьму всех, под контроль! И всякие любовные песни запретить, под флейты и кифары…44
Разумный, высокопросвещённый, философический и поэтический кот Мурр, которого, «посреди его блистательного жизненного поприща настигла неумолимая смерть». Заметьте – «посреди блистательного жизненного поприща». Ах, черпал бы и черпал у этого неисправимого романтика. Мне здесь всё по нраву, всё в «ту степь» как сказал однажды мой приятель, известный исследователь южно-русский степей; и я бы черпал, черпал оттуда, как черпает всякая черпалка, когда есть что черпать. Но, тогда это будет его книга… хотя мне кажется, да что там кажется? я знаю – мы собрались тут – компанийка, соратники, ратники из одной рати, и пишем общую псевдоправдоподобную жизнь, за которую, конечно, отвечать придётся мне.
«Бессоница – это разглядывание собственного нутра в чёрном зеркале ночи»45, – сказала ещё одна ратница. А тётя Бижуа говорила, что если будешь слишком долго глядется в зеркало, увидишь в нём обезьяну.
Отступления сбивают с ритма. Снова надо придумывать как войти туда, куда хотелось бы. Надо уметь это, надо ловким быть, чтоб туда, куда хотелось бы.
«Пожалуй, это самый ловкий писатель во всей необъятной русской литературе, но это рыжий в цирке»46, – сказал один писатель про другого писателя, а художник сказал: – "Клоун на самом деле не я, а наше страшно циничное и бесчувственное общество, так наивно играющее в серьезность… "47
Ну ладно, рыжий так рыжий… о рыжих было уже.
Выходим, выходим или входим, как хотите.
«Посмотрите на Цинцинната! Посмотрите на Цинцинната! Посмотрите на Цинцинната!»
Даже женщины в лисьих шубках, поверх шёлковых платьев, порхая из дома в дом, указывали пальчиком: «Посмотрите, посмотрите!»
И Цинциннат поджимал коленки (обязательно острые) к подбородку и зажмуривал сильно глаза, и ему хотелось, чтоб как в детстве, когда зажмуришь глаза: «ищите меня», – а они ходят вокруг и найти не могут, и никто тебя не видит: «Где же наш Цинциннатик, цин-цин-цин, где же наш… «у-ту-ту-ту-ту»?.. – конечно, Цинциннатик, такое бывало редко, всё больше: Федотик, отик-отик, Трофимка, имка-имка, Теодор, одор-дор, Трифон, Рюрик, Савва, Самсон… и, конечно же, Далила, у-ту-ту, у-ту-ту! и Цинциннат, от обиды, ещё сильнее зажмуривался, и снова срывалась в чёрную бессонницу, в пропасть чёрной бессонницы слеза, и не было ей пристанища, и разрывалась она между сладостью существования и глазком в двери, который был устроен так, что не оставалось, как сказал автор, ни одной точки в камере, куда бы не проникало ласковое солнце публичных забот, разрывалась между «Желанием и Отвращением».
Смешно, Цинциннат! Будто тебе дано право, выбирать. Или, может, такое право есть у судьи, или прокурора, или адвоката, или у всех на свете телеграфистов, вместе с их начальниками, и всех пожарных, вместе со всеми их жёнами? «…ни одного волоса не можешь сделать белым или чёрным»! Ах, это тоже поэтический, как уже не раз сказано, экзерсис.
…долгую ночь провёл я в бессоннице томной;
Как ни ворочался я, больно усталым костям.48
Смешно, Цинциннат!
Ладно, дальше! А то, как бы такая бессонница не превратилась в целую жизнь, когда, как уже сказано, жаба в журавля, журавль в жучка, жучок в жужелицу, а там и незаконченное упражнение про совокупление кузнечика.
Луна, луна! Осветитель! заснул что ли? Давай её сюда! Не сразу. Будто тучи всё реже и реже проносятся. Поджавший к самому подбородку острые коленки Цинциннат. Луна мелькает, мелькает, скользит сквозь решётку, цепляется за шершавые стены, за обитую железом дверь, глазком сверкнула, по столу и вдруг! Вышла! Соната! «Тý-ту-ту, тý-ту-ту, тý-ту-ту… – как сказала моя знакомая поэтесса, – соль си-бемоль ми-бемоль, соль си-бемоль ми-бемоль…» Вышла! Вся! как Афродита, на известной картине, из пены.
Помилование!
Квадрильоны ночи и черноты перемешались с там-тамом, с у-ту-ту и с Афродитой, и явили таки ту, «В пустыне цветущую балку», где он бы ещё мог… заставили таки Цинцинната нарисовать ту «в тени горной скалы»… бессонница перетёрла как жерновами Цинцинната и явилась «в пустыне цветущей балкой, где немного снегу в тени горной скалы», где ещё мог бы…
Короче говоря:
«А сердце мельник меж камней
Безжалостно растёр»
По-ми-ло-ва-ни-…
Что, Циннциннат, снова не складывается слово?
Паук, недовольный, разбудили, хотя, может, и не спал тоже, засучил лапами, будто, будто протирая потревоженные глаза.
А Цинциннат встал в шепелявые туфли: «что? что-то там, в газете?..» – преступник, стараясь туфлями не шепелявить, переступая, будто аист по скошенному полю, озираясь на дверь, подошёл… прищуриваясь, пытался читать… «Каз-нить, мол, нель-зя, мол, по-ми-ло-в… по-ми-ло-ва..» Осветитель! Да! Вспыхнул свет! Включили свет! Часы! ударили перепугавшуюся половину. Застукали! Снова застукали!
Следили, Цинциннат, вот и застукали, и окружили. Если следят, рано или поздно всё равно застукают. Не отделяясь от стен, оставаясь в стенах плоскими цыкающими, пока – это было видно, ждали, когда дирижёр махнёт палочкой, когда инспектор манежа скажет «action», даст знак – шикающими тенями – переговаривались, пока – вполголоса, чтоб не мешать, будто о своём, хотя понятно было, косились, любопытствуя… адвокаты, прокуроры, председатели, все эти Маскерони, Боки, директор с Родионом, две секретарши – одна, которая как цапля (цапля чахла, цапля сохла, цапля сдохла), и та, вторая, которой были симпатичны Цинциннатовы, с туго накрученными вёрстами, икры … да что там говорить, труппа была готова к выходу, группа к прорыву, армия к наступлению, Ахилл к подвигу и, если хотите, Спаситель к распятию; подбежали опаздывающие, как всегда (часы подвели, «пробили неизвестно к чему относившуюся половыну»), но не опоздавшие шурины и остряки: «Хлебни винца, до венца» и «Сократись, Сократик», и Марфинька, как всегда, щёлкая подвязкой и поводя бёдрами, как будто что-то под низом было неладно, неловко, которая, как удивлённое дитя, не мотала головой вслед за всеми.
Свет съел Луну. Теперь всё было видно, и Цинциннату пришлось запахнуть распахнувшийся халат. Несерьёзно было уже возвращаться на кровать, да и отворачиваться, и делать вид, что нет никакого дела было уже смешно. Застукали. Теперь было некуда отворачиваться. Были со всех сторон.
Цинциннат сделал непроницаемое лицо… опять?.. и вдруг – «Барррабаны! Фанфары! Марш! Выходной марш! За пультом (сам) король маршей – Цинциннат свободной от халата левой рукой (пришлось левой – правая была занята) неуверенно послал привет… – Выходной марш! Паррад-алле! И пошли! – было написано… – Публика в восторге! – написано в газете, – Осветитель окончательно проснулся и устроил целую цветомузыку, – было написано в газете лихим репортёрским словом. – Первым, рассыпая вокруг бенгальские огни и искры, хлопая хлопушками и пуская шутихи, мол: «Дамы и господа! Не по своей воле, но по воле закона! Друзья! но, во-первых, здравствуйте! – шёл Председатель – фокусник и иллюзионист, престидижитатор и глотатель шпаг. – Начинаем! С началом! как у нас цирковых принято! Прошу (-у-у-у, – поддержал эхом цирковой радист) садиться!»

