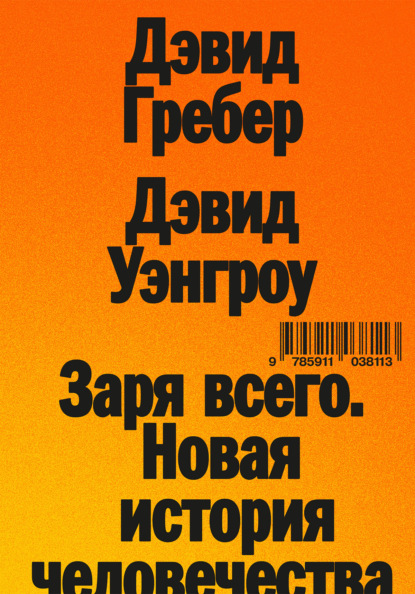
Полная версия:
Заря всего. Новая история человечества
Неужели кто-то будет всерьез утверждать, будто продвижение Лейбницем, а также его сторонниками и последователями китайской модели государственности никак не повлияло на то, что европейцы действительно переняли модель государственного управления, очень напоминающую китайскую? В случае Лейбница необычна лишь честность, с которой он указал интеллектуальные источники своих идей. В те времена церковь в большинстве европейских стран всё еще обладала значительной властью: любой, кто утверждал, что нехристианские идеи так или иначе лучше христианских, мог быть обвинен в атеизме, а это потенциально каралось смертной казнью[53].
То же самое с проблемой неравенства. Если вместо вопроса о том, «каково происхождение социального неравенства», мы зададимся вопросом о том, «каково происхождение вопроса о происхождении социального неравенства» (иначе говоря, почему в 1754 году Дижонская академия сочла этот вопрос уместным), то сразу же столкнемся с длинной историей европейцев, спорящих друг с другом о природе далеких чужеземных обществ – в особенности, в данном случае, о жителях Восточного Вудленда[54] в Северной Америке. Более того, участники этих дискуссий часто ссылались на споры между европейцами и коренными жителями Америки, посвященные сущности свободы, равенства, да и рациональности или религии откровения – собственно, большинству тем, впоследствии ставших центральными для политической мысли эпохи Просвещения.
Многие влиятельные мыслители эпохи Просвещения утверждали, что напрямую заимствовали некоторые идеи у коренных американцев. Современные историки предсказуемо отрицают эти заимствования. Считается, что коренные народы Америки существовали в совершенно другом мире или даже иной реальности; так что всё сказанное о них европейцами было лишь игрой теней, фантазиями о «благородном дикаре», взятыми из самой европейской традиции[55].
Конечно, историки, отстаивающие такую точку зрения, обычно преподносят ее как критику западного высокомерия («как вы можете утверждать, что устроившие геноцид империалисты в действительности прислушивались к представителям тех народов, которые они в тот же момент истребляли?»). Но саму эту критику также можно рассматривать в качестве специфической формы западного высокомерия. Европейские купцы, миссионеры и поселенцы, без всякого сомнения, вели дискуссии с людьми, которых они встречали в так называемом Новом Свете, и долгое время жили среди них – даже если одновременно с этим принимали участие в их истреблении. Мы также знаем, что многие европейцы, принявшие принципы свободы и равенства (принципы, которые практически отсутствовали в их странах еще за несколько поколений до этого), утверждали, что рассказы об этих встречах оказали глубокое влияние на их мышление. Отрицать любую возможность того, что они были правы, – значит в конечном счете утверждать, что коренные народы не могли оказывать реального влияния на историю. По сути, это способ инфантилизации незападных людей: практика, осуждаемая теми же самыми авторами.
В последние годы увеличивается число американских ученых, в большинстве своем – коренного происхождения, которые оспаривают эти предположения[56]. Здесь мы идем по их стопам. По сути, мы собираемся пересказать историю заново, исходя из того, что все участники диалога – и европейские колонисты, и их собеседники из числа коренного населения – были взрослыми людьми и что, по крайней мере иногда, они действительно слушали друг друга. Если мы поступим таким образом, то даже знакомые сюжеты предстанут перед нами в совершенно ином свете. На самом деле мы увидим, что не только коренные американцы, столкнувшись со странными иностранцами, постепенно выработали свою собственную, удивительно последовательную критику европейских институтов, но и то, что эта критика стала восприниматься очень серьезно и в самой Европе.
Серьезность этого восприятия трудно переоценить. Критика со стороны коренного населения стала для европейской аудитории настоящим потрясением. Она продемонстрировала возможности человеческого освобождения, которые, приоткрывшись однажды, едва ли могли быть проигнорированы впредь. Идеи, которые лежали в основе этой критики, воспринимались как столь серьезная угроза самой ткани европейского общества, что для их опровержения был создан целый теоретический корпус. Как мы вскоре увидим, история, изложенная в прошлой главе, – наш стандартный исторический метанарратив о противоречивом прогрессе человеческой цивилизации, в котором свободы теряются по мере того, как общество становится более сложным и многочисленным, – во многом была придумана для того, чтобы нейтрализовать угрозу, исходившую от индигенной критики.
Прежде всего нужно подчеркнуть, что в Средние века вопрос о «происхождении социального неравенства» не имел никакого смысла. Тогда считалось, что ранги и иерархии существовали испокон веков. Даже в Эдеме, как заметил философ XIII века Фома Аквинский, Адам явно превосходил Еву. Таких понятий, как «социальное равенство» и «неравенство», попросту не существовало. Недавно двое итальянских ученых провели исследование средневековой литературы и обнаружили, что латинские термины aequalitas или inaequalitas или их английские, французские, испанские, немецкие и итальянские аналоги вообще не использовались для описания общественных отношений до времен Колумба. Поэтому нельзя даже сказать, что средневековые мыслители отвергали понятие социального равенства: мысль о том, что оно может существовать, похоже, не приходила им в голову[57].
На самом деле термины «равенство» и «неравенство» начали входить в обиход только в начале XVII века под влиянием теории естественного права. А теория естественного права, в свою очередь, возникла преимущественно в ходе дебатов о моральных и правовых последствиях европейских открытий Нового Света.
Важно помнить, что испанские искатели приключений, такие как Кортес и Писарро, в основном совершали завоевания без разрешения вышестоящих властей; впоследствии в Европе шли напряженные дискуссии о том, можно ли оправдать такую неприкрытую агрессию против людей, которые, в конце концов, не представляли никакой угрозы для европейцев[58]. Основная проблема заключалась в следующем. Считалось, что у нехристианского населения Старого Света была возможность приобщиться к учению Христа, которое они, по-видимому, отвергли. При этом было совершенно очевидно, что жители Нового Света просто никогда и не сталкивались с христианскими идеями. Поэтому их нельзя было отнести к неверным.
Конкистадоры обычно улаживали этот вопрос, зачитывая на латыни декларацию, призывающую всех индейцев обратиться в христианство, прежде чем нападать на них. Эта уловка не произвела особого впечатления на правоведов из университетов вроде Саламанкского в Испании. Одновременно с этим попытки списать ситуацию на то, что жители Америки настолько чужды европейцам, что полностью выходят за рамки человеческого, и с ними можно обращаться буквально как с животными, также не нашли отклика. Даже у каннибалов, отмечали юристы, были правительства, общества и законы, и они могли строить аргументы в защиту справедливости своих (каннибальских) общественных порядков; поэтому они, несомненно, были людьми, наделенными Богом силой разума.
Тогда возник юридический и философский вопрос: какими правами обладают человеческие существа просто в силу того, что они люди, – то есть какие у них есть «естественные» права, даже если они существуют в естественном состоянии, не подвержены влиянию философии, религии и систематизированного законодательства? Нет необходимости останавливаться на точных формулах, к которым пришли теоретики естественного права (достаточно сказать, что они допускали наличие у американцев естественных прав, но в итоге всё равно оправдывали их завоевание при условии, что последующее обращение с ними не было слишком жестоким или деспотичным). Важно другое – они приоткрыли концептуальную дверь. Теперь такие авторы, как Томас Гоббс, Гуго Гроций и Джон Локк, могли пропустить библейские повествования, от которых все обычно отталкивались, и начать с вопроса: «Какими могли быть люди в природном состоянии, когда всё, что у них было, – это их человечность?»
Все перечисленные авторы «наделили» естественным состоянием самые простые, по их мнению, из известных им обществ Западного полушария. Таким образом они пришли к выводу, что первоначальное состояние человечества было состоянием свободы и равенства. Другой вопрос – хорошо это или плохо (Гоббс, например, определенно считал, что плохо). Здесь важно остановиться и разобраться, почему они пришли к такому выводу, ведь его нельзя считать очевидным или неизбежным.
Прежде всего само решение теоретиков естественного права XVII века рассматривать в качестве образцовых представителей первобытных времен простые на первый взгляд общества – например, алгонкинов Восточного Вудленда в Северной Америке или карибов и амазонские племена, а не городские цивилизации вроде ацтеков или инков, – нам может показаться очевидным, но для того времени оно таковым не являлось.
Более ранние авторы, столкнувшись с популяцией лесных жителей, не имевших короля и использовавших только каменные орудия труда, вряд ли сочли бы их сколь-нибудь первобытными. Ученые XVI века, такие как испанский миссионер Хосе де Акоста, скорее всего, пришли бы к выводу, что перед ними – остатки какой-то древней цивилизации или беженцы, которые за время своих скитаний забыли искусство металлургии и государственного управления. Такой вывод был бы очевидным для людей, которые полагали, что все действительно важные знания были раскрыты Богом в начале времен, а города существовали до Великого потопа, и которые рассматривали собственную интеллектуальную жизнь в основном как попытку восстановить утраченную мудрость древних греков и римлян.
В Европе XVI–XVII веков, в эпоху Ренессанса, история не предполагала прогресса. В основном она рассматривалась как серия катастроф. Использование концепции естественного состояния не означало отказа от такого взгляда на историю – по крайней мере, не сразу, – но оно позволило политическим философам, писавшим после XVII века, изобразить людей, не имеющих внешних атрибутов цивилизации, не как деградировавших дикарей, а как представителей человечества «в сыром виде». Это в свою очередь позволило им поставить целый ряд новых вопросов о том, что значит быть человеком. Какие формы социальной организации были бы свойственны даже людям, не имеющим узнаваемых форм государства и права? Существовал бы у них брак? Какие формы он мог бы принимать? Присуще ли людям в естественном состоянии стремление к общению, или же они избегают друг друга? Существует ли естественная религия?
Но вопрос остается открытым: почему к XVIII веку европейские интеллектуалы настолько прониклись идеей изначальной свободы или, тем более, равенства, что вопрос «Каково происхождение неравенства между людьми?» казался совершенно естественным. Это особенно странно, если учесть, что до этого времени большинство даже не считало социальное равенство возможным.
Прежде всего, необходимо сделать оговорку. Определенный народный эгалитаризм существовал уже в Средние века, выходя на первый план во время популярных праздников – карнавала, Майского дня[59] или Рождества, когда бо́льшая часть общества наслаждалась идеей «перевернутого мира», где все власти и авторитеты были низвергнуты или осмеяны. Часто такие празднования представлялись как возвращение к некой первобытной «эпохе равенства» – веку Кроноса или Сатурна или возвращение в страну Кокань[60]. Иногда на эти идеалы ссылались и во время народных восстаний.
Правда, неясно, до какой степени такие эгалитарные идеалы являются лишь побочным эффектом иерархических общественных отношений, существовавших в обычное время. Например, наше представление о том, что все равны перед законом, изначально восходит к идее о том, что все равны перед королем или императором: ведь если один человек наделен абсолютной властью, то, очевидно, остальные люди равны по сравнению с ним. Раннее христианство также настаивало на том, что все верующие были (в каком-то конечном смысле) равны перед Богом, которого они называли «Господом». Как показывают эти примеры, власть, перед которой простые смертные фактически равны, необязательно должна принадлежать реальному человеку из плоти и крови; один из смыслов «короля карнавала» или «королевы мая» – они существуют для того, чтобы быть свергнутыми[61].
Европейцы, воспитанные на классической, античной литературе, также были знакомы с рассуждениями о давних, счастливых, эгалитарных порядках, которые появляются в греко-римских источниках; а представления о равенстве, по крайней мере среди христианских народов, можно было найти в концепции res publica или понятии «содружества» (commonwealth), которые опять же обращаются к античным истокам. Всё это говорит лишь о том, что состояние равенства не было совершенно немыслимым для европейских интеллектуалов до XVIII века. Однако это не объясняет, почему почти все они предположили, что человеческие существа, не затронутые цивилизацией, когда-либо существовали в таком состоянии. Действительно, в классической литературе можно было найти подобные идеи – но точно так же в ней можно было найти и идеи противоположные[62]. Чтобы ответить на данный вопрос, нам необходимо вернуться к аргументам, которые использовались для доказательства того, что жители обеих Америк вообще являются такими же людьми, как и европейцы, а именно к заявлениям о том, что, какими бы экзотичными или даже извращенными ни казались их обычаи, коренные американцы были способны выдвигать логические аргументы в свою защиту.
Мы утверждаем, что американские интеллектуалы – мы используем термин «американский», как он использовался в то время, для обозначения коренных жителей Западного полушария; а термин «интеллектуал» – для обозначения любого человека, склонного рассуждать об абстрактных идеях, – действительно сыграли свою роль в этой концептуальной революции. Очень странно, что это считается такой уж радикальной идеей, однако среди современных интеллектуальных историков это почти ересь.
Это особенно странно потому, что никто не отрицает, что многие европейские исследователи, миссионеры, торговцы, поселенцы и другие люди, поселившиеся на американских берегах, потратили годы на изучение аборигенных языков и совершенствование своих навыков в разговоре с их носителями; точно так же как коренные американцы потратили усилия на изучение испанского, английского, голландского или французского. Мы думаем, что любой человек, когда-либо по-настоящему учивший чужой язык, не станет отрицать: чтобы уловить смысл незнакомых понятий, требуется значительная работа воображения. Мы также знаем, что миссионеры обычно вели долгие философские дебаты в рамках своих профессиональных обязанностей; в других случаях представители обеих сторон спорили друг с другом либо из простого любопытства, либо потому, что им нужно было понять противоположную точку зрения из практических соображений. Наконец, никто не станет отрицать, что литература о путешествиях и письма миссионеров, часто содержавшие краткое изложение или даже выдержки из этих обменов мнениями, были популярными литературными жанрами, за которыми жадно следили образованные европейцы. В любом доме представителей среднего класса в Амстердаме или Гренобле XVIII века на полках, скорее всего, стоял как минимум экземпляр «Реляций иезуитов Новой Франции» (как тогда называли французские колонии в Северной Америке), а также один или два рассказа, написанные путешественниками в далекие страны. Такие книги ценили преимущественно за содержащиеся в них удивительные и неслыханные соображения[63].
Историкам всё это известно. Но подавляющее большинство из них по-прежнему считают, что даже когда европейские авторы прямо говорят, что заимствуют идеи, концепции и аргументы у индигенных мыслителей, не стоит воспринимать эти заявления всерьез. Всё это понимается как недоразумение, выдумка или, в лучшем случае, наивная проекция уже существовавших европейских идей. Когда американские интеллектуалы появляются в описаниях европейцев, предполагается, что они просто воплощают в себе некий западный архетип «благородного дикаря» или же служат «куклой, сделанной из носка», чтобы предоставить правдоподобное алиби автору, который в противном случае может попасть в неприятности за изложение подрывных идей (например, деизма, рационального материализма или нетрадиционных взглядов на брак)[64].
Если текст европейского автора приписывает «дикарю» аргументацию, отдаленно напоминающую взгляды Цицерона или Эразма Роттердамского, то мы автоматически должны решить, что «дикарь» не мог этого сказать – или даже что разговор, о котором идет речь, вообще не имел места[65]. Помимо всего прочего, такой образ мысли очень удобен для исследователей западной литературы, воспитанных на Цицероне и Эразме, которые в противном случае были бы вынуждены попробовать узнать что-то о том, что коренные народы думали о мире, и прежде всего о том, что они думали о европейцах.
Мы собираемся пойти в противоположном направлении.
Мы рассмотрим ранние свидетельства миссионеров и путешественников из Новой Франции – особенно из района Великих озер, – поскольку именно с этими свидетельствами был лучше всего знаком сам Руссо. Это позволит нам понять, что действительно думали о французском обществе коренные американцы и как в результате они изменили собственные представления о своих обществах. Мы утверждаем, что коренные американцы действительно выработали весьма сильный критический подход к институтам своих захватчиков: подход, который изначально фокусировался на отсутствии свободы в этих институтах, и лишь позднее, по мере того как они всё больше знакомились с устройством европейского общества, на проблеме равенства.
Одна из причин, по которой миссионерская литература и литература о путешествиях стали столь популярны в Европе, заключалась именно в том, что она знакомила читателей с такого рода критикой, а также давала им новое представление о возможном – знание о том, что знакомая читателям организация общества не является единственной, ведь в этих книгах речь шла о реально существующих обществах, устроенных иначе. Мы утверждаем, что многие крупные мыслители Просвещения совсем не случайно настаивали на том, что их идеалы индивидуальной свободы и политического равенства были вдохновлены американскими источниками и примерами. Так оно и было на самом деле.
Раздел, в котором мы выясним, как жители Новой Франции воспринимали европейских завоевателей, особенно в том, что касается щедрости, общительности, материального богатства, преступлений, наказаний и свободы«Век разума» был веком полемики. Просвещение вырастало из разговоров; в основном они проходили в кафе и салонах. Многие классические тексты эпохи Просвещения были написаны в форме диалогов; в большинстве из них культивировался легкий, прозрачный, разговорный стиль, явно вдохновленный атмосферой салона. (Это немцы в те времена были склонны писать в том туманном стиле, которым впоследствии прославились французские интеллектуалы.) Обращение к «разуму» было прежде всего стилем аргументации. Идеалы Французской революции – свобода, равенство и братство – обрели свою форму именно в ходе длинной серии дебатов и бесед. Мы же лишь предполагаем, что эти беседы простирались дальше, чем думают историки, изучающие Просвещение.
Начнем с вопроса: как жители Новой Франции восприняли европейцев, которые начали прибывать в их края в XVI веке?
В те времена регион, который впоследствии стал известен как Новая Франция, преимущественно населяли люди, говорившие на языке монтанье-наскапи, а также на алгонкинских и ирокезских языках. Те, кто жил ближе к побережью, занимались рыболовством, лесоводством и охотой, хотя большинство из них также занимались садоводством; вендат (гуроны)[66] сосредоточились в долинах крупных рек дальше вглубь страны, выращивая маис, сквош и бобы в окрестностях укрепленных городов. Интересно, что ранние французские наблюдатели не придавали большого значения таким экономическим различиям, тем более что собирательство или земледелие в любом случае было преимущественно женской работой. Мужчины, отмечали они, были заняты в основном охотой и время от времени воевали, а значит, в определенном смысле их можно было считать природными аристократами. Идея о «благородном дикаре» восходит к таким наблюдениям. Изначально речь шла не о благородстве как черте характера, а лишь о том, что мужчины-индейцы занимались охотой и войнами. По европейским представлениям это было в основном уделом дворянства.
Но если французы весьма неоднозначно оценивали характер «дикарей», то местные жители составили довольно четкое представление о характере французов. Так, например, отец Пьер Биар, бывший профессор богословия, в 1608 году был направлен обратить в христианство микмаков, которые говорили на алгонкинском языке и обитали в Новой Шотландии – некоторое время они проживали неподалеку от французского форта. Биар придерживался невысокого мнения о микмаках, и, по его сообщениям, они отвечали взаимностью: «Они считают себя лучше французов: „Ибо, – говорят они, – вы всегда враждуете и бранитесь между собой, мы же живем мирно. Вы завистливы и всё время клевещете друг на друга; вы воры и обманщики; вы жадные, не щедрые и не добрые; что касается нас, то, если у нас есть кусок хлеба, мы делимся им с соседом“. Они постоянно говорят подобные вещи»[67]. Вероятно, больше всего Биара раздражало то, что микмаки постоянно утверждали, будто вследствие этого они «богаче» французов. Французы обладали бо́льшими материальными благами, признавали микмаки; но у них самих были другие, более значительные богатства: непринужденность, чувство комфорта и свободное время.
Двадцать лет спустя брат Габриэль Сагар, августинец-реколлект[68], оставил похожий рассказ о народе вендат. Поначалу Сагар весьма критически относился к образу жизни вендат, который он описывал как порочный по своей природе (он был одержим идеей, что женщины вендат пытались его соблазнить), но к концу своего пребывания среди них Сагар пришел к выводу, что социальное устройство вендат во многом превосходило французское. В этом отрывке он явно вторит мнению самих вендат: «У них нет никаких судов, и им не требуется много усилий для приобретения жизненных благ, ради которых мы, христиане, так истязаем себя. Закономерно, что мы, добивающиеся этих благ с чрезмерной и ненасытной алчностью, воспринимаем их тихую жизнь и спокойный нрав в упрек себе»[69]. Так же как и микмаки из рассказа Биара, вендат были особенно возмущены тем, что французы не щедры друг к другу. «Они проявляют взаимное гостеприимство и оказывают друг другу такую помощь, что все потребности обеспечиваются и в их городах и деревнях нет попрошаек; они посчитали ужасным, что во Франции, как они слышали, попрошаек так много. Они сказали, что это потому, что нам не хватает милосердия, и сильно винили нас за это»[70].
Столь же язвительно вендат отзывались о привычной для французов манере беседовать. Сагар был удивлен и впечатлен красноречием принимавших его хозяев и их умением вести аргументированную дискуссию, навыками, которые оттачивались в ходе почти ежедневных публичных обсуждений общественных вопросов. Принимавшие его хозяева, наблюдая собрания французов, напротив, часто отмечали, что те постоянно спорят и перебивают друг друга, приводят неубедительные аргументы и в целом (как минимум, таким казался общий подтекст их высказываний) не выглядят особо умными людьми. Европейцы, которые пытались переключить внимание на себя, не давая другим возможность изложить свои аргументы, действовали примерно так же, как те, кто захватывал материальные средства существования и отказывался ими делиться; сложно избавиться от впечатления, что американцы воспринимали французов как людей, пребывающих в своего рода гоббсианском состоянии «войны всех против всех». (Вероятно, стоит отметить, что, особенно в этот ранний период контактов, американцы, скорее всего, были знакомы с европейцами в основном в лице миссионеров, звероловов, торговцев и солдат – то есть групп, почти полностью состоявших из мужчин. Первоначально в колониях было очень мало французских женщин и еще меньше детей. Поэтому, вероятно, конкуренция и отсутствие взаимной заботы в среде европейцев выглядели еще более радикальными.)
Рассказ Сагара о его пребывании среди вендат стал влиятельным бестселлером во Франции и всей Европе: и Локк, и Вольтер ссылались на «Большое путешествие по стране гуронов» как на основной источник собственных описаний американских обществ. Более масштабные «Реляции иезуитов», над которыми работало сразу несколько авторов, публиковались с 1633 по 1673 год. Эти книги, которые также активно читали и обсуждали в Европе, содержали многочисленные высказывания вендат, возмущенных нравами французов. В этом издании отчетов о миссионерской деятельности объёмом в семьдесят один том больше всего поражает, что ни американцам, ни их французским собеседникам, похоже, нечего было сказать о «равенстве» как таковом – например, слова égal или égalité почти не встречаются, а в тех редких случаях, когда они употребляются, это почти всегда касается «равенства полов» (нечто особенно возмущавшее иезуитов).

