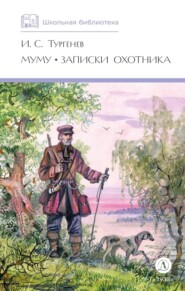
Полная версия:
Муму. Записки охотника

Иван Сергеевич Тургенев
Муму. Записки охотника
© Сахаров В. И., вступительная статья, комментарии, наследники, 2000
© Поляков Д. В., иллюстрации, 2024
© Оформление серии. АО «Издательство «Детская литература», 2024
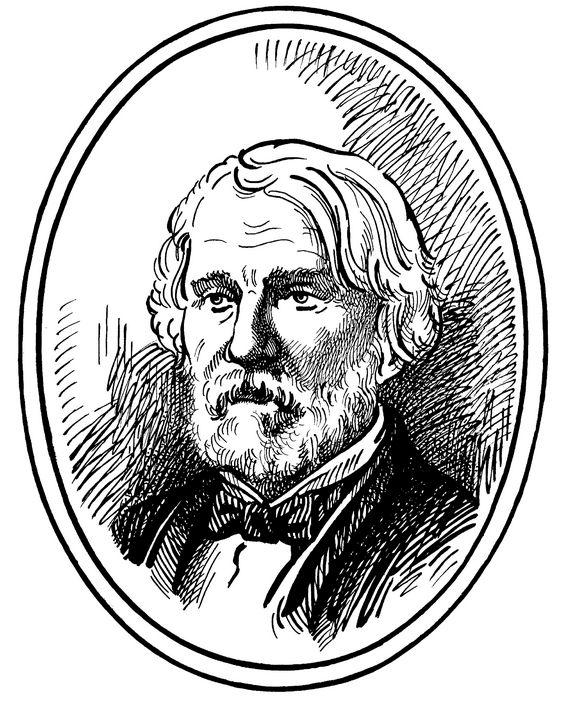
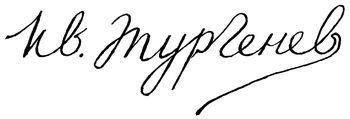
1818–1883
Народ: поэзия и правда
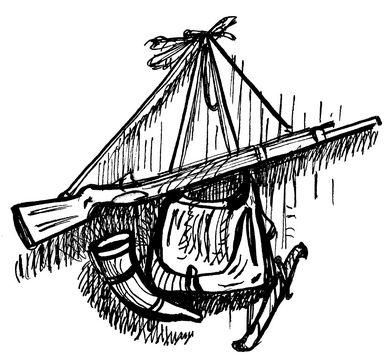
Весну 1846 года молодой Иван Тургенев провел в орловском имении Спасское-Лутовиново и посетил своих соседок, сестер Александру и Наталью Беер. Девушки запомнили его восторженное отношение к «громадному таланту» поэта Н. А. Некрасова: «Когда он читал стихотворение Некрасова „Родина“, от которого душа рвется и болит, дух замирает – у него только голос прерывался». Близ родного дворянского гнезда Тургенев взволнованно декламировал всем ныне известные строки своего друга и издателя журнала «Современник»:
И вот они опять, знакомые места,Где жизнь отцов моих, бесплодна и пуста,Текла среди пиров, бессмысленного чванства,Разврата грязного и мелкого тиранства;Где рой подавленных и трепетных рабовЗавидовал житью последних барских псов,Где было суждено мне божий свет увидеть,Где научился я терпеть и ненавидеть…Молодой дворянин с детства знал все эти жестокие капризы, самодурство и простодушное тиранство «барства дикого» (Пушкин), видел, как его властная и своевольная мать угнетает и унижает крепостных крестьян, дворовых и собственных детей. Чувства и мысли гневного некрасовского стихотворения Тургеневу были понятны и потому так волновали его. Но молодой богатый дворянин, учившийся в Петербургском и Берлинском университетах, долго живший в Италии и путешествовавший по Западной Европе, обладал мягкой, лирической натурой, чуждался туманящих разум ненависти, злобы и мести, обличений общественных пороков и разрыва со своей средой и ее высокой культурой.
Он заговорил о барстве, угнетении и унижении, крепостном праве, роковом расколе русского общества на господ и рабов совсем другим языком. Не озлобленный мститель и обиженный ненавистник своего класса, а впечатлительный поэт природы и народной жизни, неравнодушный знаток и заступник угнетенного и униженного человека (причем это касалось не только крепостных, но и разночинцев и дворян), деревенский житель с детских лет, увлеченный охотник и путешественник по родной земле, хранитель семейных преданий и народных легенд и поверий, российский просвещенный дворянин и заботливый помещик – таков автор книги совершенно оригинальной и для русской литературы той поры неожиданной именно по причине своего мягкого, меланхоличного гуманизма и тончайшей поэтичности – «Записок охотника».
С 1847 года в журнале Некрасова «Современник» начинают появляться тургеневские рассказы, эту книгу составляющие. Сам автор называл ее «мои очерки о русском народе, самом странном и самом удивительном народе, какой только есть на свете». Сказано это любящим, достойным сыном своего народа. Иван Сергеевич Тургенев (1818–1883) прожил долгую и сложную жизнь в литературе, стал автором знаменитых романов, европейски известным писателем, из орловской деревни переселился в Париж, где и скончался. Но «Записки охотника» сразу определили его судьбу. Эту удивительную, нестареющую книгу он обдумывал десять лет, писал всю жизнь, в ней содержатся темы его зрелых сочинений. Недаром чуткий критик и прозаик Александр Дружинин в 1857 году писал о Тургеневе: «…Наш автор только в „Записках охотника“ достигнул высшей степени своего развития и остановился на ней и остается на ней долгое уже время». И появившиеся впоследствии тургеневские социальные романы не смогли заслонить высокую поэзию и щемящую художественную правду «Записок охотника». У книги была великая, отчетливо видимая автором цель. Она своей цели достигла, перешла в реальную жизнь, стала ее частью, стала на эту жизнь влиять, меняя ее, меняя нас.
Очевидно огромное социальное, общественное значение «Записок охотника», важная роль этой правдивой и смелой книги. Она всем, и в том числе императору, открыла вдруг глаза на невозможность и безнравственность дальнейшего сохранения крепостнического деспотизма в России. Автор показал, кого и как у нас каждый день угнетают, и все увидели живых, реальных людей, своих братьев в человечестве, возникло острое, мучительное чувство жалости и вины. Тургенев навсегда запомнил неожиданную встречу на маленькой железнодорожной станции: «Вдруг подходят ко мне двое молодых людей; по костюму и по манерам вроде мещан ли, мастеровых ли. „Позвольте узнать, – спрашивает один из них, – вы будете Иван Сергеевич Тургенев?“ – „Я“. – „Тот самый, что написал „Записки охотника“?» – „Тот самый…“ Они оба сняли шапки и поклонились мне в пояс: „Кланяемся вам… в знак уважения и благодарности от лица русского народа“».
Стоит задуматься, за что же мы вот уже около 180 лет благодарим автора «Записок охотника». Великий русский поэт Фёдор Тютчев в ноябре 1849 года выслушал на вечере у князя В. Ф. Одоевского чтение актером М. С. Щепкиным тургеневского «Нахлебника» и заметил: «Это произведение отличается захватывающей и совершенно трагической правдой». То же можно сказать о рассказах «Записок охотника». Однако сам автор помнил, что он прежде всего поэт-художник, пусть и с безошибочным социальным чутьем, и говорил: «Правда – воздух, без которого дышать нельзя; но художество – растение, иногда даже довольно причудливое, – которое зреет и развивается в этом воздухе».
Его «художество», его творчество глубоко правдиво и вместе с тем является подлинной поэзией, живущей по собственным законам и не подчиняющейся требованиям минуты, нуждам той или иной политической партии или класса. Русский читатель понял и с благодарностью принял эту художественную правду, хотя и увидел всю требовательность любви автора к своим героям. Не то было с так называемой «общественностью» (это о ней Тургенев сказал позднее: «Общество наше, легкое, немногочисленное, оторванное от почвы, закружилось, как перо, как пена»), с русской интеллигенцией, которая усматривала в «Записках охотника» то чисто социальный протест, то чистую поэзию, то славянофильскую проповедь консервативных воззрений. Все это можно при желании найти в очерках Тургенева, но книга его – произведение целостное и написана совсем о другом. Сам автор это знал и ответил своим критикам в письме 1857 года к Льву Толстому: «Системами дорожат только те, которым вся правда в руки не дается, которые хотят ее за хвост поймать; система – точно хвост правды – но правда как ящерица; оставит хвост в руке – а сама убежит: она знает, что у ней в скором времени другой вырастет». Вся реальная правда «Записок охотника» для многих осталась закрытой и неподъемной. Между тем поэзия тургеневской лирической прозы не должна заслонять главной темы и художественной глубины этой уникальной книги о народной жизни.
Да, автор «Записок охотника» – поэт в прозе, тонкий, мечтательный лирик романтической школы Жуковского, певец русской природы. Но при появлении в журнале «Современник» некоторых его очерков критике и читателям сразу вспомнилось совсем другое имя – Гоголь, автор «Мертвых душ», поэмы в прозе. Конечно, это очень разные люди и художники. И все же… Гоголь ведь тоже был замечательным лириком в своей прозе, и особенно в знаменитых авторских отступлениях «Мертвых душ». Тургенев писал свои «охотничьи» очерки о русском народе в основном во Франции, книга Гоголя о путешествии Чичикова по России создана в Италии. Родина лучше видится на расстоянии, из «прекрасного далёка»…
И композиция обоих произведений одинакова: очерки и типы русских людей скреплены воедино образом путешествующего по родной земле рассказчика, только у Тургенева это не одержимый бесцельной деятельностью пройдоха Чичиков (в этом похожий на гончаровского Штольца из «Обломова»), а орловский помещик на охоте, пространство сужено до границ этой черноземной губернии и в основном включает знакомые места писателя, а авторское «я» выражено с замечательной лирической смелостью, что и делает тургеневскую прозу столь поэтичной. Но это очевидное сходство говорит и о понятном родстве главной идеи Гоголя и Тургенева, о том, что их цель, «сверхзадача» – дать новый образ России и ее народа, расколотого, угнетенного сверху донизу, не поступившись при этом реализмом и художественностью и соединив лирику с острой социальной сатирой.
«Записки охотника» – это книга о народе, его социологическое описание в характерных типах и жизненных ситуациях. И вся ее поэзия связана с русским крестьянством, представленным здесь в личностях очень разных, но одинаково самобытных и привлекательных. Каждое лицо здесь появляется продуманно и для читателя становится новым открытием, ведущим его к вполне определенным выводам и обобщениям.
Книгу открывает знаменитый рассказ «Хорь и Калиныч». Чем же он всех читателей потряс при первом своем появлении в журнале? Это портреты двух друзей: эпически спокойного, уверенного в себе, крепкого хозяина и хитрого торговца, главы большой семьи Хоря и веселого, кроткого мечтателя Калиныча. Это очень разные живые люди, умеющие мыслить и чувствовать. Сама дружба их трогательна, вплоть до букетика цветов, подаренных Калинычем Хорю. Потрясло всех тогда то, что крепостные в изображении Тургенева – такие же люди, как все. Особенно удивило то, что писатель сравнил Хоря с великим эпическим поэтом Гёте, а Калиныча – с другим великим немецким поэтом, но лириком, Шиллером. Поэтом и философом изображен и божий странник Касьян с Красивой Мечи, знающий народные предания и легенды, вспоминающий о вещей птице Гамаюн, умеющий лечить травами и тонко чувствующий поэзию природы и ценность неповторимой жизни любого живого существа.
Именно жизнь простого крепостного люда проникнута подлинной поэзией, будь то мечтательно-лирическая натура обо всех болеющего душой деревенского чудака и святого (таких людей в народе называли юродивыми) Касьяна с Красивой Мечи или, из древнерусского жития вышедшая, олицетворяющая народное спокойное долготерпение грешная и святая Лукерья из «Живых мощей». Поэзия есть и в само́й смерти человека из народа, умирающего просто и достойно. В «Певцах» проникновенно говорится о Якове-Турке и его замечательном даре песнопения: «Русская, правдивая, горячая душа звучала и дышала в нем и так и хватала вас за сердце, хватала прямо за его русские струны». О дворянах и чиновниках, населяющих «Записки охотника», этого не скажешь, хотя и не всех их автор обличает и разоблачает. «Бежин луг» – гениальное стихотворение в прозе о мечтающих о тайнах жизни крестьянских мальчиках, а о дворянах и их жизни таких поэтических страниц написать нельзя. Крестьяне же живут и умирают в единстве с великой прекрасной природой, которая делает русскую песню бескрайней и вольной, как степь и небо.
Однако еще Пушкин заметил, что русские песни часто полны неизъяснимой грусти, а друг Тургенева Некрасов назвал народное пение стоном. В «Записках охотника» звучит унылая песня. Народ порой не может остаться на высоте поэзии и правды, на вершинных нотах и захватывающем восторге своей песни. «Певцы» завершаются сценой тяжелого пьянства, где люди тут же забыли красоту и поэзию, ожившую в выразительном голосе Якова-Турка. Кабак становится русским клубом, местом встречи и душевного отдыха заблудших и изверившихся «заброшенных людей», здесь царят тяжелое недоброжелательство, ложь, зависть, злоба, предательство, драка, воровство.
Долготерпение народное нередко переходит в пассивность, бездеятельность, чревато страшным повседневным развалом. Всей русской «общественности» с ее либеральными иллюзиями и дежурными фразами о демократии и правах человека Тургенев ответил в откровенном письме к старому другу Герцену: «Изо всех европейских народов именно русский менее всех других нуждается в свободе». Но ответ этот уже содержится в художественной мысли его книги о народе, где до Гончарова показана русская обломовщина во всех классах и сословиях.
И эти провидческие мысли «Записок охотника» обобщены потом в трагическом рассказе «Муму», где бессловесность и покорность могучего, талантливого и красивого народа вполне сто́ит мелочной и простодушной деспотии старой гадкой барыни. Жалко всех: собачку, Герасима, барыню. Этим пронзительным чувством жалости к заблудшему, несчастному человеку пронизаны «Записки охотника». И не стоит во всем винить крепостное право: люди сами виноваты в своем нравственном падении. Поэты природы и охоты оказываются пьяницами, ворами и бездельниками, спокойно сидящими на шее работящих, сердобольных русских баб вроде той же мельничихи. Потеряно чувство стыда. Крепостное рабство развратило народ, страх и ложь разъели его могучую душу. Его угнетатели выходят из его же среды (см. рассказы «Бурмистр» и «Контора»).
Рассказ «Стучит!» – это повесть о преступлении, на которое так легко шли крестьяне. Здесь уже намечены темы прозы Достоевского. А в так и не дописанном рассказе «Землеед» Тургенев повествует и о русском бунте: крестьяне убили жестокого помещика, заставив его съесть семь фунтов черной земли, которую он у них незаконно отнял. Поэма о народе и русской природе переходит в скорбь и гнев зрячей сатиры, писатель и об этих людях умеет сказать реальную правду. Ведь говорил же он славянофилу Константину Аксакову (сатирически изображенному, кстати, в рассказе «Однодворец Овсянников») по поводу «Записок охотника»: «Я вижу трагическую судьбу племени, великую общественную драму там, где Вы находите успокоение и прибежище эпоса».
Столь же страшный развал, упадок, ограниченность, духовное и материальное оскудение видны в изображениях дворян и чиновников. Да, в таких фигурах, каковы помещики Пеночкин, Стегунов и Зверков, крепостники показаны жестокими ничтожествами. Но и другие дворяне не лучше. Их портреты писаны сатирическим пером, и здесь, особенно в незавершенном рассказе «Русский немец и реформатор», Тургенев продолжает «Мёртвые души» Гоголя и предвосхищает разоблачительную прозу М. Е. Салтыкова-Щедрина, его «Историю одного города».
Но на этом писатель не останавливается: не случайно органичной частью «Записок охотника» является рассказ «Гамлет Щигровского уезда», язвительная и правдивая сатира на нарождающуюся русскую интеллигенцию, достойное введение к роману «Рудин». Рассказ «Конец Чертопханова» написан много позднее, и это уже прозорливое предсказание трагической судьбы русского дворянства, с прискорбным простодушием пробавлявшегося балами, псовой охотой, лошадьми да цыганами и в решающий момент истории не сумевшего защитить себя, своих детей и великолепные дворцы и имения, богатейшую, могучую империю, великую культуру. И для исторического контраста и сравнения в очерках Тургенева повествуется о роскошной жизни старого барства екатерининских времен («Малиновая вода»), о таких могучих, цельных личностях, как граф Алексей Григорьевич Орлов-Чесменский («Однодворец Овсянников»). Все ушло, измельчали и обнищали дворяне, и само их крепостничество и самодурство – мелочное, неумное, угнетающее придирчивой, недалекой жестокостью, и недаром Хорь и бурмистр смеются над своими неумными, разоряющимися помещиками. Вдруг становится ясно, что все это долго не продлится, и такая пророческая мысль особенно потрясла дворян, прочитавших правдивую книгу об их крепостных рабах.
Да, «Записки охотника» Тургенева – произведение непростое, его надобно уметь читать правильно и без купюр, все насквозь, пользуясь реальным комментарием и безотказным словарем В. Даля. Здесь нет ничего лишнего или неудачного, все служит авторскому замыслу, главной цели. И нужно знать русскую историю, язык и предания, высокохудожественной страницей которых это многосложное сочинение является. Но все сказанное вовсе не отменяет того очевидного обстоятельства, что тургеневская книга полна поэзии и правды русской природы и народной жизни. Все здесь объемно, зримо, полно красками, звуками, запахами. Французский писатель Альфонс Доде оценил богатство лирической прозы своего русского друга: «У большинства писателей есть только глаз, и он ограничивается тем, что живописует. Тургенев наделен и обонянием и слухом. Двери между его чувствами открыты. Он воспринимает деревенские запахи, глубину неба, журчание вод и без предвзятости сторонника того или иного литературного направления отдается многообразной музыке своих ощущений».
Автор этого великого произведения о русском народе лучше нас понимал ее социальный смысл и звучание, ее историческое значение: «Бывают эпохи, где литература не может быть только художеством – а есть интересы высшие поэтических интересов». И все же его «Записки охотника» и поныне остаются одной из самых светлых, поэтичных, художественных книг русской литературы. И произошло это потому, что героем книги стал не только русский народ, но и русский язык, о котором автор «Записок охотника» сказал пророчески:
«Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины – ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык! Не будь тебя – как не впасть в отчаяние при виде всего, что совершается дома? Но нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому народу!»
Всеволод Сахаров, доктор филологических наукМуму

В одной из отдаленных улиц Москвы, в сером доме с белыми колоннами, антресолью*[1] и покривившимся балконом жила некогда барыня, вдова, окруженная многочисленной дворней. Сыновья ее служили в Петербурге, дочери вышли замуж; она выезжала редко и уединенно доживала последние годы своей скупой и скучающей старости. День ее, нерадостный и ненастный, давно прошел; но и вечер ее был чернее ночи.
Из числа всей ее челяди самым замечательным лицом был дворник Герасим, мужчина двенадцати вершков[2] роста, сложенный богатырем и глухонемой от рождения. Барыня взяла его из деревни, где он жил один, в небольшой избушке, отдельно от братьев, и считался едва ли не самым исправным тягловым[3] мужиком. Одаренный необычайной силой, он работал за четверых – дело спорилось в его руках, и весело было смотреть на него, когда он либо пахал и, налегая огромными ладонями на соху, казалось, один, без помощи лошаденки, взрезывал упругую грудь земли, либо о Петров день так сокрушительно действовал косой, что хоть бы молодой березовый лесок смахивать с корней долой, либо проворно и безостановочно молотил трехаршинным[4] цепом, и, как рычаг, опускались и поднимались продолговатые и твердые мышцы его плечей. Постоянное безмолвие придавало торжественную важность его неистомной работе. Славный он был мужик, и не будь его несчастье, всякая девка охотно пошла бы за него замуж… Но вот Герасима привезли в Москву, купили ему сапоги, сшили кафтан на лето, на зиму тулуп, дали ему в руки метлу и лопату и определили его дворником.
Крепко не полюбилось ему сначала его новое житье. С детства привык он к полевым работам, к деревенскому быту. Отчужденный несчастьем своим от сообщества людей, он вырос немой и могучий, как дерево растет на плодородной земле… Переселенный в город, он не понимал, что с ним такое деется, – скучал и недоумевал, как недоумевает молодой здоровый бык, которого только что взяли с нивы, где сочная трава росла ему по брюхо, взяли, поставили на вагон железной дороги, – и вот, обдавая его тучное тело то дымом с искрами, то волнистым паром, мчат его теперь, мчат со стуком и визгом, а куда мчат – бог весть! Занятия Герасима по новой его должности казались ему шуткой после тяжких крестьянских работ; в полчаса все у него было готово, и он опять то останавливался посреди двора и глядел разинув рот на всех проходящих, как бы желая добиться от них разрешения загадочного своего положения, то вдруг уходил куда-нибудь в уголок и, далеко швырнув метлу и лопату, бросался на землю лицом и целые часы лежал на груди неподвижно, как пойманный зверь. Но ко всему привыкает человек, и Герасим привык наконец к городскому житью. Дела у него было немного: вся обязанность его состояла в том, чтобы двор содержать в чистоте, два раза в день привезти бочку с водой, натаскать и наколоть дров для кухни и дома да чужих не пускать и по ночам караулить. И надо сказать, усердно исполнял он свою обязанность: на дворе у него никогда ни щепок не валялось, ни сору; застрянет ли в грязную пору где-нибудь с бочкой отданная под его начальство разбитая кляча-водовозка, он только двинет плечом – и не только телегу, самое лошадь спихнет с места; дрова ли примется он колоть, топор так и звенит у него, как стекло, и летят во все стороны осколки и поленья; а что насчет чужих, так после того, как он однажды ночью, поймав двух воров, стукнул их друг о дружку лбами, да так стукнул, что хоть в полицию их потом не веди, все в околотке* очень стали уважать его; даже днем проходившие, вовсе уже не мошенники, а просто незнакомые люди, при виде грозного дворника отмахивались и кричали на него, как будто он мог слышать их крики. Со всей остальной челядью Герасим находился в отношениях не то чтобы приятельских – они его побаивались, – а коротких; он считал их за своих. Они с ним объяснялись знаками, и он их понимал, в точности исполнял все приказания, но права свои тоже знал, и уже никто не смел садиться на его место в застолице. Вообще Герасим был нрава строгого и серьезного, любил во всем порядок; даже петухи при нем не смели драться, а то беда – увидит, тотчас схватит за ноги, повертит раз десять на воздухе колесом и бросит врозь. На дворе у барыни водились тоже гуси; но гусь, известно, птица важная и рассудительная; Герасим чувствовал к ним уважение, ходил за ними и кормил их; он сам смахивал на степенного гусака. Ему отвели над кухней каморку; он устроил ее себе сам, по своему вкусу, соорудил в ней кровать из дубовых досок на четырех чурбанах – истинно богатырскую кровать: сто пудов можно было положить на нее – не погнулась бы; под кроватью находился дюжий сундук; в уголку стоял столик такого же крепкого свойства, а возле столика – стул на трех ножках, да такой прочный и приземистый, что сам Герасим, бывало, поднимет его, уронит и ухмыльнется. Каморка запиралась на замок, напоминавший своим видом калач, только черный; ключ от этого замка Герасим всегда носил с собой на пояске. Он не любил, чтобы к нему ходили.
Так прошел год, по окончании которого с Герасимом случилось небольшое происшествие.
Старая барыня, у которой он жил в дворниках, во всем следовала древним обычаям и прислугу держала многочисленную: в доме у ней находились не только прачки, швеи, столяры, портные и портнихи, был даже один шорник*, он же считался ветеринарным врачом и лекарем для людей, был домашний лекарь для госпожи, был, наконец, один башмачник, по имени Капитон Климов, пьяница горький. Климов почитал себя существом обиженным и не оцененным по достоинству, человеком образованным и столичным, которому не в Москве бы жить, без дела, в каком-нибудь захолустье, и если пил, как он сам выражался, с расстановкой и стуча себя в грудь, то пил уже именно с горя. Вот зашла однажды о нем речь у барыни с ее главным дворецким*, Гаврилой, человеком, которому, судя по одним его желтым глазкам и утиному носу, сама судьба, казалось, определила быть начальствующим лицом. Барыня сожалела об испорченной нравственности Капитона, которого накануне только что отыскали где-то на улице.
– А что, Гаврила, – заговорила вдруг она, – не женить ли нам его, как ты думаешь? Может, он остепенится.
– Отчего же не женить-с! Можно-с, – ответил Гаврила, – и очень даже будет хорошо-с.
– Да; только кто ж за него пойдет?
– Конечно-с. А впрочем, как вам будет угодно-с. Все же он, так сказать, на что-нибудь может быть потребен; из десятка его не выкинешь.
– Кажется, ему Татьяна нравится?
Гаврила хотел было что-то возразить, да сжал губы.
– Да!.. Пусть посватает Татьяну, – решила барыня, с удовольствием понюхивая табачок, – слышишь?
– Слушаю-с, – произнес Гаврила и удалился.
Возвратясь в свою комнату (она находилась во флигеле и была почти вся загромождена коваными сундуками), Гаврила сперва выслал вон свою жену, а потом подсел к окну и задумался. Неожиданное распоряжение барыни его, видимо, озадачило.
Наконец он встал и велел кликнуть Капитона. Капитон явился… Но, прежде чем мы передадим читателям их разговор, считаем нелишним рассказать в немногих словах, кто была эта Татьяна, на которой приходилось Капитону жениться, и почему повеление барыни смутило дворецкого.
Татьяна, состоявшая в должности прачки (впрочем, ей, как искусной и ученой прачке, поручалось одно только тонкое белье), была женщина лет двадцати осьми, маленькая, худая, белокурая, с родинками на левой щеке. Родинки на левой щеке почитаются на Руси худой приметой – предвещанием несчастной жизни… Татьяна не могла похвалиться своей участью. С ранней молодости ее держали в черном теле: работала она за двоих, а ласки никакой никогда не видала; одевали ее плохо; жалованье она получала самое маленькое; родни у нее все равно что не было: один какой-то старый ключник, оставленный за негодностью в деревне, доводился ей дядей, да другие дядья у ней в мужиках состояли – вот и всё. Когда-то она слыла красавицей, но красота с нее очень скоро соскочила. Нрава она была весьма смирного или, лучше сказать, запуганного; к самой себе она чувствовала полное равнодушие, других боялась смертельно; думала только о том, как бы работу к сроку кончить, никогда ни с кем не говорила и трепетала при одном имени барыни, хотя та ее почти в глаза не знала. Когда Герасима привезли из деревни, она чуть не обмерла от ужаса при виде его громадной фигуры, всячески старалась не встречаться с ним, даже жмурилась, бывало, когда ей случалось пробегать мимо него, спеша из дома в прачечную. Герасим сперва не обращал на нее особенного внимания, потом стал посмеиваться, когда она ему попадалась, потом и заглядываться на нее начал, наконец и вовсе глаз с нее не спускал. Полюбилась она ему: кротким ли выражением лица, робостью ли движений – бог его знает! Вот однажды пробиралась она по двору, осторожно поднимая на растопыренных пальцах накрахмаленную барынину кофту… кто-то вдруг сильно схватил ее за локоть; она обернулась и так и вскрикнула: за ней стоял Герасим. Глупо смеясь и ласково мыча, протягивал он ей пряничного петушка с сусальным золотом на хвосте и крыльях. Она было хотела отказаться, но он насильно впихнул его ей прямо в руку, покачал головой, пошел прочь и, обернувшись, еще раз промычал ей что-то очень дружелюбное. С того дня он уж ей не давал покоя: куда, бывало, она ни пойдет, он уж тут как тут, идет ей навстречу, улыбается, мычит, махает руками, ленту вдруг вытащит из-за пазухи и всучит ей, метлой перед ней пыль расчистит. Бедная девка просто не знала, как ей быть и что делать. Скоро весь дом узнал о проделках немого дворника; насмешки, прибауточки, колкие словечки посыпались на Татьяну. Над Герасимом, однако, глумиться не все решались: он шуток не любил, да и ее при нем оставляли в покое. Рада не рада, а попала девка под его покровительство. Как все глухонемые, он очень был догадлив и очень хорошо понимал, когда над ним или над ней смеялись. Однажды за обедом кастелянша*, начальница Татьяны, принялась ее, как говорится, шпынять и до того ее довела, что та, бедная, не знала, куда глаза деть, и чуть не плакала с досады. Герасим вдруг приподнялся, протянул свою огромную ручищу, наложил ее на голову кастелянши и с такой угрюмой свирепостью посмотрел ей в лицо, что та так и пригнулась к столу. Все умолкли. Герасим снова взялся за ложку и продолжал хлебать щи. «Вишь, глухой черт, леший!» – пробормотали все вполголоса, а кастелянша встала да ушла в девичью. А то в другой раз, заметив, что Капитон, тот самый Капитон, о котором сейчас шла речь, как-то слишком любезно раскалякался с Татьяной, Герасим подозвал его к себе пальцем, отвел в каретный сарай да, ухватив за конец стоявшее в углу дышло[5], слегка, но многозначительно погрозил ему им. С тех пор уж никто не заговаривал с Татьяной. И все это ему сходило с рук. Правда, кастелянша, как только прибежала в девичью, тотчас упала в обморок и вообще так искусно действовала, что в тот же день довела до сведения барыни грубый поступок Герасима; но причудливая старуха только рассмеялась несколько раз, к крайнему оскорблению кастелянши, заставила ее повторить, как, дескать, он принагнул тебя своей тяжелой ручкой, и на другой день выслала Герасиму целковый. Она его жаловала, как верного и сильного сторожа. Герасим порядком ее побаивался, но все-таки надеялся на ее милость и собирался уже отправиться к ней с просьбой, не позволит ли она ему жениться на Татьяне. Он только ждал нового кафтана, обещанного ему дворецким, чтоб в приличном виде явиться перед барыней, как вдруг этой самой барыне пришла в голову мысль выдать Татьяну за Капитона.

