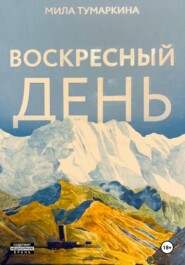
Полная версия:
Воскресный день
Я помню почерк секретарши Лидочки, которым был записан тот выговор в мой комсомольский билет, но сам билет, увы, не сохранился. Украшенный двумя взысканиями и карточкой учета уплаченных комсомольских взносов, он был украден вместе с сумочкой, привезённой папой из Риги.
Его утащили на вокзале южного маленького городка сразу после выпускного. Особенно я жалела о косметичке, в которой лежал флакончик модных в то время духов под интригующим названием «Может быть». Сейчас вспоминать об этом смешно, но тогда…
Первым уезжал из городка Сашка Дунаев. Уезжал в Тбилиси – поступать в Артиллерийское училище. На проводы пришла вся наша компания. И вот там-то я и простилась с новой сумочкой и с комсомольским билетом.
В то утро, мы не знали и не могли себе представить, что пройдёт не так много времени, и мы будем расставаться не только с идеологическими документами юности, но и со своей страной.
Тогда выговор по комсомольской линии обещал множество неприятностей. Но ожидание наказания за украденный билет не могло сравниться с запретом на поездку в Батуми, где должны были проходить краевые соревнования. Запрет перечёркивал полгода нашей работы и воспринимался нами как трагедия.
После сорванного урока и комсомольского собрания наказали не только спортивную команду, сняв с соревнований, но и нас – группу поддержки. Тоню Назаренко – редактора школьной стенгазеты, ответственную за выпуск, Мамуку Маитурадзе – фотографа и меня – автора школьной газеты и радиопередач, обычно писавшую очерки и стихи на злобу дня. И даже Мышку – Софью Смирнову – распорядителя, казначея и ответственного хранителя спортивного инвентаря. Соревнования начинались через два дня в первые дни весенних каникул в Батуми.
После уроков мы остались в пустом классе. Рядом в смежной комнатке-лаборатории методично капала вода из крана и громко стучала в старой раковине. Мы чувствовали себя опустошёнными и несчастными. Спортсмены молчали. Тоня Назаренко – наш ответственный редактор безучастно смотрела в окно. Мамука Маитурадзе – пытался её утешить. Но Тоня раздражалась, и даже в сердцах, прикрикнула.
– Что ты крутишься, как волчок? Не можешь посидеть на одном месте? Не мельтеши перед глазами. И без тебя тошно. Лучше б придумал, что нам делать. Или кран почини – слушать невозможно!
Мамука тоскливо посмотрел на Тоню, покорно поднялся и побрёл в лабораторию. Возясь с краном, он прокричал:
– Я придумывать не мастак. Что делать? А я откуда знаю? У тебя в распоряжении вон сколько народа! Пусть придумают!
Сонька Смирнова, безнадёжно вздохнула:
– Соревнования по легкой атлетике, через два дня! В Батуми! Как мы доедем? На чём? Что тут придумаешь? – она беспомощно развела руками.
– Так готовились! Так хотели поехать! – Сонька заплакала…
Мамуке удалось прикрутить кран, и он, отливающий синевой, с горящими сливовыми глазами, выскочил из комнатки и закипел:
– Я придумал! – закричал он, – Грандиозный план!
Все с интересом уставились на Мамуку.
– Надо пойти к Гангрене и поставить вопрос ребром: как это вообще возможно – лишать межобластных соревнований лучших спортсменов школы? А если она не согласится – устроить бойкот урокам математики и потребовать отстранение Маргариты Генриховны от преподавания в параллели 10-х. Можно и повод придумать, например, из-за невозможности найти общий язык с учениками и чёрствость характера.
Он кипятился, бегал вокруг нас по классу, краснел и воздевал руки к небу, ссылался на принцип демократического централизма – основу управления.
– К Гангрене ты пойдёшь? – наконец, хмуро спросил Лёшка-комсорг.
– Я? Почему я? – Мамука смутился. Все вместе… Можно было бы пойти всем, – забормотал он, и его щёки с пробивающейся черно-синей растительностью побагровели.
– Ты, Мамука, обвиняешь Гангрену в непоследовательности, – встрял печальный Граша, – А это не её принцип.
– Почему? – горячился пришедший в себя Мамука, – придём все вместе, толпой, потребуем!
Это же не для себя! Это честь школы! – Мамука с надеждой на поддержку смотрел то на Лёшку, то на Сергея, то на девчонок.
– Как ты себе это представляешь? – Каха Чкония усмехнулся, – Сначала Гангрена подписывает приказ, вывешивая его на всеобщее обозрение, а потом, мы, значит, приходим, смело требуем, и Гангрена пятится назад. Так, что ли?
Мамука сидел опечаленный…
– Но нельзя же смириться. Форму вон купили. Столько сил потратили, но достали! Фотоаппарат новый. Зачем все это?
– Язык зря не вываливай! Молчание – золото, знаешь? – Лёшка внимательно посмотрел на Мамуку, тот опять сник.
Нечего было даже думать о том, что наша Гангрена вдруг расчувствуется и отпустит нас на соревнования после всего, что произошло. Наша директриса, прошедшая войну с первых дней до Берлина, отличалась строгим характером, непоколебимой решительностью и отвагой. По городку ходила легенда, что Эмма Гарегеновна одна усмирила шестерых приезжих строителей.
– Как-то приехали в город шабашники, сделали работу, получили расчёт и ну ходить по городку, искать приключений на эту, на свою, на чем сидят, – обычно начинал рассказ местный пьяница дядя Миша, по прозвищу Мишка-фонарь за постоянные синяки то на скуле, то на лице.
Кличка намертво к нему приклеилась, невзирая на почтенный возраст: синяки появлялись у него с пугающей регулярностью.
Дядя Миша, подвыпив и войдя в раж, рвал на себе тельник и со словами:
– Вашу мать, сэр! – бросался на обидчика или на толпу. Количество людей не имело значения. Никакие препятствия не могли остановить мятущуюся душу бывшего старшины второй статьи. Мишка-фонарь наливался непонятной гордостью и продолжал:
– Ходют победителями энти горе-строители, значится… Ну, дело понятное – зашли в магазин. А как иначе? Год не пей, а после шабашки – выпей! Так же? А там бабки стоят, глаза бы мои их не видели. Хто за молоком, хто за сахаром. Робяты давай куролесить. Меня! Я, между прочим, первым стоял, отпихнули от прилавка, не посмотрели, что инвалид войны, заслужОный и ранетый… Мать твою за ногу! Потом к Люське-поварихе приставали, она тож в магазин приволоклась. Титьки ейные им понравились. Так это, знамо дело, губа не дура. Люськины титьки… Они всем нравятся. Стой и смотри, как водится. Опять же, за погляд денег не берут. Так ведь? А они – хватать! Это уж ни в какие ворота! Тут уж… Братва, свистать всех наверх! Одним словом, куражились. А чё не куражиться, если есть на что? Денег им отвалили – мама не горюй! В этой самой очереди и стояла ваша Эмма Гар… Гарге… Одним словом, Гангрена ваша, ну, директорша, значится.
Именно в этом месте у рассказчиков начинались разногласия в вариантах развития дальнейших событий. Инвалид Мишка-фонарь – вечно пьяненький, прячущий от жены несколько рублей с пенсии, чтобы купить «читушечку», говорил, что Гангрена вмиг выхватила пистолет, да как долбанёт прямо в потолок. Стекла вылетели, все разбежались! Он выпучивал глаза и показывал гримасой, как было страшно.
– А Гангрена-то, видать, что войну прошла. У меня глаз намётанный. Схватила она бельевую верёвку и связала энтих самых, хероев, которые от выстрелов на полу хоронились. Так строем и привела, хоть и они и обосрались маненько. В милицию привела, в милицию, куда же ещё? – уточнял, пьяно улыбаясь, Миша.
Когда же мы начинали сомневаться, откуда у Гангрены пистолет в мирное время, а главное – откуда взялась бельевая веревка, и почему мужики были немного того, подмоченные, не в себе?
– Так-таки обосрались? Как это? – обычно спрашивал кто-нибудь на этом месте.
– Чо как? Чо непонятного? – сердился дядя Миша и божился, видя, что ему не верят, – Натурально, каком! Вот те крест!
Он осенял себя размашистым остервенелым крестом.
– В разведке и не такое случалось. Сказывали бывалые. Знаем, не протреплемся. И пистолет был, и верёвка… Всё моё ношу с собой – закон разведчика! Вот и Эмма, видать, тоже. Баба лихая! Уважаю! Испугались мужики, известное дело: не ровен час бошки всем прострелит, доказывай потом, что с имя был, с бошками-то, – на этих словах дядя Миша обычно просил нас подкинуть недостающие ему для полного счастья пятьдесят копеек.
Вторая версия звучала намного скромнее. Бывший боцман дядя Сеня, работающий вахтёром в Горисполкоме и потому страшно важничая, озвучивал свою версию с большими паузами, шевеля губами в тех местах, где нужно было сказать матерное слово. А так, как он разговаривал исключительно с помощью ненормативной лексики, то паузы затягивались. Дядя Сеня в эти моменты делал большой глоток из фляжки, которую постоянно носил во внутреннем кармане старого морского кителя. И в окончании рассказа фляжка была пуста.
В его изложении наша Гангрена громко закричала на мужиков: – «Стоять!» – и обложила их таким отборным матом, что я – матёрый боцман, без подмесу, морской дракон – слыхом не слыхивал!» – тут дядя Сеня шевелил губами, пропуская через себя сказанное Гангреной и приходя от этого в полный восторг.
– Атомная бомба взорвалась и подмести забыли! Чесссслово, бля буду! – он в который раз доставал фляжку, делал глоток, и заканчивал на подъёме, – Гангрена ваша – женщина уважаемая. Умеет взять за ноздрю. И сказала, как следует, и сделала, как положено (глоток из фляжки). Только имею вопрос: откуда вызнала слова? Я ж сам не Пупкин и не Пендюренко, бля буду, чёрт тебе в душу мать. У меня зад в ракушках, на флоте больше, чем вам лет, а такого не слыхивал! – удивлялся дядя Сеня и прикладывался к фляжке, – Одна, на шестерых! Попёрла, как танк! Шелупонь, ясен пень, зашкерилась, присмирела. Из кубрика вышли, клеша растопырив, а назавтра их и след простыл. Так-то вот! Знай наших! Всё пропьём, но флот не опозорим! – гордо заканчивал рассказ старый боцман дядя Сеня.
И хотя вторая версия была более правдоподобна, мне, да и всей нашей команде хотелось верить в первую. Но в чем мы ни капельки не сомневались, так это в том, что «махать шашкой» Гангрена умела, нрав имела суровый, характер – принципиальный. И головы летели в разные стороны, несмотря на чины и звания. Тем более, что совет ветеранов войны в городе возглавляла наша Эмма и держала в строгости не только школу, но и в Горисполкоме к её мнению очень даже прислушивались. Она могла «построить» всех, включая, страшно сказать, начальника порта! Невзирая на то, что порт шефствовал над нашей школой и помогал всем, чем мог.
Настроение было подавленное. Мы уже были готовы покориться судьбе. Но тут Лёха Омельченко встал и предложил «не сдаваться» таким тоном, что все воспрянули духом. Уж если Лёшка решил, то…
– А что, собственно, ты предлагаешь? – потребовал объяснений Граша.
– Вечером у моря я объявляю общий сбор, там и порешаем, – таинственно пообещал Лёшка.
Глава 8. Дуся
Ещё в октябре родительский комитет организовал для параллели 10-х классов поездку в Тбилиси. Автандил Николаевич, историк, взялся нас сопровождать и согласился провести экскурсию по своему родному городу.
Начинались долгожданные каникулы. Мы рвались из школы прочь, предвкушая свободу. И хотя нам постоянно твердили, что десятый класс решает много в нашей жизни, все уши прожужжали, что мы должны заниматься целыми днями и поступить хоть в какое-нибудь высшее учебное заведение, мы жаждали только одного – делать то, что нам нравится…
Тем более, что южное лето заканчивается поздно. А сидеть за партами в сентябре-октябре, когда за окном плюс 25 и вода в море чуть меньше 20-ти – та ещё мука.
Радость и предвкушение полной свободы переполняло нас. Мышка хвасталась, что её отец договорился со своим начальством насчёт большого автобуса, и сам сядет за руль. Ехать предстояло часа четыре. Родительский комитет решил обернуться за один день, поэтому выехали рано.
Едва только рассвело, а за окнами уже мелькали пригороды. В салоне царила непривычная тишина: ребята досыпали в креслах автобуса. А за стёклами проплывали настоящие чудеса. Мы ехали вдоль реки…
Осень только тронула жёлтыми мазками зелень, живописно облепившую берега Риони.
Величественный покой воцарялся за городом. Торжественно-багряные листья, промытые осенними дождями, блестели дорогим украшением. И будто старинное зеркало с повреждённой амальгамой, расстилалась тихая, присмиревшая река в окнах автобуса. Спать расхотелось, и все ребята неотрывно смотрели в окна.
Проезжая городок Сенаки, Автандил Николаевич стал рассказывать. Вдохновенно блестя глазами, отчаянно жестикулируя, историк говорил, что однажды в этих горах разгневанные непослушанием людей боги, заковали в пещере грузинского героя Амирани, нарушившего их запрет: он передал людям божественный огонь. И люди почувствовали себя всесильными и равными богам.
– Это вы рассказываете миф о грузинском Прометее? – удивлённо присвистнул Каха.
– Не совсем так, – мягко поправил его Автандил, – Пещера близ Сенаки, где ведутся сейчас раскопки обнаружена давно. Когда я учился в Тбилиси на историческом, уже слышал о ней. Пещера до сих пор изучается археологами – моими сокурсниками. Они меня недавно удивили – пытаются научно обосновать версию о том, что миф о грузинском герое Амирани намного старше мифа о древнегреческом герое Прометее. Понимаете? Старше! Конечно, это всего лишь гипотеза, но как интересно!
Автандил Николаевич довольно потирал руки.
– Ничего себе! – воскликнул Граша, – Значит, в той пещере были поселения времён IV века до нашей эры? Или ещё более ранние? Иначе, зачем утверждать, что миф об Амирани первичен?
– Умница, Агафонов! Какой хороший вопрос! Он уже сам по себе стоит отличной оценки.
Ребята одобрительно загудели. Автандил Николаевич восторженно смотрел на Грашу.
– Иберийское царство Картли, располагавшееся на территории сегодняшней Грузии возникло в lll веке до нашей эры! Вы только представьте! А мифы Древней Греции нам известны лишь с IV! И то – из поздних произведений Эсхила, Гесиода и других древнегреческих авторов.
А что это значит? Значит, тут вступает история о так называемых, «блуждающих сюжетах». Кто-нибудь слышал об этом?
– Нет, – дружно выдохнули мы.
– Дети мои! У каждого народа всегда есть свои герои, сказки или легенды. Задача археологов не только найти остатки цивилизаций, но главное – докопаться до культурных пластов того времени. Если хотите, определить моральные ценности народа, жившего много лет назад! А потом уже первичность находки или сюжета. Понятно? Вот легенды и гуляют по миру.
Мы закивали.
– Посмотрите, как схожи истории! Несмотря на тяжкие страдания и Амирани, и Прометей остаются твёрдыми и непреклонными в стремлении сделать свой народ счастливым. И оба страдают за самоотверженную любовь к людям.
– Типа, не делай добра – не узнаешь и зла? Так что ли? – Каха внимательно смотрел на раскрасневшегося историка, будто ждал от его ответа чего-то очень важного для себя.
– Нет, мой мальчик! Не совсем так. Это сложный вопрос, но я постараюсь ответить кратко. Автандил глубоко вздохнул:
– Делая добро, не нужно оглядываться и жалеть. Оно всегда вернётся к тебе обратно. А вот зло… – тут он замолчал. И тишина воцарилась в автобусе. Все ждали, что же дальше скажет учитель.
– Зло… Его, к сожалению, больше в нашей жизни, чем добра. Многие люди не понимают простой вещи: каждый недобрый поступок, каждое злое слово – как снежный ком, рождает много плохого и подлого. Надо бояться этого, дети мои, бояться делать подлости.
Автандил вздохнул, и продолжил рассказ.
– Мне очень хочется побывать в той пещере. Увидеть всё своими глазами. Говорят, что её общая длина чуть ли не 11 километров. А ещё в ней обнаружили странные подземные речки и множество озёр, целый каскад. Как любопытно!
Мы слушали, затаив дыхание.
– А туда можно попасть? На экскурсию? – деловито спрашивал Каха.
– Увы, – Автандил Николаевич вздохнул, – Нам пока это сделать не удастся, в ближайшие пять-десять лет…
– У-у! – разочарованно протянул Каха, через десять лет мы будем старыми…
– Ты так думаешь? – с улыбкой спросил историк, Каха смутился, – Вы побываете там. Дайте срок. Я думаю, что когда археологи закончат работу, можно будет съездить и на экскурсию.
Ещё рассказывают, что глубина пещеры составляет около 20 метров. И там – постоянная температура внутри, плюс 14 градусов. Древние люди вполне могли выжить в таких условиях.
Автандил Николаевич ещё много чего рассказывал, а потом начал говорить о Тбилиси.
Когда солнце уже рассылало лучи по всем улицам, мы въехали в город. Он сразу околдовал непривычной свободой, повсеместной зеленью, улыбками на лицах и автоматами с газированной водой и вином, стоящими повсюду.
Мальчишки сбились в кучу и о чем-то таинственно шептались. А потом с опаской меняли рубли, выданные родителями на мороженое и газировку на 5 монет по 20 копеек. В конце экскурсии они старательно делали вид, что пребывают в полном порядке. Но лезть на холм Сололаки отказались наотрез.
К нашему счастью, ни Автандил Николаевич, ни сонькин отец ничего не заметили. Только в Планетарии мальчишки, к удивлению историка, дружно заснули и пропустили рассказ о чёрных дырах.
Когда разбухшие от бесчисленно выпитой жидкости, мы подходили к автобусу, чтобы ехать домой, Каха весело закричал:
– Смотрите! Смотрите все! Нашей сторожихе Дусе памятник соорудили!
Мы захохотали.
– Вон она, собственной персоной – на той горе!
На холме Сололаки, нависшем над стоянкой автобусов и такси, куда мы не попали из-за мальчишек, была видна огромная фигура женщины с мечом в руке. Ребята остановились, запрокинув головы вверх. Мощная скульптура нависла над нашими головами. И своей громоздкостью и суровостью напоминала школьную сторожиху.
Мы ещё долго смеялись и пели песни. Но когда уже уставшие и полные впечатлений, задремали, Автандил Николаевич рассказал нам, что огромная женщина – конечно же, не сторожиха Дуся, а Мать земли Картли или Мать Грузия – душа Тбилиси.
– Значит, душа Тбилиси это женщина с мечом в руке? – удивилась я.
– Надо быть внимательней, дорогая, – мягко возразил историк, – В одной меч, а в другой -чаша с вином.
На этих словах все окончательно проснулись. Выяснилось, что на чашу с вином никто из нас не обратил внимания, попросту не заметил. Меч заметили все, а чашу – нет.
– А почему женщина с мечом и с чашей? – спросила Мышка.
– В Грузии, дорогая, всегда чаша вина предназначена для добрых людей, что пришли в гости с миром. Вот к вам, когда приходят гости, чем встречаете?
– Маминым печеньем, – горделиво ответила Мышка.
Все засмеялись. Автандил Николаевич смеялся вместе с нами. Но Сонька не обиделась, а лишь удивлённо пожимала плечами.
– А что такого? Моя мама отличное печенье делает. Все его любят! Она с собой мне много дала, а я про него забыла, попробуйте! – Сонька достала из спортивной сумки большой пакет и угощала всех. Ребята дружно жевали. Печенье было очень кстати и действительно, вкусное.
– Ну, хорошо, чаша с вином – для добрых людей! – продолжала любопытствовать Мышка, – А меч тогда зачем? Для кого меч? Тоже для гостей?
Автобус грохнул от хохота.
– Зачем же?
Историк широко улыбался.
– Меч для тех, кто пришёл с войной, – Автандил Николаевич внимательно смотрел на нас, – Это очень важный памятник Грузии, Мать Картли. Вам же понятно, что Картли – древнее название местности, где мы сейчас живем? Но я хочу услышать ваш ответ на такой вопрос: является ли для вас слово «мама» – самым дорогим? – Автандил Николаевич обвёл взглядом ребят.
– Конечно, – удивились мы и согласно закивали головами.
– Слово это – глубокое и значительное для каждого человека, – историк внимательно смотрел в окно автобуса.
Сумрак вплывал лёгким туманом и рисовал темно-синюю акварель над зарослями деревьев, обкладывал мягкой ватой берега над затихшей рекой.
– А вот словосочетание «личные вещи», что оно значит? – оторвавши взгляд от окна неожиданно спросил Автандил Николаевич.
– Ранец? – смешливо выкрикнул Каха. Все засмеялись.
– Нет, конечно.
– Тетрадки? И что смешного? Всё моё ношу с собой, – выкрикнул Каха обидчиво.
Автандил улыбаясь, внимательно смотрел на нас, будто ждал другого ответа.
– Пенал с ручками? – неуверенно предположила Тоня Назаренко – главный редактор школьной газеты.
– Хорошая учеба и личные достижения? – с надеждой на правильный ответ робко вставила Лерка Гусева, Гусыня.
– Какой-такой пенал? Какие личные достижения? – шутливо возразил Граша, – конечно, кошелёк! А для Кахи – саксофон!
Мы во все глаза смотрели на Автандила.
– Да, – согласился историк, – То, что вы назвали, безусловно, в обычном понимании называют «личными вещами». Но для меня… – тут он сделал большую паузу, – Вещи, названные вами, не представляют такую уж ценность. Для души – тем более. Личное – это что-то очень внутреннее, сокровенное, оно живёт у каждого в глубине сердца. Загляните в себя, и вы поймёте, что там есть самое дорогое для каждого. И это дорогое никто и никогда ни у меня, ни у вас не сможет отобрать или украсть. Оно навсегда в нас. До конца наше, личное! Понимаете? И связано оно с самыми близкими людьми и с местом, где вы родились и выросли, где жили и умирали ваши предки. Где теперь живут ваши папы и мамы, где живете вы. Вот по этой причине и Родину тоже именуют матерью. Понятно объяснил?
Мы серьёзно смотрели на историка. Как-то неожиданно глубоко падали эти слова и отзывались в нас теплом и правдой.
– Не-е-ет! Тогда тот большой памятник точно не тётке Дусе, – с грустью заключил Каха, – Какая родня? У неё воды не выпросишь, не то что вина, и орёт всегда, как сумасшедшая, и шпионит, и ябедничает. А нам потом влетает. Злая она, вот что я скажу.
Все негромко и сочувственно посмеялись над словами Кахи.
– А вот меч – ей подходит, – сузил глаза Каха и зло усмехнулся, – Хотя, честно сказать, метла больше, потому как на монументальность наша Дуся не тянет! Да, ошибочка вышла. Дуся совсем не «Мать Грузия». Скорее, она похожа на памятник 26 бакинским комиссарам, причём всем сразу, помните? Тот огромный камень в Баку? В центре? – этими словами Каха разрядил обстановку.
Все зашумели, начали вспоминать, как мы ездили в Азербайджан два года назад, и тот памятник, поразивший нас размерами и мощью. Шум не смолкал ещё долго.
Сторожиха школы тетка Дуся была лицом магическим, дремучим и неуправляемым.
Мало того, что она важно именовалась «заместителем директора школы по хозяйственной части», она, кроме прочего, считалась негласным оперативником и основным разведчиком в школе по части курения за спортивной площадкой всех лиц обоего пола и информатором всего, что случалось в городке.
Тетку Дусю легко можно было сравнить со Штирлицем, если бы всё внутри не сопротивлялось этому. К сторожихе относились с осторожностью. Многие всячески подхалимничали и выказывали ей свое благорасположение. Она же неусыпно контролировала не только нас, учеников, но, даже, страшно сказать, директора, завуча и всех учителей. Про Гангрену-директрису, она говорила, что та сама не живет, и другим не даёт.
– В школу в шесть утра припрётся и ну во все углы заглядывать, ползать. Все жилы вытянет работой своей, будто мёдом ей намазано, – ворчала она, – И характерец у ей… Не тётка , а… Просто мужик с яйцами и с бонбой в запазухе…
Дуся божилась, что сама видела, как Гангрена выговаривала что-то приехавшему с проверкой Адмиралу! А тот покорно слушал, кивал, видать соглашался, а потом и честь ей отдал! Во как! Тут попробуй, скажи поперёк.
– И Автандил ваш… Обходительный человек, тут ничего не скажешь, только нудны-ый! Скука ходячая, – Дуся моментально замолкала, видя идущего по коридору завуча и угодливо с ним здоровалась, – Здрасьсссти, Автандил Николаевич! Какой костюмчик-то на вас справный, а?
Завуч останавливался.
– Говорю, справный костюм. Где достали? Хорошо сидит.
Завуч невнимательно благодарил и скрывался в учительской, а Дуся, обидчиво поджимая губы, швыркала тряпку в ведро и с силой отжимая, продолжала:
– Костюм-то по блату купленный, точно говорю. Таких в магазине сроду не найдёшь, постараться надо.
Она делала широкие взмахи половой тряпкой.
– Это жена его – продавщица в тканях – достала. Ух! Ей палец в рот не клади!
Сторожиха опиралась на швабру.
– Намедни была у ей в магазине. Сатин выбросили, очередь, шум, гвалт, чуть ли не дерутся бабы. Так на мне и кончился, токо-токо я к прилавку, а он, сатин-то тю-тю! Нет, чтобы уважить! Без очереди, мол, проходи Евдокея, по-суседски.
Швабра продолжала свой ход по полу, а Дуся язвительно заканчивала:
– Вот что я вам скажу – живет ваш историк со своим новым костюмом под каблуком жены Мананы, хоть к гадалке не ходи. И Ася, ваша классная, вообще молчу. Чокнутая. Как есть чокнутая, на своих розах помешанная. И чо в них нашла? Помидоры бы разводила – больше пользы, да и денег, а так…
Дуся с сожалением махала рукой.



