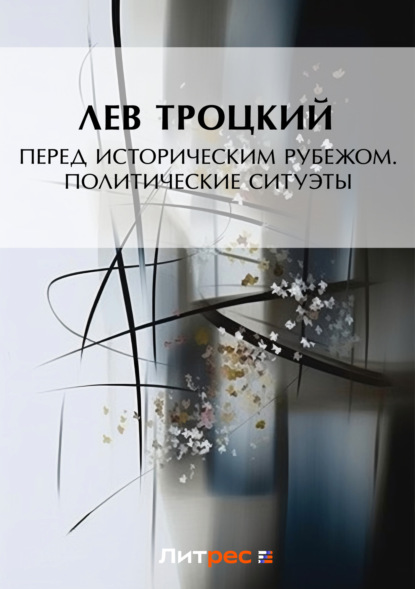 Полная версия
Полная версияПеред историческим рубежом. Политические силуэты
Но почему же они сами, вожди европейской демократии, не видят того, что дано было понять чужому, политическому новобранцу, москвичу, варвару? Да именно потому, что они – каждый из них – действительно представляют кусок своей национальной истории, за ними – классы, партии, организации, события, вчерашние или позавчерашние. Их взгляды и методы действий выработали в себе большую силу внутреннего сопротивления. А за Герценом, если не считать нескольких идейных друзей в двух столицах, нет ничего, кроме его таланта, проницательности, гибкости ума и… превосходного знания европейских языков. Он ничем не связан. В его взглядах нет того упорства, которое дается взаимодействием слова и дела. Над ним не тяготеют традиции. Он не знает над собою властного контроля единомышленников и последователей. Он «свободен». Он – зритель. «Равноправный» среди «горних вершин» демократии, он однако же никого в ней не представляет, ни от чьего имени не говорит, он citoyen du monde civilise (гражданин цивилизованного мира), он отражает только историю этой самой европейской демократии – в «свободном» сознании талантливого, с проблесками гениальности, интеллигента из московских дворян.
Почему Джемс Фази,[132] победоносный женевский революционер, или Маццини, «бывшие социалистами прежде социализма», сделались потом его ожесточенными врагами? – не понимает и удивляется Герцен. Он много спорил с ними, но бесплодно. Почему? спрашивает он. «Если у того и у другого это была политика, уступка временной необходимости, то зачем же было горячиться?»… Он хотел бы, чтоб их сознание было так же свободно, как его, в выборе между либерализмом и социализмом или в сочетании обоих. Но для них это не бесплотные принципы, а политический вопрос – опоры на те или другие классы. Оттого они не просто дискутируют, а «горячатся» и даже борются на жизнь и на смерть.
Сталкиваясь с упорством чужих политических взглядов и предрассудков, Герцен приходит к выводу, что главное преимущество его – «незасоренность» психики: «мыслящий русский человек самый свободный человек в мире», пишет он Мишле.[133]
«Я во Франции – француз, с немцем – немец, с древним греком – грек и, тем самым наиболее русский, тем самым я – настоящий русский и наиболее служу для России… Они несвободны, а мы свободны. Только я один в Европе, с моей русской тоской, тогда был свободен»… Это уж не Герцен говорит, а Версилов у Достоевского, в «Подростке», но ведь так именно сознавал себя по отношению к Европе Герцен: всех понимает, в их силе и в их слабости, а сам – «свободен».
«Я ни во что не верю здесь, – пишет Герцен своим русским друзьям в 1849 г., – кроме как в кучку людей, в небольшое число мыслей, да в невозможность остановить движение».
Но «кучка людей» топталась на месте и жила с капитала старых репутаций, «небольшое число мыслей», входивших в идейный обиход близкой Герцену «кучки людей», было полно противоречий и недоговоренностей, слишком очевидных для такого проницательного «наблюдателя со стороны», каким был Герцен. А «невозможность остановить движение» – слишком неопределенное и неустойчивое верование, если оно опирается лишь на кучку фанатически-неоглядывающихся или, наоборот, безнадежно растерянных людей, да на небольшое количество уже отработанных историей мыслей. И действительным ответом Герцена на опыт 48 – 49 годов явился общественный скептицизм. Крах старых надежд, ожиданий и верований означал для него неизбежность крушения всей цивилизации под натиском отчаявшихся масс.
"Вам жаль цивилизации?Жаль ее и мне.Но ее не жаль массам.Смирение пред неотвратимыми судьбами!".Даже Прудон, презрительно глядевший на крушение политической демократии и носившийся со своей худосочной утопией всеспасающего банка, отшатнулся от этих настроений Герцена. «Посоветуйте ему, – писал Прудон своим друзьям, – не делаться сообщником контрреволюции, проповедуя какое-то смешное consumatum est (свершилось)».
Герцен безошибочно отгадывал то, что было скрыто от Ледрю и Маццини, от Руге[134] и Блана: фатальное крушение старых программ, партий и сект. Но – наблюдатель со стороны, не связанный с внутренними изменениями в европейской общественности – он не видел, что под этой лопавшейся и расползавшейся оболочкой совершался более глубокий процесс: политическое самоопределение масс, путем преодоления старой опеки. Крушение старого было для Герцена крушением всего. Не имея в Европе социальной опоры, чтобы от разбитых иллюзий идти вперед, Герцен оборачивается назад, на то, что оставил за собою, за отечественным шлагбаумом. «Начавши с крика радости при переезде через границу, – пишет он, – я окончил моим духовным возвращением на родину». Герцен становится социальным русофилом.
В начале сороковых годов Герцен, как и Белинский, резко выступает против «славянобесия». Но этот западнический взлет мысли оказался для русской интеллигенции еще не по плечу.
Славянофильство, как идея исторического мессианизма, как пророчество особого призвания народа русского, еще надолго должно было – в том или другом виде – овладеть мыслью образованного русского авангарда: это нравственная компенсация за бедность и мерзость окружающего, за невозможность вмешаться в историю сегодня же, это единственный путь примирения со своими общественными судьбами; наконец, это временные идейные ходули, на которых интеллигенция выбиралась из стоячего болота отечественного быта и шла… в Европу. Народничество, т.-е. славянофильство минус славянофильская политика и славянофильская религия, было не чем иным, как первым, негативным – свет вместо теней и тени вместо света! – отражением превосходства и могущества европейской культуры во встревоженном сознании мыслящего русского человека. Чтобы перевести негатив на позитив, понадобились еще десятилетия тягчайшей учебы, взлетов и падений…
В своих открытых письмах к Гервегу, Маццини и Мишле, Герцен становится после краха 49 г. провозвестником русского мессианизма. Он объявляет крестьянскую общину залогом социальной справедливости в будущем и обещает Европе спасение – с Востока. Не только образованные русские – «самые свободные люди», но и народ русский оказывается самым свободным в выборе своих путей. В социальном вопросе, т.-е. в основном вопросе всей эпохи, мы «потому дальше Европы и свободнее ее, что так отстали от нее». Раз объявив отсталость и варварство за величайшее историческое преимущество славянства над миром старой европейской культуры, Герцен доходит до самых крайних и рискованных выводов и в области международной политики.
"Время славянского мира настало, – пишет он в 49 г. – Настоящая столица соединенных славян – Константинополь… Во всяком случае, война эта (война России за Константинополь) – introduzione maestosa et marziale (торжественное вступление) мира славянского во всеобщую историю и с тем вместе una marcia funebre (похоронный марш) старого света.
Приветствуя трубными звуками захват Константинополя, как могущественное вступление славянства во всеобщую историю, Герцен верил, что это будет последним усилием старой России, – но для кого эта вера могла быть обязательной? Какие такие внутренние силы мог указать тогда в России Герцен, этот «свободный наблюдатель», всегда открыто и честно заявлявший, что он ни от чьего имени не говорит и никого не представляет, что он – сам по себе? В глазах демократов Запада завоевание Россией Константинополя могло означать только одно: усиление крепчайшего из оплотов реакции.
В лице своих молодых сил и их идеалов старая Европа ни на минуту не собиралась слагать оружие и ждать спасения со стороны «славной славянской федерации» и русской общины. Отсюда – непримиримая враждебность между Герценом и творцами научной системы социального развития.
Маркс с пренебрежением отзывался о Герцене, о «полурусском и вполне москвиче», который «открыл русский коммунизм не в России, а в сочинении прусского регирунгсрата Гакстгаузена».[135] Не менее саркастически отзывался и Энгельс о «раздувшемся в революционера панславистском беллетристе», который собирается обновлять и возрождать гниющий Запад – даже при помощи русского оружия. В свою очередь Герцен тоже не слишком мягко характеризовал сторонников Маркса, как «шайку непризнанных немецких государственных людей, окружавших неузнанного гения первой величины, Маркса».
Вражду к себе со стороны «марксидов» Герцен объяснял мотивами не весьма высокого порядка: «меня приносили, – говорит он, – в жертву фатерланду из патриотизма».
На самом деле тут были причины, ничего общего с «патриотизмом» не имеющие. В «Былом и Думах» Герцен пытается объяснить свой антагонизм с немецкой эмиграцией причинами бытовыми: грубостью и невоспитанностью немцев, и идейными: бесплотной абстрактностью немецкого радикализма. Но ни то, ни другое объяснение не может относиться к Марксу. «Германский ум – пишет Герцен – в революции, как во всем, берет общую идею, разумеется, в ее безусловном, т.-е. недействительном значении, и довольствуется идеальным построением ее, воображая, что вещь сделана, если она понята»…
Эта характеристика как нельзя лучше охватывает тот самобытный мессианистический немецкий социализм, с которым Маркс и Энгельс свели теоретические счеты. Но в марксизме «германский» ум окончательно преодолел идеалистическую бестелесность абсолютных отрицаний и абсолютных утверждений, свел идеологические противоречия к борьбе материальных общественных сил и отнюдь не верил, что «вещь сделана, если она понята». Нет, причины идейного антагонизма были другие. В то время как Герцен усматривал даже в военном нашествии России на Европу благодетельную встряску для этого полутрупа, Маркс с ненавистью относился не только к официальному, но и к демократическому панславизму, видя в нем страшную угрозу для европейского развития.
В 1848 – 1849 годы значение России, как оплота европейской реакции, сказалось с небывалой силой. И так как в самой России ничто не шевелилось, то ненависть европейской демократии к официальной России слишком легко превращалась в недоверие ко всему русскому, во вражду к «нации рабов», которая через свое правительство поддерживает рабство во всем мире. А так как и австрийские славяне сыграли в событиях 48 – 49 годов усмирительную роль, то пропаганда панславизма в данных исторических условиях знаменовала не фантастическую свободную общинную федерацию, а сплочение славянской реакции вокруг Петербурга. Отсюда ненависть Маркса ко всем разновидностям панславизма, ненависть, которая временами ослепляла его и позволяла ему верить нелепой клевете, будто Герцен и Бакунин на нужды панславистской агитации получают деньги от петербургского правительства.
Народничество, от Герцена ведущее свою родословную, не было отвращением от Запада. Наоборот: можно сказать, что народничество наше было не чем иным, как нетерпеливым западничеством. Страшил длинный путь от бескультурности и бедности нашей до тех целей, которые наметила мысль европейская. «Народу русскому, – так думал Герцен, – не нужно начинать снова этот тяжкий труд… Мы за народ отбыли эту тягостную работу, мы поплатились за нее виселицами, каторжною работою, ссылкою, разорением»… («Старый мир и Россия».) Увы! в то время как «мы» думали за народ, кто-то другой действовал за народ. Только народ, научившийся думать сам за себя, способен отучить других действовать за него. Мы теперь слишком хорошо знаем, что если вещь понята, то это еще не значит, что вещь сделана.
Герцен говорит, что недостаточно признать науку, надо воспитать себя «в науку». Сам Герцен был одним из вдохновеннейших наших воспитателей «в Европу». Его коллизии с Европой, его анафемы Европе были только порождением его благородной и нетерпеливой ревности к Европе. Некоторые не по разуму усердные зовут «назад – к Герцену!». Мы этого не повторим за ними. Вперед – от Герцена! А это значит: воспитание народа – «в Европу».
«Киевская Мысль» N 87, 29 марта 1912 г.
Л. Троцкий. ГОСПОДИН ПЕТР СТРУВЕ
(Попытка объяснения)
После того как Струве бросил свою «асемитическую» петарду, прошло уже довольно много времени. Сперва ахнули – больше, впрочем, из приличия. Затем лениво пожевали челюстями полемики и, наконец, проглотили. Обыватель, полумистическое существо, ради которого одни журналисты бросают свои петарды, а другие изумленно ахают, решил попросту принять к сведению, что Струве – «асемит»… что-то вроде антисемита, впрочем, в высшем идеологическом смысле, так сказать, самого лучшего качества. Но и после этого пассажа, Струве остается несколько, правда, неопределенной, однако же в высшей степени почтенной фигурой: марксист-интернационалист – либерал-идеалист – «государственный» консерватор – националист – славянофил – империалист – «асемит»… Титул немножко длинный. Но это объясняется тем, что его носитель никогда не знал открытого, прямого разрыва со старыми взглядами: он только непрерывно и неутомимо накоплял новые. Известно, что длинные титулы вообще образуются путем исторического «накопления».
В субъективном сознании, если оно очень счастливо устроено, все может уживаться со всем. Не то в политической практике. Здесь Струве на протяжении ряда лет ведет с собой непрерывную и неутомимую борьбу: сегодня – со своим завтрашним, завтра – со своим вчерашним днем. Куда бы он ни направлял свою рапиру, направо или налево, он за бумажной занавесью полемической арены, как Гамлет – Полония, поражает… самого себя. И не только марксист сражается в нем с идеалистом, – это было бы только в порядке вещей, – но и либерал смертельно поражает в нем либерала.
В июне 1903 г., после грандиозной избирательной победы германской социал-демократии,[136] ссылаясь на судьбу «выродившегося» и «убившего себя» немецкого либерализма, который «предал и предает интересы свободы и демократии», Струве делает решительный вывод по отношению к России: «русскому либерализму не поздно еще – заклинает он – занять правильную политическую позицию – не против социальной демократии, а рядом и в союзе с ней» («Освобождение» N 25). А после 17 октября 1905 г. он в главную вину кадетской партии поставил ее пагубное устремление налево, которое он сам рекомендовал, вместо спасительного равнения направо, от которого он предостерегал. С тех пор никто с такой настойчивостью, как Струве, не толкал нашей либеральной оппозиции на путь немецкого либерализма, который «предал и предает интересы свободы и демократии».
Мы не собираемся составлять каталог противоречий Струве: задача была бы слишком легкой, а каталог вышел бы слишком длинным. Но мы не можем не привести здесь еще одного примера, благо он бросает сноп света на инцидент последних недель.
По свежим следам кишиневского погрома, Струве сурово обличал сионизм, "воспитывающий идею еврейской национальности и даже государственности и тем недомысленно идущий навстречу «подлому антисемитизму» («Освобождение» N 22). Опираясь на тот факт, что еврейская культура растворяется в культуре других наций, он заявлял, что ему вообще «непонятна идея еврейской национальности» («Освобождение» N 28). Позже, в период реакции, он нашел эту национальность – методом от обратного. Где оказался бессилен культурно-исторический анализ, там на выручку пришли стихийные «отталкивания». Износивши не бог весть сколько пар башмаков со времени кишиневского погрома, наш идеалист ныне идет навстречу «подлому антисемитизму», как естественному выражению своего собственного «национального лица».
По поводу этого последнего обогащения политической физиономии г-на Струве не только забавно, но и поучительно вспомнить один забытый эпизод.
В N 9886 «Нового Времени» (1903 г.) г. Виктор Буренин писал не более, не менее, как следующее: «Г-н Петр Струве, как показывает его фамилия, принадлежит к разряду инородцев, охотно позорящих Россию и ненавидящих ее». Инородчества своего Струве отрицать не стал, а, сославшись на «Энциклопедический словарь» Брокгауза, чистосердечно покаялся в своем происхождении от «гольштинских выходцев». Если принять в соображение, что Струве состоит теперь проповедником неопанславизма, т.-е. особой системы национально-племенных «притягиваний» и «отталкиваний» – отталкиваний прежде всего от германизма, то сами собою станут напрашиваться соблазнительные вопросы: в какой именно степени из-под действия законов расовых отталкиваний освобождаются гольштинские выходцы? или иначе: в каком именно поколении гольштинские выходцы превращаются в… «немцев по происхождению, но православных славян по духу», как язвительно писал тот же Струве по адресу Плеве («Освобождение» N 28).
Всю политико-писательскую биографию Струве можно бы расчленить на ряд таких эпизодов, под комической оболочкой которых скрывается (по-видимому?) ряд личных трагедий. И каждой из этих идейных трагедий, казалось бы, достаточно, чтобы довести политика и писателя до морального банкротства и отчаяния. Но пред нами психологическое чудо: из всех своих идейных катастроф и политических крахов Петр Струве выходит точно из легкой кори – невредимым, жизнерадостным и даже пополневшим. Разгадка чуда, однако, проста – как разгадка всех чудес: как личность, Струве не знает банкротства, ибо, как личность, он не участвует в борьбе. Его политические убеждения никогда не сливаются с его духовной физиономией. Он пишет чернилами, а не кровью артерий. Он никогда не подставляет под удары противника своей собственной, личной, живой, человеческой груди. Он выполняет свои очередные идеологические обязанности – и только. И своими «убийственными» противоречиями он убивает себя так же мало, как Гамлет Полония на подмостках театра: не живое тело свое прокалывает он, а только ту личину, которую пришлось надеть на себя по ходу исторической пьесы.
Главный талант Струве – или, если хотите, проклятие его природы в том, что он всегда действовал «по поручению». Идеи-властительницы никогда не знал; зато всегда стоял к услугам выдвигающихся классов – для идеологических поручений. Еще совсем юношей пишет он от имени земцев – хоть сам нимало не земец! – «открытое письмо» по весьма высокому адресу (1894 г.). Это, кажется, первый взятый им на себя политический мандат. Но вот в подполье 90-х годов завозились, заскребли марксисты. Молоды-зелены они, да и плохо еще свой марксизм проштудировали, но они стоят на очереди, – и Струве садится за стол, чтобы написать для них «манифест» (1898). В этом манифесте он говорит – не ужасайтесь: ведь не от себя! – о предопределенном ничтожестве русского либерализма. В 1901 г. он, от имени социал-демократии, обращается в «Искре» (N 4) с призывом к земцам и, верный тону социал-демократической газеты, он пишет о «железной поступи рабочих батальонов». Но зашевелились либералы, и Струве, уже через год, ставит «Освобождение», где от имени умеренно-либеральных земцев рекомендует уже не «железную поступь», а ту политическую иноходь, в которой «дерзание» соединено с «мудростью» («Освобождение» N 62). Теперь вот Струве со своего обсервационного поста опытным глазом приметил, что Крестовников в Москве без национальной идеологии ходит и стеариновые свечи продуцирует без философских предпосылок. И Струве садится создавать для Крестовникова философию, в которой стеариновый барыш принимает облик национально-государственной идеи, а эта национально-стеариновая идея, в целях самообороны, вооружается защитным запахом антисемитизма. Eins, zwei… drei… Das ist keine Hexerei! (Раз-два-три… фокус сделан чисто!).
Когда некий простец справился у Струве: в какую графу его биографии отнести написанный им социал-демократический манифест? – Струве объяснил ему, что идей написанного им самим «манифеста» он никогда не разделял, а просто «по просьбе» формулировал господствующие предрассудки марксистской «церкви». Отчего бы и нет? Простец так и пропечатал. И, может быть, года через два другой простец догадается сообщить нам, что Струве никогда сам не испытывал собственно расовых притягиваний и отталкиваний – скажем стихийного притягивания к черногорскому князю и непреодолимого отталкивания от И. Гессена: нет, он лишь «по поручению» формулировал господствующие предрассудки славянофилов и антисемитов в терминах всемирного тяготения…
Может быть, в моменты приступов высокомерия, Струве воображает себя не связанным ни с одним классом, ни с одной партией, ни с одной идеей, а непосредственно состоящим в распоряжении Матери-Истории генерал-инспектором по делам идеологии. Нет ничего высокомернее доктринера! А Струве был и остается доктринером до мозга костей.
Доктринером он называл себя сам в предисловии к своей первой книжке «Критические заметки», и хоть против доктринерства он вел с той поры не одну кампанию, однако же этой своей черте, вернее, сущности своей, не изменял никогда… Доктринер не тот, кто ставит себе большие цели и, обгоняя события, заглядывает вперед, – как хочет думать маленькая мудрость, которая своим назойливым фальцетом издевается над всем, чего не понимает. Доктринер – тот, кто боится или не умеет материю жизни брать в ее материальности: интересы, как интересы, страсти, как страсти, борьбу, как борьбу, пощечину, как пощечину, – кто всю нашу великолепную, хаотическую, беззастенчивую жизнь должен предварительно пропустить сквозь призму идеологии (права, морали, философии), прежде чем откроет в ней вкус. А в этом и состоит единственная подлинная «страсть» Струве, роднящая его с немецкими профессорами доброго старого времени: ночным колпаком и полами своего философского шлафрока законопачивать все дыры мироздания.
Эстет требует от жизни только «красивости»; он думает, что Варфоломеевская ночь происходила для того, чтобы впоследствии послужить материалом для бурной оперы. Доктринер видит в жизни лишь внешние схемы. Точь-в-точь, как дон-Гусман-Бридуазон, судья у Бомарше,[137] он готов повторять: «Форма, форма-с… святое дело». «Суть тяжбы принадлежит тяжущимся, но форма ее составляет неотъемлемую собственность господ судей». Доктринер думает, что разрешил смысл великой социальной тяжбы, когда установил юридический смысл манифеста 17 октября. Практический делец укрывается за такие идеи, как «национальное величие» или «свобода в порядке», а доктринер верит, что они действительно способны регулировать жизнь. Верит и Струве, – по крайней мере, хочет верить.
При всем своем доктринерстве, и на девять десятых благодаря ему, Струве благополучно выполнил в высшей степени «реалистическое» поручение: помог широкому слою русской интеллигенции, долгим и кружным, но верным путем, освободиться и от идеи «долга народу», и от «трудового начала», и от «идеи четвертого сословия», и от других старых идей, которые были заповедями, а стали словами; освободив же, помог придвинуться к новым идеям: «Великой России», «дисциплины труда» и «национального лица»… Через болото политического отступничества он неутомимо перебрасывал для интеллигенции идеологические мостки, – да не преткнется ногою своею… Этим исчерпываются его исторические заслуги.
У г. Струве есть одна в высшей степени – как бы сказать? – неуместная черта. При своей доктринерской черствости он весьма склонен к лирике и пафосу дурного тона (ремесленная подделка под Герцена!), очень любит о «честности высокой» говорить, о «незыблемых» убеждениях, о «раз избранном пути» и даже об «Аннибаловых клятвах». Никто, как он, не любит клеймить беспринципность, нравственный оппортунизм, переметчивость, ренегатство.
Когда Витте в борьбе с Плеве начал играть неожиданными красками политической палитры, Струве заявил о своей органической неспособности понять психологию человека, руководящегося обстоятельствами, а не «убеждениями и принципами». Когда г. А. Гучков, пребывавший дотоле в тиши, впервые показал в декабре 1905 г. свои натуральные мануфактурные уши, Струве сурово призвал его к ответу. «А. И. Гучков в лагере русского общества, – писал он, – начинает делаться тем, чем гр. Витте окончательно определился в лагере русского правительства». При этом Струве удивительным образом умел не видеть, что сам он в лагере русской интеллигенции выполняет ту именно роль, что Гучков в лагере капиталистической буржуазии. – И, наконец, пример последних недель. Когда на старца Суворина обрушился позор его пятидесятилетнего юбилея, кто бросил ему в лицо «слабость его нравственной природы»? кто говорил о «националистическом мускусе», который Суворин вспрыскивал в тело старого порядка? кто предлагал издание исторической хрестоматии «Нового Времени»?.. Кто швырнул в блудницу первый камень? Тот, кто сам без греха: господин Петр Струве, рыцарь незыблемых принципов, которому не страшны никакие «исторические хрестоматии» в мире!..
Как хотите, это поразительно! Казалось бы, в тот момент, когда все рефлекторы прессы направлены на Суворина, именно Струве следовало бы с достоинством постоять в тени. Ибо в конце-то концов: Незнакомец-Суворин начал свою карьеру, как национал-либерал, а полувековой юбилей свой встретил, как консервативно-националистический антисемит. А Струве начал как интернациональный социалист, а через десять-пятнадцать лет определился как консервативный, антисемитски окрашенный национал-либерал. Путь, пройденный Струве, никак не короче. Что же кроется в пафосе его негодования? Грубое лицемерие? Или святая простота доктринера? Струве первый затруднился бы ответить на такой вопрос, если б захотел над ним задуматься…



