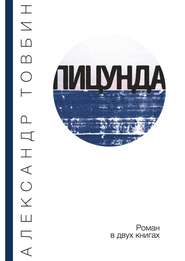скачать книгу бесплатно
Ну да, колчан, полный стрел; но – прицельным приёмом больше, приёмом меньше, а в суть никак не попасть…
Не лучше ли сразу поверить, что вопреки своим вкусовым причудам и отсебятине автор тоже что-то когда-то читал из всеми чтимых кумиров, и, отбросив бычье упрямство, стоит всматриваться вместе с ним в события, факты, улавливая их контрасты и аналогии, чтобы (заранее?) увидеть-нафантазировать общий, организующий текст узор смыслов и формальных признаков, в котором всякая чёрточка уже наделена сквозным назначением, – ну да, текст един, всякая мелочь имеет продолжение, рифмовку с чем-то удалённым, сбывшимся или предстоящим, дабы активизировать весь узор гипнотическими повторами значимых элементов, приобщая к тревогам будущего…
Хотя мы, влетая в будущее без оглядки, вытаптывая его, оставляя позади, бездумно превращая в прошлое, каждый раз проскакиваем предупредительные сигналы… Наблюдая за потешной балансировкой прыгающего по волнам лыжника, перечеркнул страницу крест-накрест.
Да, невнятица.
И номер такой не пройдёт, прошлое напомнит в нужный (самый неподходящий) момент о таких сигналах, оставшихся позади, неожиданно впрыгнет на плечи, придавит, пригнёт, заставит вспомнить-ужаснуться и – забросит вперёд новые сигналы-предостережения.
Так-то: в жизни, которой живём, не замечая её, и без всяких умствований всё сцеплено, тайно взаимосвязано и текуче; всё, чем живы, одномоментно протекает в большом времени индивидуального сознания, где нет случайностей, ни одной – всё, что было и есть, любая мелочь, вдохновляющая ли, удручающая – начало, что-то ещё случится, жди продолжения.
Да-да, не грех повторить, так и в городе: по мере развёртывания пространственной композиции происходит сравнение интуитивно ожидаемого с увиденным, подтверждающее или опровергающее сигнал пластического фрагмента-извещателя, и связанное с ним первоначальное предчувствие, в результате чего фонд накапливаемых зрительных впечатлений поэтапно реконструируется, а смена кадра, происходящая при переходе с одной промежуточной позиции на другую (заворот за угол хотя бы) становится визуальным стимулом для дальнейшего движения. Это универсальные закономерности восприятия композиции, работающие как в городе, так и в литературном тексте, без учёта их – не заронить волнение, главное для прозы. Волнение, колокольчик, неожиданный звонок в дверь, а кто за дверью – ха-ха, не почтальон ли? – пока неизвестно, но ожидает встреча, что-то случится, и тревогой надо бы пронизать каждое слово, строчку, факт, событие, сцепив их между собой вопреки пространственно-временным промежуткам, разрывам-пробелам, видимому отсечению связей в наспех собранной схеме: избегать фарфоровых, мешающих пропустить ток волнения изоляторов, не разбивать текст на герметичные отсеки, художественный текст – не подводная лодка, для плавучести нужна глобальная открытость смыслов, образная система сверхпроводимости, света, бегущего по включённым в единую цепь фрагментам. Нет главного и второстепенного, тусклых минут и звёздных часов; изнанка и лицо – продолжающие одна другую поверхности ленты Мёбиуса, фон плавно вывёртывается на передний план, две стороны медали сливаются в одну, третью, всё важно – точка, запятая, точка с запятой… Сшибка и покой, напряжение, интуитивное угадывание сквозной темы и – тайна: как всё же складывается главное впечатление?
Из какого равномерно распределённого словесного материала кристаллизуется решётка поэтики?
Благодаря чему, по словам кого-то из древних, искусство не выговаривает и не скрывает, но – знаменует?
Пытаясь проникнуть хотя бы в прихожую тайны, читал эпический роман, ту его главу, где рассказано о путешествии проданного в далёкую страну мальчика – путешествии тягуче длительном, предначертанном высшим смыслом, узором судьбы, нарисованным Богом; тяжеловесная мудрость отца, тупость и, оказывается, функционально прозорливая враждебность братьев, действенная типология характеров, неспешное, как укачивающий шаг верблюдов, развёртывание спрятанных в тёмном начале начал содержаний, звонок-гонг здесь, сейчас звучит или доносится сквозь века бренчание колокольчика на шее верблюда, которого ведет чувствующий свою избранность мальчик? Предназначение, открытость судьбы в грядущее, звонок… или так настойчиво бренчит колокольчик, неправдоподобно далёкий?
Услышал-таки звонок…
Открыл дверь, удивлённо повертел длинный конверт, в целлофановом, с закругленными углами окошке которого увидел вдруг (обухом по голове?) типографски набранную свою фамилию, имя, странный обратный адрес, странную, словно произносимую с забитой горячим песком пустыни гортанью фамилию отправителя, имя его, выплывшее из библейской, но, выходит, чем-то родственной и ему, атеисту и космополиту, исторической глубины; пугающе многозначительный, выводящий из размеренного чтения манновского «Иосифа…» конверт: вызов.
Сам виноват, искусственно поднял давление; драматизирует любую безобидную ситуацию, вот и выбит из колеи, как на качелях: уехать – остаться, и раскачивается туда-сюда, а ничего не меняется, и литературную задачу поставил себе чересчур сложную, толчёт воду в ступе, даже никак начать не может, опутанный сетью предварительных рассуждений, столько страниц испорчено… Да, придётся вычёркивать, как вычёркиваются сейчас дни. У заключённого хоть есть срок, а ему-то срок не объявлен; загнал себя в угол, жизнь и замысел, всё сильнее подчиняясь необъяснимой самому воле, сжимают тисками. Пора начинать, а он всё ещё не решил с чего, и между тем садистски подкручивает на тисках ручку винта и – не шевельнуться, больно, а время идёт, течёт, сыплется, тикает, метроном отбивает ритм, качается взад-вперёд маятник в полом теле собора, а земля тем временем вертится, не ждёт.
Мне Брамса сыграют – я сдамся, я вспомню упрямую… ……… и кровлю, и вход… ……… полутёмный… и комнат питомник, улыбку, и облик, и брови, и рот… ………… С чего же начать?
Всё просто: ослепляющий солнечный зайчик и – заодно – маятник (Фуко), привязывающий к ритмике мироздания; колебания внутренние («Я» – ещё и мембрана?) и внешние, вечные, но входящие в резонанс с сиюминутными.
Собор – вот и завязка?
Да, собор.
Свой собор?
О, разумеется. О чём же речь?
И этот грандиозный (крупнейший в православном мире?) собор, «присвоенный», «свой», подаренный стечением обстоятельств, не открыточный, принадлежащий всем ахающим и охающим, а именно «свой», начинённый нежданными деталями, будто бы наспех «упакованный», он не смог бы забыть…
Ещё бы, повезло увидеть собор таким, каким не могли увидеть его другие, и если указала ему судьба путь на Запад, роскошный златоглавый собор со всеми его неподъёмными пластическими и декоративными богатствами, представшими перед ним в столь необычном обличье, тоже подлежал бы нелегальному – мимо таможенников и пограничников – вывозу за кордон.
С детства побаивавшийся в незнакомом пространстве темноты Соснин, как бы пересиливая инерционный страх, отставал от группы сокурсников, с которыми направлен был в Исаакий на обмерную практику, и бродил по затемнённому собору один, безотчётно полюбил его, проникся его излучающей цветистый сумрак тайной, начал было считать, что знает этот собор так же хорошо, как мог бы знать его какой-нибудь скоротавший здесь долгую череду дней своих настоятель, или (аналогия с Квазимодо коробила) проще: смутно воображал себя необходимым пусть всего-то на месяц обмерной практики, но живым приложением к собору и продолжением его, чутко улавливающим пульс неподвижности, ритм беззвучных каменных вдохов и выдохов, жутковатые, как крики совы ночью, звуки – скрипы и хлопанье створок, посвисты сквозняков, беспокойное, словно ворочанье спящих в бараке или казарме, копошение голубей.
Действительно, многое успел увидеть в соборе, узнать, запомнить; его переполняли-распирали впечатления, как если бы огромный собор уместился в нём.
Однако вопреки чрезмерностям всего, что уже увидел, узнал, он вдруг спотыкался о порог нового впечатления, обнаруживал в себе восторг и благоговение пилигрима, случайно заглянувшего из солнечного дня во тьму за приоткрытой массивной дверью и ослеплённого великолепием иконостаса.
Соснина, с самоотречением молодости молившегося тогда, по окончании первого курса архитектурного факультета, на новомодную геометричность коробок, вопреки сыплющимся в доверчиво оттопыренные уши предупреждениям о дурном вкусе, отсутствии чувства меры и прочих грехах, якобы отличавших громадину Монферрана от другого, прекрасного и гармоничного (как безоговорочно считалось), с закруглённой колоннадой, воронихинского собора, Казанского, властно притягивали тускло мерцавшие малахитово-золотые внутренности Исаакия, мощные гранёные пилоны главного нефа, волнующее смешение стилевых рисунков в декоративном убранстве, бесстрашные, вроде бы поверх правил – и многозначительные! – наслоения живописи, скульптур, пластических профилей и деталей, позволявшие вследствие демостративных перегрузок композиции вообще отделить это неумеренное пиршество форм от скудных тогда ещё профессиональных представлений Соснина, после разоблачения «архитектурных излишеств» верноподданно замыкавшихся на уютно-р-революционном в те годы идеале строгой и лаконичной, почитавшей простоватые тектонические зависимости, «хорошей» архитектуры.
Да, собор жил сам по себе, в новомодные – единственно верные – правила и нормы, само собою, не вписывался, а растянувшаяся надолго послевоенная реставрация многое ещё скрывала от любопытных глаз в исполинском соборном чреве, лишала его завершённого парадного блеска, но зато и на каждом шагу добавляла что-то к изначальной его безмерности, многократно усиливая в путешествиях по собору загадочность зрелища.
Недостроенная сокровищница?
Недограбленная гробница?
Или – вот и пространственная графика трубчатых железных лесов терялась где-то там, в голубовато-пыльной подкупольной выси, как если бы и впрямь собор ещё только рос, строился?
Или, напротив, разбирался на части, да так, что их, демонтированные части эти, к чему-то тут же пристраивали?
Забыв про тетрадку, море и рощу, забыв даже про рюмку с недопитым коньяком, погрузился в давние впечатления.
…Стоило, однако, сделать неверный шаг в сторону с любой из взаимно перпендикулярных осей симметрии – и мнилось уже, что это не конкретный (уникальный!) собор, зашлифованные камни которого можно потрогать, а изобильный до чрезмерностей собирательный образ собора, сконцентрировавший в себе непостижимое и неописуемое богатство архитектурных форм – как фасадных, так и интерьерных: всё, что когда-то было придумано, вычерчено, отлито, вылеплено, высечено, расписано – вместе, скопом, в антизаконно-причудливой уплотнённости и изукрашенности, причём всё это зримое многообразие хотя и кое-как, словно наспех, но – полностью упаковать не успели? – для пущей таинственности было лишь фрагментарно, там и сям, прикрыто, обёрнуто, занавешено рогожей и мешковиной.
Так всё же строился-собирался собор в восприятии-воображении или разбирался на части?
О, раз за разом он, обходя собор, спускаясь и поднимаясь по лестницам, коллекционируя головокружительные ракурсы, задавался этим вопросом. Формы и красочные пятна мозаик и облицовок пребывали в движении, в непрестанном становлении, как если бы развёртывался вокруг не материальный ансамбль из каменных форм, подчинённых вполне строгому крестообразному плану, а зримая метафора замысла, самого процесса длящегося Творения, сращивавшего пространственные фантазии Монферрана с фантастичной инженерией Бетанкура.
Да, именно так: ощущал, что творение длится сейчас, на его глазах!
Переливающееся в сумраке сверкание драгоценностей, цветовые вспышки, контрастную игру фактур тут и там перечёркивали грубые щиты и раскосы дощатых, в щетине заноз лесов, тире и дефисы перекидных мостиков и тут же, в зрительных наложениях, клети других лесов, трубчатых; роспись арочных сводов, позолоченное руно волюты, зашлифованный малахитовый ствол внезапно выглядывали из прорех в защитных полотнищах рогожи, мешковины, которые, кое-где отцепившись, криво свисали откуда-то сверху, словно древние прохудившиеся знамена, штандарты, или топорщились морщинистым выменем. Он невольно принимался угадывать по блеску позолоты и малахита в дырах рогожи, каковы же они, обёрнутые ею, рыжей рогожей, колонны; и невольно опять-таки думал: а заплатами пустот в красочной клетчатке иконостаса – изымались или добавлялись какие-то элементы изобразительности?
Метафора становления, метафора замысла, метафора вымысла, домысла…
Промысла? Да-да-да, главное в том, что это была метаметафора-метаморфоза.
Но был ли в неудержимом метаморфизме вроде бы статичного зрелища хоть какой-то порядок?
Пышность и изобильность зрелища, загадочное и тревожное (?) сочетание многоцветных камней и позолоты, прямых и упругих линий, дуг лучковых фронтонов, пилонных выступов, карнизов, ниш, фактур порождали самые разные ассоциации и вдруг начинали восприниматься как фантастический натюрморт, каким-то образом скомпонованный не столько из обломков архитектурных форм, сколько… из обломков стилей, и потому Соснин попадал в плен эклектического, а может быть, уже тогда, в середине девятнадцатого века, напророчившего краткий расцвет модерна (и даже постмодерна) разнообразия, порывавшего с монопольно-канонической скукою классицизма.
Впадая в транс от попутных видений, он не мог не увидеть собор иначе, совсем не таким – «законченным» и при всей пышности своей будто бы каноничным, – каким станут вскоре, после реставрации, предъявлять его экскурсантам.
Но тогда ни экскурсантов, ни служителей культа – на везение – не было.
День за днём в полном одиночестве (за компанию со сквозняками) путешествовал он по лестницам и переходам собора, словно по артериям непостижимо-сложного, чудесно окаменевшего организма и лишь ненадолго выбирался из взблескивавшего сумрака на свет божий – загорал на горячих сковородах медных, в изумрудных лишаях патины кровель или вспоминал-таки о рулетке, линейке, карандашах, выполнял урок: забравшись на наружные леса, прислонённые к доверенному студентам-обмерщикам западному портику, прикладывал рулетку к модульону, затем – к промежутку между модульонами, затем проводил на бумаге размерные линии, записывал цифры или, раскатывая по фризу рулон кальки, копировал загадочное посвящение, набранное славянской вязью: «Царю царствующих».
Вскоре, однако, отложив блокнот с обмерными эскизами, зачем-то ощупывал гладкую и прохладную (в тени) поверхность фриза, выступающие из-под фриза вогнутые абаки коринфских капителей, а поднявшись по металлической стремянке, связывавшей разные уровни лесов, в остром углу фронтона машинально проводил пальцем по сходящимся на ус линиям гуськов и полочек. И однажды в этой соблазнительной точке схода, в вершине фронтонного треугольника, его, выскочив из-за спины, неощутимо схватил за руку пушистый солнечный зайчик – схватил, подержал, отпустил, игриво попрыгал на отвесной фронтонной плоскости, потом бесстрашно-весело заплясал над мраморным обрывом карниза, а когда Соснин обернулся, зайчик, соскользнув с модульона, слепяще резанул по глазам – высунувшись из арочного окна последнего этажа дома, темневшего напротив собора, круглолицая девчонка забавлялась с зеркальцем; еле слышно прыснул далёкий смех, проказница растворилась в чёрном омуте комнаты.
И где, где пушистый прозрачный зайчик?
Только что дрожал, прыгал…
Отвлекла: внизу выруливал из виража, огибая угол собора, синий троллейбус, напротив хмурился тёмно-серый фасад, расчленённый рядами арочных, в обрамлении пилястрочек окон, правее – ещё два дома, за ними – кипящие на солнечном ветру бульварные липы и игрушечный Конногвардейский манеж, ещё дальше – макетно-маленький жёлто-белый Росси, блещущая Нева; да, троллейбус благополучно зарулил на бульвар – не пора ли вернуться вовнутрь, в соборные сумерки?
Внешнее, внутреннее?
Или внешнее и внутреннее, лицо и изнанка, подкладка… субстанции, как и поверхности ленты Мёбиуса, перетекающие одна в другую, по сути образуют единство?
Короче, отправлялся за неожиданностями в новое путешествие…
В один прекрасный день, забираясь всё выше, решился на штурм изнутри; это была незнакомая альпинистам попытка проколоть изнутри полую рукотворную гору-сферу и очутиться снаружи: на воздухе, на вершине сферы, у светового надкупольного фонаря, под крестом, на окружавшем фонарь тесном балкончике.
Когда лестница стала уже и круче, отвратительный бордель голубей подсунул ему вместо порога притолоку, он больно ушибся и подумал было, что ещё не поздно обратиться в бегство, спуститься (признав поражение?), но понадеялся всё же, что как-то всё обойдётся с небесной помощью. Упрямо лез и лез ввысь, ещё выше, ещё, духота сгущалась, но пока он ещё мог терпеть, карабкался. Становилось уже невыносимо жарко, он начинал задыхаться, но удушье опередил кошмар заполненной миазмами плавящегося голубиного помёта газовой камеры, и всё же из последних сил – вверх, к бледному струению света; к пропылённым лучам уже ближе, гораздо ближе, чем к клубящейся тьме внизу… Однако как же хочется прыгнуть вниз, броситься, пусть и превратившись в мокрый мешок с поломанными костями… Есть ли шанс выбраться из этой удушающей жаркой тьмы, глотнуть свежий воздух?
И почему – молния в гаснувшем сознании – девчонка из дома напротив, казалось, тонувшего в тени собора, достала его отражённым лучом?
Случайность?
Вновь мелькнула в окне с сияющим кружочком в руке, глаза повторно залепил солнечный зайчик… Прохладный ветерок гулял снаружи, на лесах портика, и перед ним, ослеплённым, вырос густой влажный лес, косо прорезанный голубоватыми лезвиями; за пиками елей возникла в облаке радужных брызг кипящая Ниагара… Удалось вдохнуть полной грудью, и галлюцинации оборвались; пыльный свет струился всё ярче и совсем близко, если бы хватило сил поднять руку, свет можно было бы пощупать, и где-то высоко, за блеснувшим узким стеклом, растеклось уже белёсое небо, а вот и – почему-то чудесно приблизилась – точка подвеса маятника, и вот ещё шаг всего, последний шаг надо сделать из-под паутины металлоконструкций, шаг к небу, и – удача! – не заперта створка, можно вылезти на узенький круговой балкончик, обрамляющий световой фонарик с крестом… Остался-таки внизу раскалённый купол, удалось, пронзив купол изнутри, очутиться снаружи, над макушкой его.
Только что чуть не погиб от удушья, а внизу – ноль внимания: едва различимые, суетливо-равнодушные муравьи, игрушечные машинки, троллейбус…
Шагнул из тёмной вонючей духовки в небо и, захлебнувшись ветром – испугом-восторгом? – присел на корточки. За прутьями решётки плавно, словно мощным выпуклым веером, расходилась вниз и во все стороны золотая сфера, и простирался за ней, за круговым контуром её, Петербург.
Золотая сфера оказалась огромной, невообразимо огромной.
И он был – над ней?!
Был… Это не сон? Не верилось.
Нет!
Не был, не был…
Или всё-таки – был?
Он тогда глубоко дышал и не мог надышаться, а вдыхая-выдыхая, не мог насмотреться. Теперь же, вспоминая умопомрачительное приключение своё, понимал ещё и бесценность увиденного – да, немыслимо было бы обменять это на другие города с другими соборами, пусть по-своему и прекрасными.
В странной неудобной позе, полусидя-полулёжа на узком балкончике, не решаясь встать на ноги, как если бы ему нужна была для сохранения увиденного именно с этой уникальной точки зрения долгая фотовыдержка, не мог отвести глаз от необъятной золотой сферы, неподвижно выползавшей из-под него и – зависнув – падавшей на монохромную мозаику крыш.
А внизу (на дне какого-то другого мира?), на сей раз не ведая о его, вознёсшегося, воодушевлении, медленно, с предосторожностями огибал собор очередной синий троллейбус, маленький-маленький… да-да, маршрут № 14, Смольный – Площадь Труда.
Итак, вокруг исполинской золотой сферы, на вершине которой он очутился, простиралось ячеисто-мозаичное тело города: сплочённые воедино крыши, фасады, дворы-колодцы, фактурные лоскутки парков, рукава рек, пазы улиц.
Отдышавшись, как на вечную свою собственность взглянул на Адмиралтейство с иглой, на Биржу и широченную Неву, на изящный, вытянувшийся выше облаков шпиль Петропавки. А если обойти фонарь, можно было увидеть медный (пятнисто позеленевший) купол другого собора, ультрамариновые купола третьего, колокольню Успенской церкви (ещё была!), и, в который раз обходя фонарь, угадал вдали уличную решётку Васильевского, а куда ближе была арка, выводившая на Галерную… Глубоко внизу – два взгляда в разные стороны – два разделённых собором, отталкивающихся от пьедесталов, чтобы поскакать к Неве, всадника, и где-то на границе с невским устьем – похожие на прозрачных жирафов портовые краны; романтичная ржавчина доков, стальной блеск залива, остров, там же, на продолговатом острове, снова собор…
Придя в себя, всё ещё жадно всматривался, будто знал, что первый опыт этого восторженного кругового обзора станет последним.
Город напомнил лёгкие на плакате в медицинской энциклопедии. Город был тогда ещё компактным и мускулистым, контуры его словно размывались полями и лесами, акварельно истаивавшими на границе с небом – там, куда противоестественно вытянулась теперь хлипкая, серо-грязная панельно-блочная плевра, вытянулась, уползла даже за круговой горизонт, где снова из топи непроходимых луж, на пустырях намытой пульпы, среди свалок и обломков бетонных плит зачем-то продолжал тягостно расти город, совсем иной, отказавшийся от своей исторической уникальности, как бы отслоившийся от самого образа Петербурга – величественного, исключительного, блистательного, постыдно такой же, как все новейшие бескрайние «застройки» из белёсо-серых брусков и торчков, дыряво-полосатых, словно картонных, вопреки отличиям – одинаковых, равномерно засорявших территорию, с рубероидно-битумной безнадёжностью плоских крыш, чахоточными рощицами телевизионных антенн…
Из будущего, которое уже давно стало прошлым, вернулся на ветреную вершину купола.
Тогда вокруг городских лёгких, разделённых на две половинки Невой с чёрточками мостов, действительно был резервуар зелени, дышалось вольно, жизнь удачно так стартовала – вырвался (чудом, но и не без собственных усилий) из удушающей тьмы на свет, увидел город сверху – весь город, обнимающий этот вознесённый в небо крест и узкий круговой балкончик под ним, эту огромную золотую сферу.
Но почему же так засвербило?
Вероятно потому, что в тот самый день с дразняще-слепящим солнечным зайчиком и мучительным подъёмом на золотой купол принималась искать свой петляющий и пунктирный путь наша история…
Обжигающе-приятным показался глоток паршивого коньяка; ещё один листок плюща спланировал на страницу…
И опять, опять – жанр?
Действительно, за мемуары обычно садятся на склоне лет, причём главным образом люди известные, даже знаменитые, обременённые знаниями и мастерством в прославившем их деле, знакомствами, а то и дружбами с другими знаменитостями; люди, пережившие эпохальные потрясения и волею судьбы удостоенные священного сана летописцев: их молчание считается подозрительным, им следует поскорее высказаться, все, открыв рты от любопытства, ждут, что они скажут, и всему готовы поверить: беспроигрышная позиция – писать на проценты с известности.
Впрочем, не стоит завидовать.
Рассказы одних знаменитостей о встречах и беседах с другими знаменитостями, молниеносные подмены (с ловкостью фокусника) лавровых венков терновыми, разнооттеночные намёки, мелкие уколы любви, трогательно дозированный мышьяк иронии и… Даже покаянно бухнувшись на колени, мемуарист, обречённый играть роль положительного героя, подчиняясь давлению амплуа, никогда не забывает оставаться самым умным, порядочным, смелым, находчивым, тогда как его близкие великие (гениальные!) друзья, конечно, люди прекрасные, но (как он благодаря прозорливости своей давно понял) с милыми чудачествами, слабостями, им свойственно ошибаться, правда, по пустякам, так, временные заблуждения – не смогли, не сумели, не успели, несвоевременно очаровались или разочаровались, с кем не бывает?
Бывает, только не с автором-мемуаристом – живым, благополучным, знающим, что из-под могильных плит не вышлют опровержений, и потому – безнаказанным, чувствующим себя вне подозрений.
Несимпатичная получается позиция, хотя, конечно, прибыльная.
Прибыльная, но всё-таки уязвимая.
У знаменитостей обычно много знаменитых друзей, и они все тоже за мемуары в свой час садятся, чтобы написать о тех, кого все знают, но о ком хотят знать ещё больше: что сказал, чем отобедал, где и в какой компании выпивал, кого любил, презирал, с кем и когда подрался, пользовался носовым платком или чужой накрахмаленной скатертью – все друг про друга, впадая в маразм, пишут, все на виду, всех обожают и изучают, преследуют и исследуют, обижаются, переиздают, нарушают и восстанавливают справедливость, честь и достоинство, цитируют с мюнхгаузенской убеждённостью, смело запутываются в противоречивых оценках и запускают свару: кто прав? Кто виноват? А ты кто такой? Клубок тел, куча-мала, не разнять.
А потом пыль оседает; угощая друг друга последними щипками и тумаками, отряхиваются, потирая шишки, улыбаются виновато, мирятся, а равнодушное время, пристрастно отбирая факты, расслаивает честолюбивых драчунов по категориям-номинациям: столпы нации, пламенные революционеры, гордость культуры, корифеи науки, провидцы, рупоры, знаменосцы.
Остальные, которые не рупоры, жили-были, любили, писали, пили, но шли не в ногу, не улавливали ритм – второй сорт, явно помельче.
Соснин не ко времени брался за свои так называемые мемуары: средний возраст, куда спешить?
Сам не знаменит, надежд не оправдал (пока?), те, кто его окружал и о ком можно было бы рассказать, тоже никакими геройствами не успели прославиться: люди как люди, кому они, кроме самого рассказчика, интересны?
В том и преимущество писания для себя – никто не осудит, не усомнится в правдивости, не встанет на защиту какого-нибудь обиженного кумира.
Во-первых, кумиров у него нет.
Во-вторых, какая обида вообще могла бы возникнуть, если он никого и ничего не собирался оценивать: прав, виноват, нашёл, потерял.
Ему не чьи-то изъяны важны, не елей, а лица, словно и не связанные с реальностью, не связанные между собой, но проросшие через его судьбу.
Всё прочее – до лампочки. Мемуары, где есть только мемуарист? Ну да, сказка про белого бычка: автор-мемуарист (он же – романист) со своим «раздробленным» (на три лика) «Я» в писаной торбе, да-да, все лица – фас, профиль, три четверти – «Я».
Нонсенс!
А что? Нонсенс как жанр…
Отрешённый и опустошённый, едва слыша, как перебирает-просеивает гальку уставший прибой, бредёт в перерыве между дождями по безлюдному пляжу…
И вспоминает, вдыхая влажный пряный октябрьский воздух субтропиков, мартовское утро с морозцем и, как ни странно, с радугой – утро, когда шёл к метро, а раздумья ни о чём и обо всём сразу расплёскивались, выплёскиваясь из растревоженного сознания.
Что всё-таки это могло быть…
Спонтанное портретирование сознания?
Или всего-то – мешанина из смутных предчувствий?
Тогда ещё не получил вызова, но испытал опережавшую рутинный эпизод «доставки корреспонденции» интуитивную встряску и неожиданное чувство готовности, которое не знал тогда, к чему приложить; теперь-то он понимал, что внезапный напор противоречивых импульсов и картин, словно взявшихся ниоткуда, призван был расшатать внутренний мир, чтобы перенастроить его. Это и стало отправной, «толчковой» точкой, а уж явление почтальона с конвертом – лишь достоверное (оформляющее) следствие того внутреннего толчка…