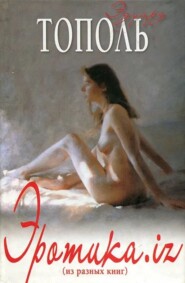скачать книгу бесплатно
Кровь гнева и гордости бросилась в голову Иосифу.
– Убери их! – резко крикнул он, разом поняв наконец, что имел в виду Песах, когда говорил, что сегодня ночью ему будет не до переговоров с русским князем. Но пусть этот Песах хоть трижды великий полководец, как он смеет так насмехаться над ним, сыном Царя! – Убери их сейчас же! – на иврите повторил свой приказ Иосиф.
Но скопец-евнух лишь отрицательно покачал головой.
– Я не хочу потерять и голову, переча тебе, царевич, – сказал он по-персидски. – Но выслушай меня. Ты не можешь не принять этого подарка. Великий Песах отнял их от своего сердца, ведь я выбрал их для него, а не для тебя…
Хитрый перс снова пошел со светильником от девушки к девушке, освещая их тонкие фигуры и потупленные долу лица.
– Конечно, он мог послать тебе золото или меха. Но что золото для Песаха или для тебя, царского сына? Песах отдал тебе самую сладкую добычу, смотри! Если ты выгонишь их, ты оскорбишь первого хакан-бека своего отца! Можешь не брать их всех, можешь оставить себе только одну, но отказаться от такого подарка…
Иосиф уже и сам понял, что не может так грубо обойтись с Песахом, который только сегодня утром спас ему жизнь. К тому же он действительно восемь дней и ночей без отдыха гнал русского князя и загнал его точно в капкан, и, значит, ему принадлежит часть добычи – не только по праву царского сына, но и по праву воина.
Иосиф поднял глаза и посмотрел на пленниц, которые, потупившись, с тревогой прислушивались к гортанным звукам персидской речи. Только теперь, когда угас его гнев, он смог разглядеть их по-настоящему. Конечно, он был мужчиной к этому моменту, он познал уже трех персиянок и одну девственницу-гречанку из гарема отца, но робость мальчика вдруг вошла в его сердце. Потому что не видели дотоле глаза его такой красоты. Все в них было странно, волнующе и ново для него, черноволосого и приземистого шумерийского семита: их шелковые волосы цвета меда, их тонкие белые лица, их плечи цвета слоновой кости, их маленькие груди, закрытые круглыми накладными коробочками из чистого золота – знака принадлежности к богатому сословию, их высокие и узкие, как морские водоросли, тела и их стройные белые ноги. И впервые в своей короткой жизни оробел избалованный хазарский царевич, и не знал, кого из этих див выбрать для своего удовольствия, и застыл в затруднении, потому что все они были прекрасны, как нордические богини, и казались такими же недоступными, хотя и стояли пред ним с опущенными в землю глазами.
И вдруг одна из них, крайняя, с тремя нитями крупных зеленых бусин на шее, каждая из которых стоит шкурку соболя, с золотыми коробочками на груди и золотыми гривнами-браслетами на руках и ногах, вскинула свои пушистые ресницы и глянула на Иосифа прямым взглядом. Голубыми были глаза у нее, серо-зелено-голубыми, как иней морозным утром, и такими бездонными, что разом ослабли колени Иосифа, и язык пересох, и мысли спутались. Словно нырнул он в ледяную, как прорубь в зимнем Итиле, глубину и там, в этой изморозной глубине, его вдруг обдало жаркой, горячей языческой жертвенной кровью…
Но в тот же момент евнух-скопец резко вскинул плетеную нагайку, чтобы ударить пленницу, дерзнувшую поднять глаза на сына Царя. Однако Иосиф жестом удержал его руку.
– Эту! – сказал он. И, смутившись, ушел в свой шатер.
Он не видел и не слышал, как перс в досаде сказал: «Царский выбор!» – и как он наотмашь ударил избранницу Иосифа по лицу своей пухлой ладонью в перстнях.
Ночью, по вызову Иосифа, евнух Песаха привел ему эту девушку. Теперь она выглядела еще бледней и прекрасней, чем раньше. Она была чисто вымыта помощницами евнуха, красиво одета в златотканые и прозрачные турецкие шелка, она пахла арабскими травами, а ее медовые волосы были расчесаны и заколоты костяным гребнем с дорогими зелеными камнями. Но во взгляде ее – прямом и твердом взгляде ее голубых глаз – не было ни страха рабыни, ни испуга пленницы. Наоборот, теперь она выглядела даже старше пятнадцати лет и, к изумлению Иосифа, оказалась выше его ростом – не намного, может быть, всего на треть ладони, но и с этой высоты она смотрела на него надменно, высокомерно, властно.
Ее рост и взгляд смутили Иосифа и выбили его из ритуала обращения с женщиной, знакомого ему по отцовскому гарему. Там, в Итильском гареме, и опытные в любви персиянки, и девственница-гречанка не смели и глаз поднять на сына великого хазарского кагана, а сами разували и раздевали его и изысканными ласками воспламеняли его плоть и утоляли ее. Но эта русская пленница отнюдь не собиралась склоняться к его обуви, а своими холодными глазами свионки, как стальными клинками, отстраняла его от себя.
Эта неожиданность, эта ледяная ее надменность в глазах и в осанке заставили Иосифа застыть и набычиться, как застывает теленок перед неизвестным ему зверьком.
И так – без слов – стояли они друг против друга: две крайние противоположности людской расы, шедшие к этой встрече тысячу лет, – опаленный безжалостным солнцем Египта и Персии израэлит и нордически-холодная русская дива. Судьба вела их через раскаленные пески и ледяные фиорды, путем кровавых битв и скитаний, чтобы здесь, посреди евроазиатского континента, на крутом берегу Днепра, поздней июльской ночью 941 года поставить лицом к лицу. Но и встретившись наконец, они не увидели в этом ни знака замирения своих богов, ни оправдания тысячам трупов, которые легли на их длинном пути друг к другу.
Глядя друг другу в глаза, они, как два столкнувшихся на лесной тропе зверя, в полной тишине, нарушаемой только трепетом свечей и кипением оплывающего воска в подсвечниках, сторожили каждый жест и даже движение ресниц друг друга.
Конечно, если бы это была случайная встреча на случайной тропе, русская дива первой бы отвернулась от Иосифа и надменно удалилась в чащу своей загадочной северной жизни, как отворачиваются знающие себе цену принцессы при виде оробевшего юнца. Но она была пленницей, трофеем, военной добычей, и единственное, что она смогла сделать, – это выбрать меж старым и безжалостным Песахом и юным, неопытным Иосифом, и за этот выбор была бита евнухом. Но она выиграла у евнуха, а теперь, в шатре Иосифа, применяла последнее оружие защиты – надменность.
Однако после какого-то времени и Иосиф вспомнил о своем царском сане. Выпрямившись и гордо вскинув крупную курчавую голову, он приказал ей по-персидски:
– Разуй меня!
Она не шевельнулась, она – он понял – не знала персидской речи.
– Разуй меня! – повторил он по-гречески и жестом указал ей на свои плетеные сандалии.
Но она не реагировала. Она стояла безмолвной статуей, богиней, идолом северной красоты.
Иосиф в затруднении обошел ее вокруг. Все было прекрасно в ней – и спереди, и с правого бока, и сзади.
Сделав почти полный круг, он вдруг протянул руку, расщепил золотую фибулу на ее плече и тут же отдернул руку, потому что эта единственная застежка держала, оказывается, всю ее одежду, которая разом рухнула теперь на ковер шатра, открыв перед ним ее невозможно белое тело, стройное, как камыш, с атласной кожей, с маленькой мраморной грудью, карминными сосками, плавным изгибом высоких бедер, тонкими золотыми браслетами на руках и ногах и зелеными гривнами на шее.
Скорее инстинктивным, чем обдуманным, жестом она тут же прикрыла руками грудь и золотой пух свой фарджи. Но затем, словно с вызовом, убрала руки и осталась стоять в круге одежды, упавшей к ее ногам, как гордая статуя Валькирии на носу варяжской лодии.
Но Иосиф уже освоился со своим положением хозяина и властелина.
– Ложись, – сказал он ей опять по-гречески, потому что не знал никаких других языков, кроме греческого, персидского и иврита.
Она легла, повинуясь жесту его.
Он, поколебавшись, разделся сам и лег рядом с ней.
– Ласкай меня, – приказал он.
Но она не поняла его приказа.
И тогда он, подумав, стал сам ласкать ее, стал гладить рукой ее тело и грудь, и соски ее, и живот, и опушку ее фарджи – так, что не выдержала этого крепость ее надменности, и закрылись в истоме глаза ее, и аркой восстало ее тело на расшитом цветными фавнами шелковом матрасе.
Но когда, ликуя, вознесся над ней Иосиф, расколол своими коленями ее чресла и приблизил к ним свой ключ жизни, возбужденный, как у юного быка на греческих вазах, гортанный хриплый крик изошел вдруг из ее губ, и забилась она в руках его, крича и прося его по-гречески:
– Нет! Не делай этого! Заклинаю тебя Богом твоим! Не делай этого!
Иосиф от изумления удержал решительный удар своих бедер.
– Как? Ты знаешь греческий?
Она не ответила, а, лежа под ним, продолжала молить и требовать:
– Нет! Не делай этого! Не входи в меня!
– Ты девственница?
– Да! Умоляю тебя! Не делай этого!
– Не бойся. Это не больно. Я уже делал это однажды… – И он снисходительно, с насмешливостью многоопытного мужчины опустил свой ключ жизни к опушке ее фарджи, ища заветное устье.
Но в тот же миг она с дикой, неженской силой пантеры дернулась бедрами, ускользнув от него. И вскочила, и отпрыгнула от него, и замерла у полога шатра, зная, что нет ей отсюда выхода, потому что за шатром стоит охрана, способная легко довершить то, что не позволила она сделать Иосифу.
Иосиф почувствовал, как кровь шумерийского бешенства хлынула не только ему в голову, а во все его члены, даже в мужской корень его бычьей силы. Зорко следя за своей пленницей, он изготовился к прыжку на нее. И вдруг услышал:
– Подожди! Подожди! Я отдам тебе три города! Только пощади меня! Корсунь, Новгород, Чернигов!
Иосиф прыгнул – это был тот мощный, могучий и тяжелый прыжок, каким разъяренный лев накрывает молодую строптивую львицу. Сбив ее с ног, он опрокинул ее на спину, навалился на нее всем телом, с легкостью хищника разломил ей ноги и его мощный, бычий корень жизни слепо ударил в заветную расщелину.
– Пять городов! – закричала она в отчаянии. – Шесть! Даже Псков! Только не входи в меня! Весь левый берег Днепра!..
Иосиф в изумлении удержал свои бедра от повторного, более точного удара.
– Кто ты? – спросил он.
– Тебе не нужно этого знать! Но ты получишь все, как я сказала! – торопливо произнесла она, лежа под ним.
Он жестко подался вперед своим пахом, уперев свое живое копье в закрытое устье ее фарджи. И повторил упрямо:
– Кто ты? Говори!
Она молчала, закрыв глаза.
– Ну! – крикнул он, по неопытности не понимая смысла ее молчания. – Как тебя звать?
– Вольга, – сказала она негромко.
– Врешь! Вольга – жена Игоря Старого, князя русского.
Она молчала.
– Ну! – Он опять угрожающе ткнул ее фарджу своим живым копьем.
– Я Вольга, жена Игоря…
– Но ты девственна! Ты сама сказала! Говори правду! Или я…
– Я девственна…
Он наотмашь ударил ее по лицу так, что ее голова дернулась на ковре.
– И жена Игоря? – сказал он в бешенстве.
– И жена Игоря…
Он снова ударил ее, еще сильней:
– И девственна?
– И девственна…
– И жена Игоря? – бил он ее.
– И жена Игоря… – повторяла она.
И вдруг открыла глаза, глянула ему в глаза.
– Я жена Игоря, и я девственна. Клянусь богами.
Он сел рядом с ней и оторопело захлопал ресницами.
– Как это может быть? – спросил он наконец. – У него другие жены? Или он не любит тебя?
– Нет, любит, – горестно усмехнулась она, по-прежнему лежа на ковре. – Очень любит! И я одна у него. Уже три года. Просто он уже не может делать мужскую работу.
– Почему? – еще больше удивился Иосиф.
Она пожала своими белыми плечами, и по горькой морщинке у ее рта он вдруг понял, что она намного старше его.
– Сколько тебе лет? – спросил он, расслабленно ложась рядом с ней, потому что вместе с жалостью к этой русской княжне стала разом убывать сила его корня жизни.
– Скоро семнадцать.
– И ты не знала мужчин?
– Да. Я ведь мужняя жена. Но никто не знает того, что я тебе сказала. Мне жаль тебя, Иосиф…
– Почему? – спросил он.
Она не ответила.
Свечи серебряного светильника оплыли и погасли, и они оба лежали в полумраке, и он не знал, что ему теперь делать. Киевская княжна, юная жена варяжского князя Игоря, лежала подле него совершенно нагая, а где-то рядом, в ста шагах от них, великий Песах вел допрос ее мужа. Мужа, который еще умеет захватывать города и пригороды, убивать, распинать, грабить, угонять в рабство и накладывать дань на побежденных, но не умеет делать мужскую работу. Какая печальная, горькая жизнь у этой Вольги!..
Тихое, почти неслышное касание вдруг ощутили волосы на его груди.
Он замер.
Так чуткий зверь сторожко замирает на лесной тропе, услышав неожиданный пробег ветра по кронам деревьев.
Касание продлилось – медленное, осторожное прикосновение легкой женской ладони, идущее по опушке его груди… живота… все ниже… и ниже… и вызывающее такой мощный прилив крови во все его члены, словно грянули боевые барабаны, словно пульс наполнился жаркими толчками крови, словно сердце помчалось вскачь, в роковую атаку…
Последняя командировка Иосифа Рубина
…Над Салехардом висела пушечная канонада ледохода. Огромная, шириной в двенадцать километров, Обь, припадающая своей губой к Ледовитому океану, промерзла за зиму на глубину до десяти метров, и теперь это мощное гигантское поле льда с угрожающим скрежетом вспучивалось от июньского солнца и тепла, трескалось под напором южной талой воды и наконец взрывалось и дыбилось с воистину пушечным грохотом. Матерые желтые льдины, каждая величиной с футбольное поле, наползали друг на друга, как исполинские моржи при случке, продавливали друг друга своей немыслимой тяжестью, крошились, поднимались на дыбы и, гонимые мощным подводным течением, жали на еще цельный лед в губе севернее Салехарда, заставляя и эту ледяную пустыню скрипеть и трескаться с оглушительным грохотом.
Все население города – ненцы и ненки в пестрых оленьих малицах, русские геологи и бурильщики нефти в распахнутых телогрейках, вертолетчики полярной авиации в меховых комбинезонах, северные бичи в немыслимых обносках, шоферня в промасленных полушубках на гусеничных вездеходах и мощных «КрАЗах» с цепями на колесах, дети на собачьих упряжках – все были в эти дни на берегу Оби с утра и до поздней ночи, и только домашние кошки да дикое зверье не участвовали в этом весеннем празднике природы. Кошки испуганно прятались по домам, а дикие звери – белки, лисицы, куницы, песцы, полярные волки и медведи – удрали от реки подальше в тайгу и тундру. Но все – и люди, и звери – бездельничали. Никто не работал, школы были закрыты, и даже начальство, бессильное перед размягчающим солнечным теплом, забыло дать нагоняй своим рабочим и благодушно, с пивом и строганиной, прикатило на своих четырехосных «Нивах» сюда же, на крутой обский берег.
Демократизм полярной весны уравнял в эти дни всех до такой степени, что бич-алкаш с татуировкой на лбу «РАБ КПСС», полученной, конечно, в лагере за какой-то проигрыш, запросто подошел к начальнику салехардской милиции, балующемуся пивом, и сказал:
– Друг, дай пену допить…
И майор милиции – дал!
Рубинчик бродил по этому людскому разноцветью, останавливался и возле костра молодых геологов, бренчащих на гитаре, и возле ненцев, только что забивших молодого оленя-важенку и с аппетитом уплетающих длинные ломти еще теплой оленьей печени, плавающей в тазу с горячей оленьей кровью. И возле ненецких мальчишек, кормивших своих ездовых собак мороженой рыбой – собаки отворачивались от этой рыбы, фыркали и не хотели есть. И возле юных ненок в праздничных малицах, куривших трубки и пивших одеколон «Красная Москва» прямо из флакона…
Ему все было интересно, и руки его машинально начинали шарить в поисках блокнота по карманам меховой куртки, которую выдали ему как столичному корреспонденту в местном тресте по добыче газа. И только минуту спустя, не найдя блокнота, он вспоминал, что ему уже и не нужен блокнот – зачем? Ведь это его последняя командировка, и ничего он не будет писать, а, вернувшись в редакцию, подаст заявление об увольнении. И, вспомнив об этом, он сникал, расстраивался и шел в торчавший на взлобье берега ресторан «Волна» и заказывал себе «стопарь с прицепом» – сто граммов питьевого спирта и кружку пива с тарелкой строганины – мелко наструганной мороженой нельмы. И хмуро, погашенно сидел над своей выпивкой, не видя вокруг себя никаких див и не слыша их ни своим сердцем, ни интуицией.
К ночи (если можно считать ночью молочные сумерки полярного дня, приходящего в Заполярье летом на смену полярной ночи) Рубинчик тащился в двухэтажную деревянную гостиницу «Север» и, пьяный, расстроенный и жалеющий сам себя, словно он не в эмиграцию собрался, а на тот свет, заваливался спать на свою койку точно так, как все остальные ее обитатели, – одетый и не слыша из-за собственного храпа даже грохота близкого ледохода.
Так прошло три дня. А на четвертый день, когда утихла пушечная канонада ледохода и только отдельные льдины еще неслись вместе с какими-то ветками, разбитыми бочками и прочим мусором по открывшейся темной стремнине Оби прямо в Ледовитый океан, когда кончился праздник безделья и всеобщей пьянки и бурильщики улетели на вертолетах в тундру, ненцы погнали своих оленей искать ягель на оттаявших сопках, а дети отправились в школу, – в этот день Рубинчик вдруг встретил возле гостиницы Наташу. Ту самую юную Наташу-стюардессу, с которой летел он недавно в Киев и с которой так и не успел тогда погулять по киевскому «Бродвею» – Крещатику.
– Ой, это вы! Здрасти! – первой узнала его Наташа, и обрадовалась, и даже покраснела от этой неожиданной встречи. И объяснила: – А меня теперь на северные рейсы перевели. Между прочим, я вам звонила тогда, в Киеве. Но никто не ответил.
– Извини, Наташа, у меня там давление так подскочило – я даже в больницу попал.
– Неужели?! – огорчилась она. – А здесь вы как себя чувствуете?