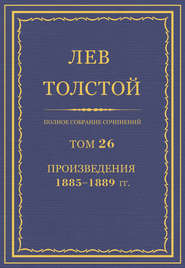 Полная версия
Полная версияПолная версия:
Полное собрание сочинений. Том 26. Произведения 1885–1889 гг.
Учитель сельской школы съ 60-ю учениками отъ 10502 до 15 лѣтъ503 разсказывалъ мнѣ, что всѣ эти дѣти уже бывали пьяны. Большіе поили ихъ. Начну сначала. Зачѣмъ большіе поятъ дѣтей?
[ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ТЕКСТ – ПЛАН СТАТЬИ].
Притчи. XIV. 12.
Слова эти приходятся прямо къ тѣмъ молодымъ людямъ, которые ходятъ по новымъ незнакомымъ имъ путямъ и находятъ на право и на лѣво ведущія незнакомый дорожки – гладкія, заманчивыя веселыя дорожки. Бѣдовыя эти дорожки! Стоитъ только пойти по нимъ, такъ весело и хорошо покажется сначала ходить по нимъ, что затянутъ, заведутъ такъ далеко эти дорожки, что и не вернешься съ нихъ на старую коренную дорогу, а пойдешь все дальше и дальше и зайдешь въ погибель. —
Много есть такихъ ложныхъ путей кажущихся сначала радостными и безопасными и приводящихъ504 къ горю и погибели, но по одному изъ нихъ больше всего ходятъ люди нашего времени и чаще всего погибаютъ. Это путь пьянства. <Я не буду говорить о безполезной тратѣ хлѣба, плодовъ и трудовъ, которые происходятъ отъ пьянства. Я не буду говорить о погибели силъ и здоровья и тѣхъ тысячъ людей отъ того же пьянства, не буду говорить обо всемъ томъ горѣ женъ, дѣтей, которое происходитъ отъ пьянства, не буду говорить о>
Мы призываемъ <молодыхъ> людей не пить ничего пьянаго, ни водки, ни вина, ни пива, ни меда, и не работать для себя этихъ напитковъ, не торговать ими, не покупать ихъ и не угощать другихъ ничѣмъ пьянымъ. Мы призываемъ къ этому всѣхъ <молодыхъ> людей всѣхъ сословій всѣхъ народовъ и всѣхъ состояній, и вотъ почему.
1) Первое и прежде всего потому что <пить> пьяные напитки ни для кого не нужны <для блага человѣка>. 2) Потому что они ни для кого не вкусны. 3) Потому что они для каждаго человѣка расходъ труда. 4) Потому что они лишаютъ всякаго человѣка довѣрія другихъ людей. 5) Потому что они лишаютъ человѣка жизни. 6) Потому что они растворяютъ ворота всѣмъ соблазнамъ.
Но люди говорятъ: они нужны, полезны. Въ работѣ, морозѣ. —Примѣры.
–
«ОПРАВДАННАЯ».
(Текстъ къ картинѣ В. Е. Маковскаго.)Присяжнымъ дали вопросы, и они вышли изъ суда въ свою комнату. Судьи тоже ушли пить чай въ свою комнату. Въ залѣ суда остались свидѣтели, публика, которой интересно послушать, и отецъ, мать, сестра подсудимой съ ея ребенкомъ на рукахъ, и – сама подсудимая за рѣшеткой. Надъ ней стоять два солдата, сама она въ арестантскомъ халатѣ. Мать, отецъ, ребенокъ смотрятъ на нее; но она сидитъ, опустивъ голову, и не взглядываетъ на нихъ.
Сейчасъ рѣшится ея судьба – поведутъ ее опять въ острогъ, гдѣ она будетъ ожидать весны, чтобъ отправиться въ Сибирь, – или выпустятъ… Но лучше не думать, не надѣяться, не глядѣть. Что какъ опять въ острогъ?
Входятъ, выходятъ, ведутъ негромко разговоры. Всѣ ждутъ. Проходитъ пять минутъ, десять, еще десять. Она все не подымаетъ глазъ и почти не дышитъ. Ребенокъ тянется къ ней и называетъ ее. Она оглядывается, не поворачивая головы, и опять опускаетъ глаза. Сестра шикаетъ на племянника.
Но вотъ, слышны шаги, входитъ судебный приставь съ цѣпью, за нимъ судьи, и вотъ много шаговъ слышатся изъ-за двери, и входятъ одинъ за другимъ присяжные. Всѣ встаютъ, и старшина читаетъ длинный вопросъ, смыслъ котораго непонятенъ для подсудимой. Присяжный прочелъ и внятно произносить: «Нѣтъ, не виновата». Подсудимая краснѣетъ и тяжело вздыхаетъ всей грудью. Еще вопросъ, и опять радостныя слова: «Нѣтъ, не виновата». «Подсудимая, – говорить предсѣдатель, называя ее по имени, – вы можете итти, вы свободны».
Она встала, какъ ей много приказывали вставать, и стоитъ и не понимаетъ. Но сестра поняла. Она рванулась, растолкала толпу и съ ребенкомъ на рукахъ бѣжитъ къ ней: «Къ мамѣ пойдемъ!» – «Къ мамѣ!» говорить и мальчикъ.
Подсудимой объяснили, что она можетъ идти. Она, шатаясь, сошла съ ступеней, и мальчикъ уже у нея на рукахъ и прижался къ ней.
Теперь она поняла.
И старички подошли, и плачутъ, и молятся, и не знаютъ, что сказать.
А въ судѣ идетъ своя работа: готовятъ обвинительный актъ и защиту. На мѣсто выпущенной матери сейчасъ ведутъ слѣдующихъ подсудимыхъ.
–
ПЕРВАЯ РЕДАКЦИЯ СТАТЬИ «ПРАЗДНИК ПРОСВЕЩЕНИЯ 12 ЯНВАРЯ».
Въ газетахъ 9 января читается объявленіе.
Т[оварищескій] о[бѣдъ] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 505.
И 12 числа будетъ этотъ обѣдъ и будетъ не только въ этомъ трактирѣ, но въ сотняхъ другихъ мѣстъ.506
Живутъ мужики, бабы, обѣдаютъ, ужинаютъ, ложатся спать, встаютъ въ обычные часы, встрѣчаются, здороваются, бесѣдуютъ и расходятся по своимъ дѣламъ, работаютъ, отдыхаютъ, и вдругъ на нихъ что то находить: всѣ507 съ середины дня начинаютъ ѣсть необычныя вкусныя кушанья, начинаютъ пить заготовленныя пиво, водку, ѣдятъ пьютъ старики, средніе, юноши, ѣдятъ и пьютъ дѣти и бабы. Старые заставляютъ пить молодыхъ и дѣтей. <Начинаются безсмысленные крикливые разговоры>. Всѣ поздравляютъ другъ друга съ чѣмъ то, пристаютъ другъ къ другу съ виномъ, говорятъ другъ другу рѣчи. Глаза разгораются, голоса становятся крикливѣе, громче, глаза слезятся, люди <то обнимаются>, то умиляются, то храбрятся, то обижаются – всѣ говорятъ, никто не слушаетъ другихъ.508 Къ вечеру нѣкоторые спотыкаются, падаютъ, нѣкоторые засыпаютъ, нѣкоторыхъ уводятъ и держатъ тѣ, которые еще въ силахъ, и нѣкоторые валяются и корчатся, какъ больные холерой, наполняя воздухъ алкогольнымъ, смѣшаннымъ съ ѣдой, зловоніемъ.
Что же это случилось? Ничего не случилось. Въ объясненіе этаго удивительнаго явленія вамъ отвѣтятъ только:
– А какже! Престолъ, храмовой праздникъ.
Въ одномъ мѣстѣ Знаменье, въ другомъ Введенье, въ 3-мъ 10-я пятница, въ 4-мъ Казанская. Спросите, что значитъ Знаменье или Казанская, едва ли изъ 100 празднующихъ вы получите что-нибудь похожее на отвѣтъ отъ однаго. Знаменье и кому, кто Казанская, никто не знаетъ. Знаютъ одно, что престолъ и надо гулять. И ждутъ этаго гулянья и послѣ тяжелой трудовой жизни рады, дорвавшись до этаго гулянья. Несчастный, заблудшій, дикій необразованный заброшенный народъ. И вы говорите про народъ, про его нравственность, его воззрѣнія, слышатся разговоры среди насъ людей высшаго образованія, развѣ можно говорить про нравственность и воззрѣнія животныхъ, это существа, напивающіеся при каждомъ удобномъ случаѣ, подъ предлогомъ престола и т. п. Это существа, стоящіе на предѣлахъ животнаго. Не даромъ оставлена для нихъ розга и проэктируется распространеніе этаго средства управленія этими существами.
Слышишь эти разговоры, знаешь постоянное отношеніе или презрѣніе или съ высоты величія своего образованія, соболѣзнованіе нашего сословія къ этимъ полузвѣрямъ, и вдругъ приходить 12 Января, и цвѣтъ просвѣщенія, все считающее себя самой квинтэссенціей образованія <собирается по трактирамъ и> празднуетъ свой праздникъ такъ, какъ свойственно праздновать не полузвѣрямъ, а самымъ образованнымъ людямъ.
Положимъ, что поводъ празднества день св. Татьяны, также мало связываетъ съ праздникомъ, какъ и знаменье или Казанская, и только есть поводъ къ тому, чтобы напиться, но разница большая.
Во-первыхъ, образованные люди начинаютъ ѣсть и пить не въ 11 часовъ, а въ 5 и 6, во-вторыхъ, ѣдятъ не стюдень и лапшуг а креветы, сыры, потажи, филеи и т. п., и пьютъ не одну сивуху, какъ полузвѣри, а водки усовершенствованныя разныхъ сортовъ, и вины сухія и мокрыя, крѣпкія и слабыя, горькія и сладкія, бѣлыя и красныя, и шампанское и fine champagne; ѣдятъ не на 20 копѣекъ, какъ звѣри, а на 6 и больше рублей, а пьютъ и на 20 и больше. Въ-третьихъ, говорятъ образованные люди не рѣчи о томъ, что они проздравляютъ и любятъ другъ друта и кумовей, а о томъ, что они любятъ alma mater и такія вещи, которыя они не только не любятъ, но которыя и любить нельзя, потому что нельзя понимать. Въ 4-хъ, образованные люди, когда падаютъ, то не падаютъ въ грязь, а на бархатные диваны, на которые ихъ относятъ лакеи. Полузвѣри выходятъ на улицу, чтобы освободить желудокъ, образованные дѣлаютъ это и въ комнатахъ въ фарфоровые лоханки. Въ 5-хъ,509 что образованные люди празднуютъ не на улицѣ на виду людей, а въ закрытыхъ помѣщеньяхъ, гдѣ нельзя ихъ видѣть во всей ихъ праздничной красотѣ. Въ 6-хъ, звѣри, напившись пьяны, всегда просятъ прощенья <и всегда> чувствуютъ, что они дѣлаютъ скверно, образованные же люди гордятся своимъ пьянствомъ, радуются на это, съ удовольствіемъ готовятся къ этому, поминая прошлогодніе подвиги.
Нѣтъ, въ самомъ дѣлѣ вѣдь это ужасно. Ужасно не то, что все то, что считаетъ себя цвѣтомъ образованія считаетъ, что ничѣмъ оно лучше не можетъ ознаменовать память о своемъ этомъ образованіи, какъ тѣмъ, чтобы собраться поглотить въ желудки произведете труда людскаго на десятки тысячъ рублей510 и часовъ 10 сряду сидѣть, ѣсть, пить, курить и врать, и не то ужасно, что старые люди, професіональные учителя молодежи511 поощряютъ отравленія алкоголемъ молодыхъ людей, такое отравленіе, которое по даннымъ ихъ же науки, какъ отравленіе ртутью, никогда не проходитъ безслѣдно на всю послѣдующую дѣятельность организма, не то ужасно, что люди, находящіеся въ обладаніи всего того, что сдѣлало человѣчество для своего сознанія, считаютъ похвальнымъ одурять самихъ себя, ужасно то, что эти люди, которые послѣзавтра съ заплетающимся языкомъ и опьяненными глазами будутъ лопотать всякій вздоръ, что для большинства людей нашего времени эти то люди суть учителя жизни нашего времени. Ужасно то, что эти люди такъ затуманили людей и самихъ себя, что имъ совершенно искренно кажется, что они, дѣлая то, что дѣлаютъ, могутъ продолжать соболѣзновать о невѣжественномъ, грубомъ народѣ, могутъ поучать его и что ихъ жизнь не имѣетъ въ себѣ ничего подобнаго тому, въ чемъ они укоряютъ народъ.
Ужасно то, что эти люди512 не могутъ оглянуться на себя разумно и. не могутъ предъявлять къ себѣ нравственныхъ требованій, потому что считаютъ себя образованными, нрав[ственными?], т. е. непогрѣшимыми. Ужасно то освобожденіе отъ всякихъ нравственныхъ простыхъ жизненныхъ требованій, которое допустило для себя во имя такъ называемого просвѣщенія извѣстное сословіе людей. Пользованіе проституціей <умѣренный развратъ>, роскошью всякаго рода, возбуждающія зрѣлища, театръ, обжорство, куреніе, пьянство, требованіе услугъ людей всякихъ сортовъ рабовъ, всякаго рода симонія, все это съ поразительной наивностью признается совершенно совмѣстнымъ съ хорошей нравственной жизнью.
Какой нибудь особенный развратъ,513 особенное воровство, да и то не вездѣ считается развратомъ. А то, чтобы человѣку пообѣдать, выпить, поѣхать на рысакѣ, въ театръ и еще куда-нибудь, это только самое невинное удовольствіе. Отъ этого то дошло дѣло до того, что безобразнѣйшая оргія,514 въ которой спаиваются юноши стариками, оргія ежегодно повторяющаяся, никого не оскорбляетъ и никому не мѣшаетъ похмѣлившись послѣ 12-го Января продолжать за стаканомъ вина и съ папиросой] о нравственности высокой говорить.515 Гадко это и стыдно это.
Есть и всегда были и будутъ чистыя дѣти, съ нетронутой чистотой переходящіе въ юность. Эти юноши знаютъ и чувствуютъ, что516 всякая нечистота тѣлесная, всякія возбуждающiя зрѣлища, всякіе одурманивающіе напитки и куренья, затуманивающiя совѣсть, есть безнравственность, что для нравственной жизни нужно не слова и рѣчи говорить за стаканомъ вина, а нужно самое простое – прежде всего воздерживаться отъ женщинъ, объяденія, роскоши, вина, куренья.
Юноши знаютъ это въ глубинѣ души, но какъ имъ устоять бѣднымъ, когда тѣ самые учителя ихъ, которыхъ имъ велятъ уважать, которымъ имъ велятъ подражать, учатъ ихъ, что это все мелочи, это все пустяки, есть нѣчто важнѣе. Господа, вѣдь вы знаете, что ничего лучше и важнѣе нѣтъ чистоты тѣлесной и духовной, что ничего вѣдь вы не нашли, что бы вамъ замѣнило ее. Вы знаете, что вся ваша риторика съ этой пошлой alma mater васъ самихъ не трогаетъ даже и въ полпьяна и что вамъ нечего дать юношамъ въ замѣнъ ихъ чистоты. – Такъ не развращайте ихъ, не путайте ихъ. А знайте, что какъ было Ною, какъ есть всякому мужику, такъ точно есть и будетъ всякому распропрофесору не то что напиться такъ, чтобъ говорить глупо[сти], но возбудить себя даже рюмкой вина гадко и стыдно.
Но если ужъ вамъ такъ хочется этаго, то знайте, что это стыдно, и потому дѣлайте это потихоньку, а не съ гордостью и увѣренностыо, что такъ надо. Это стыдно и гадко.
–
КОММЕНТАРИИ
В комментариях приняты следующие условные сокращения:
АТБ – Архив Толстого во Всесоюзной библиотеке имени В. И. Ленина (Москва);
AЧ – Архив В. Г. Черткова (Москва);
Б, I; Б, II; Б, III; Б, IV – П. И. Бирюков, «Лев Николаевич Толстой. Биография», Государственное издательство: I – М. 1923; II – М. 1923; III – М. 1922; IV – М. 1923;
БИР. 1913 —«Полное собрание сочинений Льва Николаевича Толстого» тт. I – XX. Под ред. и с примеч. П. И. Бирюкова, изд. Сытина. М. 1913;
БЛ – Всесоюзная библиотека имени В. И. Ленина (Москва);
ГЛМ – Государственный литературный музей (Москва);
ГТМ – Государственный толстовский музей (Москва);
ИРЛИ – Институт русской литературы (Ленинград);
ЛПБ – Государственная публичная библиотека РСФСР им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (Ленинград);
ПЖ – «Письма графа Л. Н. Толстого к жене 1862—1910» Изд. 2 М. 1915;
ПС – «Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым» изд. Общества толстовского музея. СПБ 1914;
ПТ – «Переписка Л. Н. Толстого с гр. А. А. Толстой». изд. Общества толстовского музея. СПБ 1911;
ПТС 1; ПТС 2 «Письма Л. Н. Толстого, собранные и редактированные П. А. Сергеенко» изд. «Книга» 1 – М. 1910, 2 – М. 1911;
ПТСО – «Новый сборник писем Л. Н. Толстого, собранных П. А. Сергеенко, под ред. А. Е. Грузинского, изд. «ОКТО». М. 1912;
ТЕ, 1911, 1912, 1913 – «Толстовский ежегодник» 1911 г., 1912 г., 1913 г.;
ТТ 1; ТТ 2; ТТ 3; ТТ 4 – «Толстой и о Толстом. Новые материалы». Сборники:1 – М. 1924,2 – М. 1926, 3 – М. 1927, 4 – М. 1928.
–
ХОЛСТОМЕР.
ИСТОРИЯ ПИСАНИЯ.
Еще 31 мая 1856 г., скоро после окончания «Двух гусар», Толстой записал в Дневнике: «Хочется писать историю лошади». Замысел этот возник тогда у Толстого, вероятно, под влиянием знакомства с А. А. Стаховичем, владельцем большого конного завода в Орловской губернии и основателем Петербургского бегового общества. Стахович вспоминает: «Еще в начале пятидесятых годов я заинтересовался рассказами старых коннозаводчиков о необыкновенной резвости «Холстомера», пробегавшего 200 сажен в 30 секунд, еще в начале восьмисотых годов в Москве на Шабловскомском бегу графа А. Г. Орлова-Чесменского. По смерти графа управляющий конным заводом, немец-берейтор графини А. А. Орловой, – вылегчил и продал вороного «Холстомера» за большие отметины и огромную лысину. Лошади с именем «Холстомера» никогда не было в Хреновой. После долгих изысканий мне удалось установить, что «Холстомер» была кличка, данная гр. Орловым за длинный и просторный ход (словно холсты меряет), вор. «Мужику 1-му», родивш. в Хреновском заводе в 1803 году от «Любезного 1-го» и «Бабы», выхолощенному в 1812 году». («Литературный вестник» 1903 г., т. VI, кн. 7—8, стр. 255.)
Историей Холстомера заинтересовался брат А. А. Стаховича, писатель М. А. Стахович (сотрудник «Москвитянина», автор пьесы «Ночное» и комедии «Наездники»). Он собирался написать повесть – «Похождения пегого мерина». Как вспоминает А. А. Стахович, план этой повести был следующий: «как покупает «Холстомера» на Хреновском аукционе богач московский купец (тут просторное поле для описания быта этих первых страстных охотников резвых орловских меринов, зa которых плачивали они «большие тысячи»); потом переходит он к лихому гвардейцу времен императора Александра Павловича, который дарит знаменитого пегого столь же знаменитому Илье, главе цыганского хора. Возил «Холстомер» и цыганку Танюшу, восхищавшую своим пением А. С. Пушкина, потом попадает он к удалу молодцу-разбойничку, а под старость, уже разбитый жизнью – к сельскому попу, потом в борону мужика, и умирает под табунщиком».
М. Стахович не успел написать эту повесть: в 1858 г. он был убит своими крестьянами.
Судя по приведенной записи в Дневнике, Толстой в 1856 г. собирался написать нечто аналогичное. К этому году или к ближайшему относится, вероятно, и воспоминание И. С. Тургенева – о том, как Толстой гулял с ним по выгону и, остановившись перед старым мерином, стал рассказывать, что думает и чувствует эта лошадь: «Он не только вошел сам, но и меня ввел в положение этого несчастного существа. Я не выдержал и сказал: «Послушайте, Лев Николаевич, право, вы когда-нибудь были лошадью». Да, вот извольте-ка изобразить внутреннее состояние лошади». («Исторический вестник» 1890 г., №2, стр. 276. Ср. «Исторический вестник» 1911 г., № 3, стр. 861.) Возможно, что Толстой слышал про историю Холстомера от М. А. Стаховича. Надо, впрочем, сказать, что такого рода сюжеты были тогда, повидимому, довольно распространенными (ср. аналогичную историю лошади в очерке А. Башуцкого «Водовоз» – см. в книге Б. М. Эйхенбаума «Лев Толстой. Книга вторая. Шестидесятые годы», Лнгр. 1931). Во всяком случае возврат к этому замыслу произошел после разговора Толстого с А. А. Стаховичем, уже после смерти М. А. Стаховича. «В 1859 или 1860 году (вспоминает А. Стахович) ехал я с Львом Николаевичем на почтовых из Москвы в Ясную поляну. Дорогой рассказал я сюжет повести «Похождения пегого мерина», которую не успел дописать покойный брат, и мне показалось, что мой рассказ заинтересовал графа».
Неизвестно точно, в какой момент взялся Толстой зa писание «Холстомера». 3 марта 1863 г. в Дневнике записано: «Мерин не пишется, фальшиво. А изменить не умею». Затем следует рассуждение о том, что люди делают всё по требованиям природы, после чего опять о рассказе: «В Мерине всё нейдет, кроме сцены с кучером сеченным и бега». Известно, что в это же время Толстой деятельно занимался хозяйством и собирался строить винокуренный завод (ср. в его письме к М. Н. Толстой от 8 марта 1863 г.: «Я счастливый человек, живу, прислушиваюсь к брыканию ребенка в утробе Сони, пишу роман и повесть и приготавливаюсь к постройке винокуренного завода»). Документом, отражающим в себе оба дела – писание «Холстомера» и постройку винокурни, является сохранившийся среди рукописей лист бумаги с конспектом повести и с двумя чертежами: планом винокурни и планом конюшни (см. в описании рукописей, № 5-6)
Приводим здесь конспект повести:
КОНСПЕКТЪ.Пѣгой. Посѣщеніе хозяина. Несправедливость. Любовность и притворство матери. Случка. Дружба съ Вязопурихой.
Вторая1-я и послѣдняя любовь. Всѣ меня любятъ. Счастье. Чуть было. Ночь послѣ этого. Мечты на завтра.
3.Меринъ. Внутренняя работа, насмѣшки. Трудъ. – ѣзда по городу. Счастливые жестоки. Любовники катаются. Несчастные кротки. Пьяный сѣченый кучеръ. Слезы солоны. —
4.Встрѣча съ родными у подъѣздовъ, въ театрѣ. Бѣгъ. Торжество. – Кутила покупаетъ, раззорился, опаиваетъ. Барышникъ. Я и такъ стараюсь – бьютъ. Къ старушкѣ. Въ церковь – тихая жизнь. Умерла.
5.<Севастополь.> Венгерская война, раны. Трусость и храбрость. Зависть <къ верховымъ> и презрѣнье. Офицеръ. Окормился пшеницей. Въ деревню. Продали (огороднику) краснорядцу. Захромалъ. Не виноватъ. Мужику. Выкормилъ. Я васъ. видѣлъ. Помѣщику. Жизнь тутъ. —
–
Пьяный Васька за водкой. Худоба, короста. Просятъ купить. Нѣтъ собакамъ, и покупаю. Всѣ грустны. Бурую кобылку случать. Въ тотъ же день. Шарахаются около ободраннаго.
Как видно, конспект этот очень схож с написанной повестью – за исключением одного пункта: после старушки Холстомер должен был еще попасть на войну (1848 г.).
В Дневнике, кроме приведенных выше записей, нет больше никаких упоминаний о работе над «Холстомером». В письме к Фету (повидимому, в апреле 1863 г.) Толстой, между прочим, сообщал: «Теперь я пишу историю пегого мерина, к осени, я думаю, напечатаю». Однако далее следует: «Впрочем теперь как писать? теперь незримы усилия даже зримые, и притом я в юхванстве опять по уши». (А. Фет, «Мои воспоминания», ч. I. М. 1890, стр. 418). Надо полагать, что «Холстомер» был вакончен только в 1864 г.
После неудачной попытки напечатать эту повесть в журнале (в каком – точно неизвестно, но есть основания предполагать, что в несостоявшемся журнале М. Погодина «Старовер», о чем см. в истории печатания) и отзыва В. А. Сологуба (см. его письмо в книге «Письма Толстого и к Толстому», Юбилейный сборник, М. 1928, стр. 260 – 262) рукопись была положена в стол, где и лежала до 1885 г. В этом году С. А. Толстая, издавая собрание сочинений Толстого, включила повесть в третий том. Как видно по самым рукописям (см. Описание рукописей), Толстой в 1885 г. дал заново переписать ту часть прежней рукописи, в которую он внес много изменений, и написал новый конец (№ 2-в). В переписке участвовал сын А. А. Стаховича, М. А. Стахович. Заглавие повести было «Хлыстомѣръ». А. Стахович вспоминает: «Я послал с сыном исправленное название «Холстомер» и специальные сведения о нем и о Хреновой 1803. года. Мой сын рассказывал мне, как при нем заканчивая и отделывая повесть, Лев Николаевич говорил, что после тяжелого труда, многолетних писаний философских статей, начав писать литературную вещь, он легко и вольно чувствует себя и, точно купаясь в реке, размашисто плавает в свободном потоке своей фантазий… Когда Толстой писал смерть «Холстомера», мой сын стоял за его стулом и с восторгом следил, как ложились на бумагу чудные строки; а гениальный писатель с улыбкой говорил: «вот вам петушок, еще петушок». Отметим кстати, что в этом финале повести, как он переписан рукой М. А. Стаховича, есть некоторые отличия от автографа. Так, например, слов: « – Тоже лошадь была, – скаэал Васька» в автографе нет, они появились прямо в копии. Возможно, значит, что финал этот был продиктован или что изменения эти были внесены устно.
ИСТОРИЯ ПЕЧАТАНИЯ.
До последнего времени считалось, что, написав «Холстомера», Толстой решил не печатать его; но недавно опубликованное письмо В. А. Соллогуба, содержащее в себе отзыв о«Холстомере» («Письма Толстого и к Толстому. Юбилейный сборник», ГИЗ, М. 1928, стр. 260), показывает, что дело было не совсем так. Соллогуб советует Толстому переделать повесть, находя ее в таком виде слишком грубой и даже циничной («Предоставьте это Писемскому. Цинизм его атмосфера» и т. д.). Письмо кончается словами: «Пишу вам официально еще от редакции». Последние слова не оставляют сомнений, что «Холстомер» был передан Толстым, черев Соллогуба, в редакцию какого-то журнала, в котором Соллогуб принимал ближайшее участие. Какой это был журнал? В письме Соллогуба нет никаких на это указаний.
Письмо датировано 20 марта, но без года. Редактор (Л. Бухгейм) датирует его предположительно 1863 годом. Однако эту датировку следует признать ошибочной. В Дневнике Толстого 3 марта 1863 г. записано: «Мерин не пишется». По дальнейшим записям видно, что Толстой занялся хозяйством и бросил писание (11 апреля 1863 г.: «Мы во всем paзrape хозяйства»), а потом взялся за работу над «Декабристами». Сопоставление этих фактов приводит к мысли, что «Холстомер» был закончен не весной 1863 г., а позднее. Если это так, то письмо Соллогуба можно датировать не 1863, а 1865-ым годом. При такой датировке является возможность высказать догадку и относительно журнала.
В 1865 г. М. П. Погодин вместе с В. А. Соллогубом затеяли издавать журнал. 9 июня 1865 г. Погодин писал П. А. Вяземскому: «Мы затеваем журнал с Соллогубом, который сбирается работать: Старовер. Ведь грустно смотреть на нынешнее пренебрежение литературы. Надо восстановить предание». («Старина и новизна», книга 4-я, 1901, стр. 77.) Сообщение это было, вероятно, сделано уже тогда, когда вся подготовительная работа по организации журнала была окончена. Вполне возможно, эначит, что Толстой, именно в это время подружившийся с Погодиным (см. его письма к Погодину в журнале «На литературном посту», 1929, № 10, стр. 65) и очень сочувствовавший его взглядам, решил предложить «Холстомера» в этот самый журнал. Это могло быть сделано в начале 1865 г. (Вместо журнала в 1866 г. вышел сборник «Утро».) Оставшийся тогда ненапечатанным «Холстомер» лежал в столе до 1885 г., – когда С. А. Толстая, издававшая «Собрание сочинений» (5-е издание), включила в него и эту повесть. В переработанном виде повесть появилась в т. III пятого издания (1886 г., стр. 503—553), с посвящением памяти М. А. Стаховича.
Как видно из воспоминаний А. К. Чертковой («Лев Николаевич Толстой. Юбилейный сборник», ГИЗ. 1928, стр. 157), корректуру повести читала С. А. Толстая: «Вот у меня как раз лежит корректура… Я ведь сама всё делаю… Вы умеете править корректуру? Да? Так вот не хотите ли мне помочь немножко. – Ах, пожалуйста! – с восторгом откликнулась я. Графиня встала и, взяв с другого стола пачку бумаг, вернувшись на свое место, подавая мне корректурные гранки, раскрывает перед собою тетрадку. Это оказывается повесть «Холстомер». Я пожалела, что мне пришлось читать не сначала (первые гранки были уже проверены), и мы начали с середины какой-то главы… С трепетным волнением я стала читать. Софья Андреевна следила по тетрадке, изредка останавливая меня для внесения поправок в корректуру».



