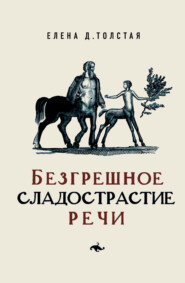
Полная версия:
Безгрешное сладострастие речи
Те периоды, в которых бывают войны, необильные представительными героями из-за того, что эпическое дыхание их нивелировало, были периодами исключительно мужественными; те же периоды, которые отреклись от героического инстинкта и, обратившись к прошлому, уничтожились в мечтах о мире, были периоды с преобладанием женственности.
Мы живем в конце одного такого периода. Чего недостает женщинам в той же степени, что и мужчинам, – это мужественности».
Де Сен-Пуан считала феминизм ошибкой. Женщины не ниже и не выше мужчин, они, как и современные мужчины, никуда не годятся. Как и другие футуристы, де Сен-Пуан восхищалась мужественностью и силой. Она считала, что женщинам недостает мужественности, они должны стать сильными, эгоистичными, жесткими.
В русском художественном авангарде работали замечательные художницы – Наталья Гончарова, Ольга Розанова, Александра Экстер и другие. Но в авангарде литературном наиболее заметная женщина была одна – и это была Елена Гуро (мы не говорим здесь о Надежде Хабиас или Татьяне Вечорке – авторах менее ярких). Вразрез с требованием «мужества», одушевлявшим итальянских футуристов, а вслед за ними Маяковского, Гуро осуществляла свои далеко идущие новации, оставаясь в интимном субъективном пространстве женщины-ребенка. Бромлей же, как де Сен-Пуан, критически рассматривает женщин. На рубеже 1910-х обе поэтессы, Гуро и Бромлей, посвящают немало внимания проблеме подчиненного положения женщин в мире мужчин. Кажется, к этому имела отношение особая ситуация, в которой оказался русский феминизм.
В 1904 году Международный женский совет на съезде в Берлине образовал Международный союз избирательных прав женщин, к нему присоединились национальные женские союзы США, Великобритании, Норвегии, Дании, Голландии, Германии, Австрии. В 1906 году примкнули Россия, Канада, Италия. В том же 1906-м финские женщины были уравнены в политических правах с мужчинами, в 1907-м это случилось и с норвежками. В России же процесс освобождения женщин замер после революции 1905 года. Всероссийский союз равноправия женщин выступил в 1905–1906-м и приостановил свою деятельность в 1908 году. Только в 1909-м в Петербурге была легально учреждена Российская лига равноправия женщин. На это с 1860-х ушло полвека: основательнице женского движения в России Анне Философовой было уже 72 года.
Русская литература модернизма к феминизму относилась сочувственно. Начинающая Зинаида Гиппиус писала о пересмотре ролей партнеров в любви, отказываясь от традиционных формул. Мирра Лохвицкая, а вслед за нею десятки ее последовательниц утверждали эмансипацию чувства. В журнале «Женское дело», выходившем в 1910–1917 годах, участвовали писатели Бронислава Рунт, Валерий Брюсов, Анна Мар, Нелли Львова, Всеволод Чешихин, Сергей Глаголь, Юлий Бунин, Борис Зайцев, Ариадна Тыркова, Николай Телешов, Рахель Хин, Татьяна Щепкина-Куперник и другие.
Весьма возможно, интерес Гуро к темам феминизма как-то соотнесен с ее ежегодным летним пребыванием на даче в Финляндии, где женщины теперь уже обрели равноправие с мужчинами. Не исключено, что рассказ Елены Гуро «Так жизнь идет», вышедший в 1909 году в первой ее книге «Шарманка», возник в некоторой связи с запретом 1908 года на женское движение в России. В этом рассказе глубоко исследуется природа женского подчинения.
«Шарманка» посвящена жизни города, и через часть ее текстов проходит героиня-подросток, зачарованная и влекомая тайной города. В рассказе «Так жизнь идет» эта тайна разгадывается. Город оказывается построенным на унижении женщины и на возвышении мужчины. Мужчина властен над женщиною, инструменты этой власти – унижение и стыд.
Отчим бьет хлыстом героиню, подростка Нельку, за то, что та без спросу ушла гулять, а затем пользуется ее услугами. Мужчины неприкосновенно-самодовольны, у них одна мысль, остановившаяся: «Все – мое, это – я, иду – я» (с. 33)[16]. А женщины – у них жизнь без «завтра»: «И забота, и воля, и тяжкий выбор были не на них, не на них – а на них были – хлыст да вино, смех да визг…» (там же).
Дело в том, что мужчины не только сильны, но и красивы и умны. Они восхищают Нельку: «Мужчины с умными благородными лбами. Они читают, и вот голова становится прекрасней, строже»; «Крепкие мужские руки построили себе из железа и камня красивый город. Строгим расчетом вычертили. Гнули тяжелые камни. Пространство сдержали решетками. В этом городе они каждый день судили, карали и миловали» (с. 32).
Их окружает мир прекрасных вещей. Хлыст отчима очень красив, Нельке даже хочется приложить его к щеке. Чубуки и хлыстики в магазинах украшены женскими фигурками в униженных позах (с. 34). Нелька очарована мужчинами. Получается, что мужчины властвуют не только с помощью секса – им принадлежат и интеллект, и красота.
Но и в сексе женщина полностью подвластна. Соблазненное подчинением тело Нельки уже жаждет нового унижения – и чем она униженнее, тем делается красивее. Она становится любовницей студента, он ее господин, он может подозвать ее собачьим словом «Иси». Дома у него «строго, порядочно и нет места женщине». В конце концов окна и стены города утрачивают для Нельки душу и тайну. Наступает ее духовная смерть. Теперь она – проститутка. Ей кажется, «что весь город <…> давила холеная мужская рука с розовыми угловатыми ногтями и нежным голубым камешком на пальце» (с. 35).
Фактически перед нами ранняя демонстрация понимания того, что современный мир построен на том, что теперь обозначается как фалло- и логоцентризм[17]. Оба мира – и физический, и духовный – захвачены мужчинами. Женщины же вытеснены в тесный мирок воспроизводства: во фрагменте «Да будет!» у Гуро это описано так:
«Мчатся волны жизни, волны голода, жадности, сытости, жирной игривости – битва благ. Ссорятся из-за доброго тепла – и милой еды; отбивают друг у друга самцов – беременеют – родят. Бусы, ленты, корсеты, румяна, помадки. Кровать женщины, обагренная ее же кровью, и ее пролил ее же детеныш. Ее мужчина приносит подарок, и она радуется бусам. Ей завидуют другие – не беременные, – она хвастается и потом умирает» (с. 43).
Гуро нацелена на особенный тип прозы – в дневнике она определяет ее как вариант поэзии, перетекающий в стихи: «Вольные ритмы. Проза в стихи, стихи в прозу. Проза – почти стихи»[18].
Бромлей, как и Елена Гуро, пишет стихопрозу – «Фрагменты», последний раздел книги «Пафос». Подобно Гуро, Бромлей создает фрагменты, ритмически организованные, проникнутые лирической интонацией. В отличие от прозы Гуро, они публицистичны. Ее главный объект – женщины. Острое личное недовольство женским в себе автор поднимает до анализа женского мироощущения и вообще места, которое в мире занимает женщина. Бромлей подчеркивает нелепость и ужас природной отягощенности женщины и выстраивает собственную мифологию: «Трудно быть женщиной и быть человеком. Трудно и несправедливо» (с. 80[19]). «Неузаконено и странно рождающее существо, через тело которого прошли все человеческие жизни» (с. 75).
Женщина сохранила древнюю душу, страшную и простую: ей надо лишь «Рождать в теплоте, грязи и радости!» (с. 80). Это отчасти похоже на фрагмент Гуро «Да будет!». Эта допотопная психика не ладит с более новыми ее уровнями, они не сливаются: нужно вечное усилие воли, чтобы контролировать низший психизм, воля эта порой демонична и враждебна назначению женщины: у Бромлей читаем:
«…В мягкое рождающее тело брошен был лоскут огня, названного духом;
<…> в женских бессильных телах пробуждается мужское сердце демона и, заключенное, гордо и горько смеется и не хочет ждать. <…> Тело, несущее в мозгу цветок пламени – дух, – не хочет рождать» (с. 74–75).
Язык женщин. Более всего сходно у обеих поэтесс сознание неизбывной зависимости женщин от мужчин во всем, даже в языке: Бромлей пишет:
«Женщина лжет, не создавшая слова своего; только язык мужчин знает она, созданный мужчинами, и, говоря, смешна и лжива <…> когда женщина говорит, молчат другие, как бы слушая и веря; в темноте их духа улыбки отвращения…» (с. 74).
Однако женщина наделена творческим даром, древней ее душе есть что рассказать. Бромлей синтезирует собственную программу, формулирует свой утопический лозунг – язык женщин:
«Если б женщина сумела из музыки, животных криков, кусков разноцветных тканей создать свой язык и сказать другим свою правду так, чтобы они поняли ее, – впервые почувствовали бы они, что не одни на земле» (с. 74).
Это та самая идея заумного, иррационального языка, которая у нас ассоциируется с футуристами, ср.: «из музыки, животных криков». (Другая возможность, столь же иррациональная, основанная на эмоциях, – это язык предметов, но особенных, понятных женщинам, таких как разноцветные ткани.) Бромлей провозглашает ее пока в применении исключительно к специальному, отдельному языку женщин. Ее не удовлетворяет то, что они обречены говорить на языке мужчин и творить по образцам, заданным мужчинами. Итак, власть мужчины, осуществляемая через слово, – то есть мужской логоцентризм – была осмыслена Еленой Гуро в «Шарманке» еще в 1909-м и Надеждой Бромлей в «Пафосе» в 1911-м.
Бромлей, программно заявившая о необходимости женского языка, уже опиралась на практику той же Гуро. Мне кажется, что ахматовский поздний стих «Я научила женщин говорить» не вполне верен. Не только впервые осмыслила недостаток такого языка, но и создала специальный женский, интуитивный, иррациональный язык для выражения неслыханно тонкого восприятия именно Гуро, чьей ученицей была в юности Бромлей.
Она сознавала при этом, что женщины не способны на настоящую дружбу, они и в дружеском диалоге видят и слышат только себя: стоит мужчине предпочесть одну другой и дружбе конец. Именно потому, что женщина скована своей зависимостью от мужчины, она опутана эгоизмом, не способна объединиться с другими женщинами, и плоха надежда на ее возрождение:
«…То, что создает женщина, будет создано только одною – других она не призовет, одною парою слабых рук завершится каждое чудо ее духа, и только собою одной населит она свои города и здания» (с. 75).
Феноменология женщины. Бромлей отстраненно изучает специфику женщины, пытаясь с помощью самонаблюдения объяснить загадочный феномен ненависти женщины к себе и к себе подобным:
«Противна женщина <…> противно ей свое тело и тысячекратно противны подобные себе.
– Нет лица страшнее лица женщины <…> и ни в каком другом теле и сердце дух не бывает унижен так страшно и так отвратительно. <…>
– Скачущая, переимчивая, трусливая порода, заселившая собой больше полумира, пол, никем не завершенный, воспринимающий нуль, ждущий извне определений и становления. А! эта масса женских тел, загромоздивших землю, грязное удобрение земли, миллионы утроб, готовностей и ожиданий…» (с. 75).
Во многом ощущения Бромлей совпадают с наблюдениями Гуро в «Шарманке»: но у Гуро это самопрезрение навязано мужским насилием, она солидаризуется с женщиной, в то время как Бромлей принимает внешнюю, критическую точку зрения на женщину.
Раннефеминистические настроения обе писательницы преодолевают. Гуро в предсмертные годы сублимирует специфически женскую тему в свой знаменитый миф об умершем христоподобном сыне – своего рода полемический ответ на «Мафарку-футуриста» Маринетти. Итальянский победительный сверхчеловек сделан из стали. Сверхчеловек Гуро – это Дон Кихот, князь Мышкин, прекрасный юноша, нежный, ранимый, страдающий и гибнущий за все человечество. Лирическая же героиня Гуро – это скорбящая мать, объемлющая весь мир своей любовью.
У Бромлей, с ее нелицеприятным анализом женскости и стремлением преодолеть гендерную ограниченность, впоследствии зазвучит тема расширения гендерных рамок: главный герой второй ее пьесы «Легенда о Симоне Аббате Чудовище» (1921)[20] – Король – это девочка, от которой скрывают ее пол и которую воспитывают как мальчика: в решающий момент она проявляет храбрость и мудрость, спасая свой народ.
Параллелью к протофеминизму Гуро и Бромлей мог бы быть настойчивый, хотя и неагрессивный феминизм Ольги Форш – автора многочисленных исторических романов с важной оккультной составляющей; она в дореволюционных своих рассказах живописала угнетение и забитость женщин и девочек, а в 1920-е выдвигала тезис о преимуществах матриархата, в котором видела мировое будущее, и внимательно следила за раскрепощением женщины в ранний советский период, когда оно действительно имело место.
Теософы. Возвращаясь к нашей теме недолгого сближения Гуро и Бромлей, мы можем попытаться восстановить их круг общения между 1908 и 1912 годами. Как писал о Гуро Р. В. Иванов-Разумник: «Е. Гуро хотела распутать „клубок вещей“ перетончением символизма <…>. Е. Гуро была вся „в романтизме, в мистике, в теософии“»[21]. Действительно, ее круг во многом составляли теософы и антропософы. Здесь начинать надо с самого М. Матюшина, которого в искусстве волновало овладение новыми, подсознательными, нерациональными уровнями психики. Матюшины увлекались теориями П. Д. Успенского о четвертом измерении, затем – его книгой «Tertium organum»[22]. Это был важный извод теософии, которому предстояло прославиться в результате союза Успенского с Г. И. Гурджиевым; Успенский особенно повлиял на футуристов, выдвинув идею слома привычного восприятия – так называемого «сдвига», позволяющего увидеть и постичь мир заново.
В круг Матюшиных также входил молодой поэт Борис Алексеевич Леман (1882–1945), писавший стихи под псевдонимом Дикс[23], который в 1912 году переписывался и с Бромлей. В Рукописном отделе Пушкинского Дома есть его письмо Бромлей, где он делится с ней наблюдениями, демонстрируя тонкость восприятия, и просит совета по поводу своего чтения. Для молодого автора Бромлей – авторитет не только литературный, от нее ожидается водительство в делах теософских. Мы пока не знаем, когда и где она сама познакомилась с теософией.
Приезжала к Гуро в Финляндию и Варвара Малахиева-Мирович – поэтесса старшего поколения, сотрудница «Русской мысли», напечатавшая там положительную рецензию на творчество Гуро, – правда, печатать сами произведения Гуро солиднейший толстый журнал России все-таки отказался. У Малахиевой-Мирович также были оккультные интересы. Гуро знакома была и с Елизаветой Васильевой – предводительницей петербургских теософов, и с Максимилианом Волошиным.
Перед нами любопытная картина некоего духовного радикализма. Мы видим, что и Гуро, и Бромлей развивают новые возможности восприятия, движутся в сторону синэстетизма, пытаются выразить почти невыразимое, иррациональное содержание. Одновременно обе они исследуют новую социально-психологическую тему – тему женщины в современном обществе. Похоже, что надо ставить вопрос о связке общественно-освободительных взглядов, в том числе призыва к равноправию женщины, и тео- и антропософской революции восприятия, на которую опирались футуристы.
Поэтика ранней Бромлей. В творчестве Елены Гуро мы находим любопытный вариант общего футуристам урбанизма – который, по мнению Николая Харджиева, воздействовал на Маяковского: «Невозможно красивыми кажутся подоконники и водосточные трубы. По дороге к искусству проходят мимо водосточных труб и железных подоконников, а они красивы, точно они часть музыкальной пьесы, точно все это на музыкальных подмостках» – или: «Улыбается вывеске фонарь И извозчичьей лошади»[24]. Николай Харджиев находил эти мотивы Гуро из фрагмента «Песни города» («Шарманка») у Маяковского в «А вы ноктюрн сыграть могли бы / На флейте водосточных труб?».
Как и у обоих этих авторов, такие приметы города, как вывески и извозчики, есть и у Бромлей. Например, «ржавый желоб», «прутья лестницы пожарной», «карниз» и «труб наивные фигурки». Правда, это не детали городской картины, которую рассматривает наблюдатель, а действующие лица в головокружительном сновидческом хождении лирической героини по крыше. Как видим, и эмоция, и драматизм здесь собственные:
За плечами крылья старой шляпыЯ связала шелковым шнурком.– Снизу шорох листьев сдержанно коварныйОтмыкает сердце для тревоги;– Прутья лестницы пожарнойХолодят босыя ноги.Заскользили руки по карнизу;Ржавый желоб, труб наивныя фигурки;СрывуНа просвирник и крапиву,КнизуПолетел кусочек штукатурки…«Сон о крыльях» (Пафос, с. 2–4)Крылья. В этом изысканном визионерском фрагменте крылья старой шляпы превращаются в платоновские крылья, которые должны бы прорезаться у души. Героиня молит «сказку-ночь» о чуде, о тайне, о крыльях, просит оживить ей душу:
Мир, изменись! Радость моя, наступи!Чудо, явись! Сердце мое ослепи! (там же).Эта ориентированная на платоновский мотив «крыльев» вещь, похоже, лишь частично следует за одноименным романом «Крылья» Михаила Кузмина (1906), скромно умалчивая о теме однополой любви.
Героиня открывает глаза и возвращается в городской пейзаж:
Крыши железные ребра – черная высь.Слева внизу огороды черны и пахучи,Справа сад и Крымский мост,Дока разбитые стекла, дома горелый погост… (там же.)– и все затянуто «туманом скучной печали» и писком чертей, изначально скептических.
Черти вообще появляются здесь что-то уж слишком часто:
Круг, яснея, разомкнулся полосой:Девочка с желтой косойВ платье коричневом; фартук люстриновый,Лента у во́рота;Держит за руку черта,– Черт петушиный, малиновый,Обыкновенный.«Видения» (с. 11)Нехорошая девочка в гимназической форме, презревшая Бога, слишком гордая и слишком жестокая к своим, появится через много лет в прозе Бромлей – в новелле «Мои преступления», последнем ее сборнике прозы, – при этом описана она там с явным пониманием и сочувствием.
На смену декадентским уродам, Иродам, Саломеям и неоромантическим чертям («Бесы фантасты, бесы скитальцы», с. 12) у Бромлей приходит гностическая картина мира – как мы знаем, теософия пропагандировала гностицизм во множестве версий. В гностических мифах описывается Бог, создавший негодный мир, или Бог, оставивший и забросивший свое творенье, демиург-насильник. В стихотворении Бромлей «Fantasia sacrilega» показана апокалиптическая гибель первоначального гармонического мира в некоем мифическом прошлом: Бог вначале создал великолепный мир, его населяли прекрасные ангелы, которые создали Цветок-Землю, юный рай. Но Бог – «Он не был справедливым никогда» – содрогнулся в небесах от чересчур удачного творения, возможно, сочтя его опасным, и пустил в ход насилие: «Он оборвал лучи и крылья и бросил жалкия тела» (с. 6). Ангелы пали долу и стали людьми, а Бог оставил свое творение. Перед нами очередной халтурный творец в духе маркионитской ереси:
И обгорелым, страшно черным шаромСтал Мир, где радуги цвели.Дрожала в ярости земля-урод,Металось пламя, и вопила вьюга,И черви-ангелы ползли впередИ грызли землю и друг друга.«Fantasia sacrilega» (с. 7)Итак, этот Бог уничтожил рай, отнял творчество, не дал крыльев, обременил отвратительным телом, обрек на убогую, ползучую любовь. Автор проклинает Бога, сыгравшего такую злую шутку со своим твореньем. Психологическая подоплека этого разочарования ясна: это юношеский кризис расставания с ощущением духовного всемогущества, с грандиозными надеждами, когда впервые человек ощущает свою ограниченность «жалким телом». Перед нами то же богоборчество, но уже в космических масштабах и на гностический лад. Как видно, автор уже тогда начитался (или наслушался) эзотерики: образ червей-ангелов, скорее всего, каким-то образом пришел в поэтику Бромлей из наивной концепции средневекового итальянского еретика-мельника, о котором наше поколение узнало из исследований Карло Гинзбурга и Арона Гуревича.
Яростный бунт против Создателя продолжает схожие настроения Андрея Белого и тематически предвосхищает Маяковского, который в своих ранних стихах также развивает гностическое возмущение против негодного Бога:
Я думал, ты – всесильный божище,А ты недоучка – крохотный божик.Символистские темы и прометейские мотивы у Бромлей уже подаются в почти футуристской боевой раскраске:
Диких мыслей буйнаго расцветаВыступают фиолетово налеты,И черно-кровавы сердца соты:Жгучий мед больного лета!«Диких мыслей буйного расцвета» (с. 39)Просматривается здесь и другой смысловой план: болезнь, сердечная или душевная травма, душа и сердце в ушибах, гематомах, фиолетовых и черно-красных.
Как бы то ни было, «мы» Бромлей вполне под стать будущему футуристскому «мы» и их обязательному коллективному оптимизму:
Силой ненавистей, слитых воедино,Мы растворим тайн лазурные ларцы!Отведем удары ГосподинаМы – судьбы пророки и творцы! (там же)В процитированном выше начале стихотворения «Сон о крыльях» Бромлей свободно варьирует размеры – это разнообразные дольники, из которых она выстраивает сложные строфы с неожиданно и изящно организованной рифмовкой. Возьмем первое стихотворение сборника, где эти же черты сгущены.
Это – мой фартук холщовый,Грубый и новый,Рубец утюгом не приглажен:Я поспешила надеть – была гроза поутру;Надо было в саду, на реке и в боруСломанных веток набрать; о, как враждебен и важенБор остропахучий, голос тяжел и протяжен!.. (с. 1)Критик А. Измайлов, который «Пафос» счел книгой наивной, детской, как и «неумелые» рисунки В. А. Фаворского (хотя некоторые сюжеты в ней никак детскими не назовешь), отдал дань умению автора воскрешать картинку и создавать настроение: «Однако вдруг, точно по волшебству, вас захватывает настроение автора, вы… трете глаза, как перед наваждением.
Старый вальс барабанит на клавишах девочка…Боже, детство минувшее, грустное! Ранняя юность минувшая! —Десять, четырнадцать лет; первое светлое платье – кажется, светло-зеленое;Детское чистое личико, к зеркалу чутко прильнувшее,С тихой тоскою радостно-грустно-влюбленное.– Косы тугие завернуты, волосом пахнет паленым,Рожица красная, дерзкая, славная, юная-юная! —В новом платье для танцев ярко и светло-зеленом… (с. 32)«Почти неловкий стих, никаких новых слов, но картинка из детства выхвачена, как выхватывает зажженная спичка предметы и лица из тьмы», – пишет А. Измайлов в «Биржевых ведомостях» в статье «Цветы женской поэзии (Новые сборники стихов)» (1912).
И богатство постбальмонтовских дольников, и причудливая строфика, и острота ви́дения, и памятливость, и «настроение» – все работает на автора в стихотворениях, как-то зацепленных за внешний опыт, будь то ночная городская крыша, автопортрет в интерьере или даже фартук. И наоборот, сто́ит Бромлей замахнуться на «идейное содержание» – неважно, оккультное ли в стародекадентском макабровом духе или гностическое в новейшем ура-футуристическом, коллективистско-богоборческом, – как тут же это содержание начинает выпирать из стихов. Это с роковой предопределенностью означает безразличие к форме, предсказуемые ритмы, просодическую банальность – под стать банальности образов:
Дрожала в ярости земля-урод,Металось пламя, и вопила вьюга… (с. 7)Там, где Маяковский ругается с Богом, Бромлей титулует его Всеблагим и пишет почти правильным пятистопным ямбом в духе 1840-х: «Но, Всеблагий, Ты дал им силу слов! – О, будь ты проклят силой слова!» Она замахнулась было на словесную магию, забыв, что в пятистопном ямбе никакой магии уже давно не осталось.
Но самое главное, чего не восприняла Бромлей, – это то новое, что открыла Гуро и вслед за ней Маяковский именно в применении к высоко публицистической теме. Еще Харджиев заметил, что обличения Маяковского-футуриста похожи на филиппики Гуро из «Шарманки» на сходные темы[25] (разумеется, у них обоих в памяти Андрей Белый, но это сейчас не так нам важно): у Гуро в «Песнях города» читаем:
Так встречайте же каждого поэта глумлением,Ударьте его бичом!Чтоб он нес свою тень как жертвоприношение,В царстве вашей власти шел с окровавленным лицом!Чтоб любовь свою, любовь вечную,Продавал, как блудница, под насмешки и плевки,А кругом бы хохотали, хохотали в упоенииОблеченные правом убийства добряки![26]Налицо принцип дольника со сколь угодно длинными интервалами между ударениями, который принимает такие виртуозные формы у Маяковского, ср. «Вам!»:
Вашу мысль, мечтающую на размягченном мозгу,Как выжиревший лакей на засаленной кушетке…Маяковский развивает отдельные мотивы Гуро: мотив растоптанной души как жертвоприношения в трагедии (у Гуро это тень поэта) или мотив окровавленности: «окровавленный сердца лоскут» (у Гуро – лицо поэта). У обоих поэтов принципиально новая установка на снижение, прозаизацию «священных» тем. А Бромлей в крупной мировоззренческой тематике, именно там, где Гуро и Маяковский с помощью прозаизмов и новой метрики создают революционно новое звучание, теряет новую метрику и строфику, которыми так прекрасно, казалось бы, владеет, и позволяет теме буквально задавить стихотворение.
Что касается самого бунта: если фотогеничный протест самовлюбленного Маяковского победителен, то, несмотря на декларативное «Мы судьбы пророки и творцы», в торжество Бромлей слабо верится. Это «старая» модель расколотой психики, в духе 1890-х копающейся в своей греховности. Бунт Бромлей – неаппетитный, некокетливый, обреченный на непопулярность, потому что провозглашает его женщина, возненавидевшая себя, несмотря на все попытки из этого психологического переплета высвободиться и на все молитвы о возрождении собственной души.

