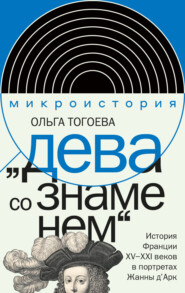скачать книгу бесплатно
И изо всей силы дважды ударила по шее Олоферна и сняла с него голову и, сбросив с постели тело его, взяла со столбов занавес. Спустя немного она вышла и отдала служанке своей голову Олоферна, а эта положила ее в мешок со съестными припасами, и обе вместе вышли, по обычаю своему, на молитву. Пройдя стан, они обошли кругом ущелье, поднялись на гору Бетулии и пошли к воротам ее[532 - Книга Юдифи, 13: 9–10 (курсив мой – О. Т.).].
Ил. 30. Лукас Кранах Старший (?). Юдифь. 1530?е гг.
Иными словами, согласно «Книге Юдифи», голова Олоферна действительно могла быть либо обернута в его собственные постельные принадлежности, либо спрятана в котомку верной служанки[533 - В греческом тексте «Книги Юдифи» упоминался также некий загадочный «полог» или «занавес», который героиня снимала с постели Олоферна и уносила с собой в Бетулию: Schmitz B. Holofernes’s Canopy in the Septuagint // The Sword of Judith. Judith Studies across the Disciplines. P. 71–80.]. Схожее прочтение истории спасения Бетулии встречалось и на средневековых миниатюрах[534 - См., к примеру, иллюстрации к «Хроникам» Бодуэна Авенского, созданным предположительно в Брюгге около 1480 г. (British Library. Royal 18 E V. Fol. 137v), или к рукописи Библии, происходящей из Эно и датирующейся 1441–1449 гг. (Universit?tsbibliothek Heidelberg. Cod Pal. Germ 21. Fol. 70v).], и в письменных источниках. Например, по мнению автора французской «Мистерии о Юдифи и Олоферне» XV в., для этих целей был использован ночной колпак (malette) ассирийского полководца, в котором он обычно спал[535 - «Certes, doncques, la vengeance est nette. / Nous mettrons dedens la malette / La teste. C’est bien devisе. / Au surplus, il soit advisе / De partir» (Jean Molinet (?). Le myst?re de Judith et Holofernеs / Ed. critique de l’une des parties du «Mistere du Viel Testament» avec une introduction et des notes par G. A. Runnalls. Gen?ve, 1995. V. 2240–2244). Ночной колпак Олоферна (malette, couvrechef), как и многие другие мелкие детали, упоминавшиеся в тексте мистерии, был, возможно, задействован автором для придания комического эффекта всему произведению: Runnalls G. A. Judith et Holofern?s: myst?re religieux ou mеlodrame comique? // Moyen Age. 1989. № 1. P. 75–104, здесь Р. 97. Подробнее о «Мистерии» см.: Nassichuk J. The Prayer of Judith in Two Late-Fifteenth-Century French Mystery Plays // The Sword of Judith. Judith Studies across the Disciplines. P. 197–211; Llewellyn K. Representig Judith in Early Modern French Literature. Farnham, 2014. P. 29–50.].
Вопрос, почему идентичное прочтение библейского сюжета оказалось задействовано при создании «Портрета эшевенов», заслуживает, тем не менее, отдельного рассмотрения. Для Оливье Бузи ответ на него был прост: французский историк полагал, что носовой платок в руке Жанны д’Арк, по замыслу художника, придавал ее образу большую женственность, являясь – вместе с богатым платьем, шляпой и дорогими украшениями – своеобразной антитезой мечу, который Дева сжимала в правой руке[536 - Bouzy O. Images bibliques ? l’origine de l’image de Jeanne d’Arc. P. 241.]. Такая трактовка кажется вполне оправданной, тем более что и Лукас Кранах отличался похожим стремлением – лишать своих героинь любых намеков на мужественность[537 - B?cken V. Hеro?nes et sеductrices dans l’Cuvre de Lucas Cranach. P. 56–57, 59.].
Тем не менее, мне представляется, что в данном случае речь шла о еще более жестком противопоставлении. Отсутствие на портрете головы поверженного врага являлось прямой отсылкой к христианской заповеди «Не убий!», а вместе с тем – к словам самой Жанны д’Арк, сказанным в ходе обвинительного процесса 1431 г., когда она убеждала судей в том, что на ее руках нет крови, поскольку «в сорок раз сильнее», нежели меч, она ценила собственное знамя, которое в бою всегда несла сама[538 - «Interrogata quod prediligebat, vel vexillum suum vel ensem. Respondit quod multo, videlicet quadragesies, prediligebat vexillum quam ensem… Dicit etiam quod ipsamet portabat vexillum predictum, quando aggrediebatur adversarios, pro evitando ne interficeret aliiquem» (PC, 1, 78).]. Не случайно, видимо, и на копии с «Портрета эшевенов», выполненной в Орлеане в конце XVI в., оружие оказалось помещено в левую руку героини, а не в правую (ил. 22, с. 157). Не случайно и то, что на более поздних репликах с картины в руках у Жанны помимо меча появилось знамя, прямо указывавшее на невозможность ее личного участия в сражении[539 - Об этом иконографическом типе см. далее: Глава 6 и 8.].
***
Вернемся, однако, к гравюре, помещенной на обложке астрологического альманаха 1678 г., с которой мы начали этот рассказ. То, что на ней, вне всякого сомнения, фигурировала героиня Столетней войны, подтверждалось не только тем, что в качестве образца для нее был использован «Портрет эшевенов». В конце XIX в. то же самое изображение оказалось задействовано в качестве фронтисписа к поэме «Жанна д’Арк, или Лотарингская Дева» Евстахия фон Кнобельсдорфа, уроженца Пруссии и генерального официала епископа Вроцлавского[540 - Roux S. Regards sur Paris. Histoires de la capitale (XII
–XVIII
si?cles). P., 2013. P. 72–75.]. Написанное в 1548 г. на латыни, с оглядкой на античные образцы, сочинение это было посвящено деяниям французской героини под стенами осажденного англичанами Орлеана[541 - Knobelsdorf E. von. Jeanne d’Arc, ou La vierge de Lorraine, fragment d’un po?me, prussien / Traduit en fran?ais par l’abbе Valentin Dufour. Orlеans, 1879.]. В заслугу ей автор ставил не только спасение города от разрушения:
Жанна, кто смог бы найти достаточно хвалебных слов, чтобы выразить Вам нашу благодарность за то, что Вы спасли городские стены Орлеана от разрушения? Кто мог бы достойно воспеть Ваши завоевания, так что выиграл бы у Юпитера приз за красноречие? Мы признаем, что мы обязаны Вам больше, чем собственным родителям, ибо если они даровали нам жизнь, то Вы сберегли ее нам, и за это мы пребываем в долгу перед Вами. Именно Вам мы также обязаны тем, что сохранили в целости и сохранности собственное достоинство[542 - «Jeanne qui pourrait trouver des paroles assez еlogieuses pour exprimer la reconnaissance que nous vous devons pour avoir prеservе de la ruine les murs de la citе d’Orlеans. Qui pourrait dignement cеlеbrer vos louanges, e?t-il remportе contre Jupiter le prix de l’еloquence? Nous l’avouons, nous vous avons plus d’obligations qu’? nos p?res, car s’ils nous on donnе l’existence, nous vous devons de nous l’avoir conservеe. C’est ? vous que nous devons aussi de conserver intact le sentiment de l’honneur» (цит. по: Lanеry d’Arc P. Livre d’or de Jeanne d’Arc. P. 650–651).].
Сочинение Евстахия фон Кнобельсдорфа публиковалось во Франции и ранее – в 1543, 1612 и 1615 гг., однако издание 1879 г. выделялось на этом фоне особо. Именно в это время Орлеанский епископат передал материалы ординарного процесса по канонизации Жанны д’Арк в Ватикан, но потерпел неудачу[543 - См. далее: Глава 11.]. Таким образом, связь между странным двуликим образом на гравюре и французской героиней получала дополнительное подтверждение, рождая вместе с тем важный вопрос: зачем нужно было использовать столь странное и пугающее изображение, если речь шла о национальной гордости французов и о будущей, как надеялись жители Орлеана, официально канонизированной святой?
Как я уже упоминала, в тексте астрологического альманаха 1678 г. о Жанне д’Арк не говорилось ни слова. Однако в опубликованной с ним под одной обложкой «Пляске смерти» среди главных действующих лиц (императоров, королей, рыцарей, купцов, ремесленников, знатных дам, монашек, крестьянок, кормилиц и т. д.) внезапно появлялась Ведьма (Sorciere), которая выслушивала следующий совет от Смерти:
Оставь свое магическое искусство и дьявольские заклинания,
Откажись от любого презренного колдовства.
Надейся на великого Господа, проси у него прощения.
Возможно, он услышит твою молитву[544 - «Quitte ton art magique et tes sort au Demon, / Renon?ant ? tous parsts detestable sorciere. / Espere en ce grand Dieu, demande luy pardon. / Il pourra exaucer peut estre ta priere» (Almanach pour l’an de grace Mil Six cens Soixante et dix-huite. [P. 44]).].
Как мне представляется, именно этот пассаж, по задумке издателя Жана Урселя, должен был перекликаться с вынесенным на обложку весьма специфическим «портретом» Жанны д’Арк, как бы намекавшим на обвинения в занятиях колдовством, которые предъявили девушке на процессе 1431 г., состоявшемся там же, в Руане, где и был опубликован альманах[545 - Тогоева О. И. Еретичка, ставшая святой. С. 138–150.]. Данное предположение подтверждается, на мой взгляд, тем обстоятельством, что у женской фигуры на гравюре только половина лица имела человеческие черты, тогда как вторая его часть напоминала звериную морду. Более того, на левой руке этого странного персонажа столь же явственно просматривалась шерсть, пробивающаяся даже сквозь рукав платья, а пальцы, сжимавшие условный носовой платок, превратились в лапу с когтями.
Подобные метаморфозы были хорошо знакомы французам раннего Нового времени и по художественной литературе, и по сочинениям теологов и правоведов, и по материалам судебных процессов. Речь в данном случае шла о человеке, способном менять свое обличье, являвшемся вервольфом, т. е. оборотнем. И если наиболее ранние, относившиеся к XII–XIII вв. рассказы о подобных существах представляли их, скорее, жертвами обмана, предательства или проклятия[546 - Такова была в первую очередь литературная традиция эпохи развитого Средневековья. Оборотни, утратившие человеческий облик по чужой воле, являлись персонажами лэ Марии Французской «Бисклаврет» (1160–1170 гг.), анонимного лэ «Мелион» (1190–1204 гг.), поэмы «Гийом де Палерн» (ок. 1195 г.), «Императорских досугов» Гервасия Тильберийского (1209–1214 гг.). Подробнее см.: Harf-Lancner L. La mеtamorphose illusoire: des thеories chrеtiennes de la mеtamorphose aux images mеdiеvales du loup-garou // AESC. 1985. T. 1. P. 208–226; Sconduto L. A. Metamorphoses of the Werewolf: A Literary Study from Antiquity through the Renaissance. L., 2008. P. 39–126; Sergent B. L’origine celtique des Lais de Marie de France. Gen?ve, 2014. P. 102–111.], то уже с начала XV столетия, по мнению всех без исключения европейских авторов, наиболее тесной оказывалась связь между ликантропией и колдовством.
***
Само явление оборотничества было известно европейцам еще с Античности[547 - Впрочем, античные авторы (например, Плиний Старший) далеко не всегда верили в существование вервольфов: «…homines in lupos verti rursusque restitui sibi falsum esse confidenter existimare debemus aut credere omnia quae fabulosa tot saeculis conperimus; unde tamen ista volgo infixa sit fama in tantimi ut in maledictis versipelles habeat indicabitur» (Pliny. Natural History / Ed. with an English transl. by H. Rackham. L., 1947. T. 3. P. 58). См. русский перевод: Плиний Старший. Естественная история / Пер. И. Ю. Шабага // Труды исторического факультета МГУ. Т. 53. М., 2012. С. 186–227. Кн. 8. § XXXIV.], однако у средневековых христианских писателей, прежде всего у отцов Церкви и теологов, отношение к нему долгое время оставалось крайне скептическим[548 - Harf-Lancner L. La mеtamorphose illusoire. P. 211–215; Oates C. Metamorphosis and Lycanthropy in Franche-Comtе, 1521–1643 // Fragments for a History of the Human Body. Part One. N. Y., 1989. P. 304–363, здесь Р. 317–318; Voisenet J. Bestiaire chrеtien. L’imagerie animale des auteurs du Haut Moyen Age (V
–XI
si?cles). Toulouse, 1994. P. 66–98, 188, 194–195, 286.]. Уже Тертуллиан прямо заявлял, что душа человека не может приспособиться к телу животного, не соответствует его природе, а потому и переселиться в него не может:
Ну что ж, пусть поэты превращаются в павлинов или лебедей, если у лебедей красивый голос, но в какое животное ты поместишь справедливого мужа Эака? В какого зверя безупречную женщину Дидону? Какую птицу получит в удел терпение, какое домашнее животное – благочестие, какую рыбу – невинность? Все они подвластны человеку, все подчинены, все отданы ему в собственность. Если он станет кем-то из них, умалится тот, которого за заслуги в жизни награждают изображениями, статуями и надписями, общественными почестями, привилегиями, которому курия и народ жертвует голоса на выборах[549 - Тертуллиан Квинт Септимий Флоренс. О душе / Пер., вступ. ст. и комм. А. Ю. Братухина. СПб., 2004. С. 101.].
Еще подробнее тот же вопрос рассматривал Блаженный Августин. В трактате «О граде Божьем» (413–423 гг.) он пересказывал многочисленные античные истории, связанные с ликантропией, позаимствованные им у Гомера, Плиния и Апулея, но прямо заявлял, что они представляют собой чистой воды вымысел[550 - Augustinus. De civitate Dei contra paganos // PL. T. 41. Col. 13–804, здесь Col. 573–576. См. русский перевод: Блаженный Августин. О Граде Божием / Сост. и подготовка текста к печати С. И. Еремеева // Блаженный Августин. Творения в 4 т. СПб.; Киев, 1998. Т. 4. С. 248–251.]. Что же касается рассказов об оборотнях, которые стали таковыми якобы благодаря колдовству, то в них знаменитый теолог призывал не верить, поскольку осуществить подобные превращения под силу одному Господу, демоны же способны породить лишь иллюзии, не имеющие ничего общего с реальностью, а потому не представляющие никакой опасности для окружающих[551 - «Haec vel falsa sunt, vel tam inusitata, ut merito non credantur. Firmisse tamen credendum est, omnipotentem Deum omnia posse facere quae voluerit, sive vindicando, sive praestando, nec daemones aliquid operari secundum naturae suae potentiam,… nisi quod ille permiserit, cujus judicia occulta sunt multa, injusta nulla» (Ibid. Col. 574).].
Концепция Августина оказала решающее влияние на средневековых авторов, затрагивавших в своих трудах проблему ликантропии, и прежде всего на их выкладки, касающиеся связи этого явления с занятиями колдовством. Буквально слово в слово она была повторена в каноне Episcopi (IX в.), первом официальном церковном документе, посвященном различным магическим практикам и вере в них: как и полеты на шабаш, превращения человека в диких зверей объявлялись здесь зловредными иллюзиями[552 - «Quisquis ergo aliquid credit posse fieri, aut aliquam creaturam in melius aut in deterius immutari aut transformari in aliam speciem vel similitudinem, nisi ab ipso creatore, qui omnia fecit et per quem omnia facta sunt, procul dubio infidelis est» (Canon Episcopi // Quellen und Untersuchungen zur Geschichte des Hexenwahns und der Hexenverfolgung im Mittelalter / Hrsg. von J. Hansen. Bonn, 1901. S. 38–39).]. Текст канона практически без изменений воспроизводился затем в «Декрете» Бурхарда Вормсского (1008–1012 гг.), где впервые особое внимание было уделено «тем, кого глупая народная молва называет вервольфами»: вера в существование подобных тварей объявлялась грехом и требовала покаяния[553 - «Credidisti quod quidam credere solent, ut illae quae a vulgo parcae vocantur, ipsae, vel sint, vel possint hoc facere quod creduntur; id est, dum aliquis homo nascitur, et tunc valeant illum designare ad hoc quod velint ut quandocunque ille homo voluerit, in lupum transformari possit, quod vulgaris stultitia weruvolff vocat, aut in aliam aliquam figuram? Si credidisti, quod unquam fieret aut esse possit, ut divina imago in aliam formam aut in speciem transmutari possit ab aliquo, nisi ab omnipotenle Deo, decem dies in pane et aqua debes poenitere» (Burchardus Wortatiensis Decretorum libri viginti // PL. T. 140. Col. 537–1058, здесь Col. 971, курсив мой – О. Т.).]. Наконец, в XIII в. чуть более гибкая концепция была предложена Фомой Аквинским: он полагал, что необходимо учитывать разницу между телесными метаморфозами, происходящими по естественным причинам (transmutationes corporalium rerum quae possuni fieri per aliquas virtutes naturales), и превращениями, чуждыми природе (transmutationes corporalium rerum quae non possuni virtute naturae fieri). Тем не менее, как и все его предшественники, автор «Суммы теологии» заявлял, что подобные трансформации осуществляются лишь по Божьему замыслу, тогда как дьявол и его демоны сбивают человека с пути истинного посредством видений и иллюзий[554 - Sancti Thomae de Aquino Summa Theologiae. Roma, 1888. III, 114, 4.].
Несмотря на столь ясно выраженный скептицизм в отношении реального превращения человека в зверя, их аллегорическое уподобление друг другу постоянно встречалось в трудах христианских авторов, начиная с самого раннего Средневековья. Как отмечала Валентина Тонеатто, сравнение с волками, заимствованное из Библии[555 - «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные» (Мф 7: 15).], уже в IV–V вв. широко применялось при описании еретиков и лжепророков[556 - Toneatto V. Aux marges de la foi, aux confins de l’humanitе. Bestialitе, hеrеsie et juda?sme de l’Antiquitе au dеbut du Moyen Age // Aux marges de l’hеrеsie. Inventions, formes et usages polеmiques de l’accusation d’hеrеsie au Moyen Age / Sous la dir. de F. Mercier et I. Rosе. Rennes, 2017. P. 19–52.]. К нему также прибегал, к примеру, Рабан Мавр[557 - «…aut haereticos vel dolosos homines, de quibus Dominus ait: Attendite a falsis prophetis, qui veniunt ad vos in vestimentis ovium, intrinsecus autem sunt lupi rapaces (Matth. VII). Et iterum: Videt lupum venientem, et dimittit oves, et fugit (Joan. X)» (Beati Rabani Mauri De Universo libri viginti duo // PL. T. 111. Col. 9–614, здесь Col. 223).], но особенно активно использовал данную аналогию в XII в. Бернард Клервоский – как в письмах, направленных против Петра Абеляра и Генриха Лозаннского, так и в проповедях, порицающих катаров[558 - «…lupi… devorabant plebem vestram sicut escam panis, sicut oves occisionis» (S. Bernardini Opera omnia. T. 8. No. 242.1). Подробнее об особенностях бестиарной метафорики Бернарда Клервоского см.: Bynum C. W. Monsters, Medians, and Marvelous Mixtures: Hybrids in the Spirituality of Bernard of Clairvaux // Bynum C. W. Metamorphosis and Identity. N. Y., 2001. P. 113–162; Sullivan K. The Inner Lives of Medieval Inquisitors. Chicago, 2011. P. 30–52.]. Уподобление еретиков волкам в овечьих шкурах было воспринято и более поздними авторами[559 - Bain E. Aux sources du discours antihеrеtique? Exеg?se et hеrеsie au XII
si?cle // Aux marges de l’hеrеsie. P. 53–83.]; утвердилось оно и в средневековой иконографии[560 - Trivellone A. L’hеrеtique imaginе. Hеtеrodoxie et iconographie dans l’Occident mеdiеval, de l’еpoque carolingienne ? l’Inquisition. Turnhout, 2009.].
Наиболее ранние упоминания оборотней в связи с ведовскими процессами относились к 30?м годам XV в. и происходили из альпийского региона, т. е. с территории современной Швейцарии[561 - Современные исследователи полагают, что именно в альпийском регионе началось систематическое преследование ведовских сект и возникли первые демонологические сочинения. Подробнее см.: Тогоева О. И. Шабаш ведьм: ранние образы и их возможные прототипы // In Umbra: Демонология как семиотическая система / Отв. ред. Д. И. Антонов, О. Б. Христофорова. Вып. 6. М., 2017. С. 9–42.]. Так, в 1428 г. в деле Пьера Шедаля из Ланса говорилось, что на шабаш он и его подельники добирались верхом на демонах, обернувшихся волками[562 - «…videlicet super eo quod dicti Petrus Regis et Anthonius dixerunt quod dictus Petrus equitabat qemdam lupum ut asserebat vel alia nomine sortilegii idem Petrus Chedal» (L’imaginaire du sabbat. P. 87, note 92).]. В 1429 г. против Агнес Ломбард из Веве было выдвинуто обвинение в том, что она помогала другим ведьмам овладеть искусством ликантропии, готовя для них специальную мазь[563 - «Item, dicit et confitetur quod quodam alio semel ipse tres, ipsa <Francza Roso>, Agnessina <Lombarda> et Minola <uxor Johannis de Furno>, erant versus Borniam seu aquam Bornie ubi ipsa inquisita et Minola, uxor Johannis de Furno, erant ad modum lupi et dicta Agnessina ad modum persone et ipsa Agnessina equitabat Minolam et faciebat bridas de ejus trettiour et quod dicta Agnessina ungebat se et dictam Minolam et ipsam de quodam unguento por los soffrens sic quod quando erant ad modum animalis, velociter currebant» (Ibid. P. 87–88, note 93).]. Ту же Агнес свидетели якобы часто видели в компании волков, однако в материалах дела не уточнялось, являлась ли она сама вервольфом[564 - «…vidit dictam Agnessinam inquisitam desubtus prope Borniam, loco dicto ex Rives, et pro tunc ipsa deponens inspexit et vidit quod ipsa inquisita sedebat inter tres lupos qui se crupibant circumcirca ipsam inquisitam et quod vox et fama est contra ipsam de talibus maleficiis» (Ibid. P. 87, note 91).]. О способности некоторых людей к оборотничеству в своей «Хронике» (ок. 1430 г.) писал лишь Ганс Фрюнд, который, как полагают издатели, основывался на материалах только что прошедших в Вале ведовских процессов. Информация, которую он собрал, оказывалась, правда, весьма противоречивой: автор сообщал, что дьявол (boese geist, «злой дух») научил своих приспешников оборотничеству, однако они, будучи призваны к ответу, не в состоянии сказать, как происходит их превращение в волков, и полагают, что этому способствует сам Нечистый[565 - «Ouch waren iro vil under inen, die der bo
se geist leret, dz sy ze wolffen wurden, des s? selber du
chtte und nit anders wusten, wann dz sy wolff werint, und wer sy ouch dennzem?l sach, der wuste ouch nit anders, wonnt das einer oder eine ein wolff were uff die stund; und erl?ffen ouch schaff, lember und gei?, und assen die also ro
w in eines wolffes figur, und wenne sy wolten, so wurden sy widerumb ze mo
nschen als ee» (Ibid. P. 36).]. Возможно, именно из?за невнятности приведенных у Фрюнда сведений в последующие годы в документах, происходивших из альпийского региона, упоминалась только способность ведьм и колдунов превратить другого человека в животное[566 - Из демонологических трактатов, созданных в первой половине XV в. в альпийском регионе следует также упомянуть «Муравейник» Иоганна Нидера (1431–1449 гг.). В этом тексте не говорилось прямо о существовании оборотней, но присутствовало сравнение ведьм, пожирающих на шабаше собственных детей, с волками – единственными дикими зверями, имеющими такое же обыкновение: «…ymmo adversus condiciones specierum omnium bestiarum, lupina excepta tantummodo, proprie speciei infantes vorant et comedere solent» (Ibid. P. 152). См. также: Maier E. Trente ans avec le diable. Une nouvelle chasse aux sorciers sur la Riviera lеmanique (1477–1484). Lausanne, 1996. P. 89–101; Modestin G. Le diable chez l’еv?que. Chasse aux sorciers dans le dioc?se de Lausanne (vers 1460). Lausanne, 1999. P. 260–262.].
Возникшие чуть позже бургундская и французская демонологические традиции в полной мере ощутили на себе влияние альпийских идей[567 - Тогоева О. И. Шабаш ведьм: ранние образы и их возможные прототипы.]. Так, анонимный автор «Краткой [истории] лионских вальденсов», созданной в 1430–1450 гг. по результатам массовых гонений на членов ведовских «сект» в Лионе и Аррасе[568 - См. о них: Mercier F. La Vauderie de Lyon a-t-elle eu lieu? Un essai de recontextualisation (Lyon, vers 1430–1440?) // Chasses aux sorci?res et dеmonologie. Entre discours et pratiques (XIV
–XVII
si?cles) / Ed. par M. Ostorero, G. Modestin, K. Utz Tremp. Florence, 2010. P. 27–44; Idem. D’une Vauderie ? l’autre: les clеs de la rеussite ou de l’еchec d’une persеcution contre la sorcellerie en territoire urbain ? Lyon (v. 1440) et Arras (v. 1460) // La sorcellerie et la ville / Ed. par A. Follain, M. Simon. Strasbourg, 2018. P. 31–50.], сообщал, что дьявол является на встречу со своими адептами в облике самых разных животных, в том числе волка[569 - «Quandoque vero dyabolus apparet in forma et similitudine bestie alicuius, sed semper immunde, turpis et vilissime, utpote hyrci, vulpis, grosse, canis, vervecis, lupe, cati, taxi, tauri et huiusmodi» (Vauderye de Lyonois en brief // Quellen und Untersuchungen zur Geschichte des Hexenwahns und der Hexenverfolgung im Mittelalter / Hrsg. von J. Hansen. Bonn, 1901. S. 188–195, здесь S. 189).]. А Пьер Мамори, доктор теологии из университета Пуатье, уточнял в «Биче демонов» (1460–1462 гг.): не только сами демоны могут принимать вид животных, они научили этому искусству ведьм и колдунов, которые обращают своих жертв в диких зверей[570 - «Eo que compertum est quosdam maleficos homines multos in infirmitatibus detinere ex arte sua per pulueres circulos vel per ea simulacra (que vota appellant) vel per solam incantationem homines in bestias converti» (Mamoris P. Flagellum maleficorum. Lyon, [1489], s. p.).].
Только в 1580 г. в «Демономании колдунов» Жана Бодена впервые, насколько можно судить, появились подробные рассказы о ведьмах и колдунах, которые не просто владели искусством ликантропии, но и сами умели превращаться в волков. Знаменитый французский юрист посвятил этому вопросу отдельную главу своего труда[571 - Bodin J. De la dеmonomanie des sorciers. P., 1580. Fol. 94v–104.], в которой описал сразу несколько процессов над вервольфами – прежде всего, над Пьером Бурго и Мишелем Верденом из Безансона в 1521 г.[572 - «Les accusez estoyent Pierre Burgot, et Michel Verdun, qui confesserent avoir renoncе a Dieu, et jurе de servir au Diable… Puis apres s’estans oincts furent tournez en loups courant d’une lеg?retе incroyable, puis qu’ils estoyent changez en hommes, et souvent rechangez en loups et couplez aux louves avec tel plaisir qu’ils avoyent accoustumе avec les femmes. Ils confesserent aussi, ? s?avoir Burgot, avoir tuе un jeune gar?on de sept ans avec ses pattes, et dents de loup, et qu’il le vouloit manger, n’eust estе que les pa?sans luy donnerent la chasse» (Ibid. Fol. 96v).], а также над Жилем Гарнье из Лиона, дело которого рассматривалось парламентом Доля в 1573 г.[573 - «C’est ? s?avoir que ledict Garnier le jour sainct Michel, estant en forme de Loup garou print une jeune fille de l’aage de dix ou douze ans pr?s le bois de la Serre, en une vigne, au vignoble de Chastenoy pres Dole un quart de lieu?, et illec l’avoit tuee, et occise, tant avec ses mains semblans pattes qu’avec ses dents, et mangе la chair des cuissees, et bras d’icelle, et en avoit portе ? sa femme» (Ibid. Fol. 96).] В следующем, XVII столетии подобных процессов во Франции состоялось также немало[574 - Possession et sorcellerie au XVII
si?cle / Ed. par R. Mandrou. P., 1979. P. 33–109; Le Roy Ladurie E. La Sorci?re de Jasmin. P., 1983. P. 55–68; Oates C. Metamorphosis and Lycanthropy in Franche-Comtе; Eadem. The Trial of a Teenage Werewolf, Bordeaux, 1603 // Criminal Justice History. 1988. Vol. 9. P. 1–29.].
***
Именно эта новая тенденция в европейской демонологии, вне всякого сомнения, лежала в основе изображения Жанны д’Арк в образе оборотня на обложке руанского астрологического альманаха 1678 г. Ошибка в интерпретации гравюры полностью исключалась, поскольку неизвестный художник оставил своим зрителям еще одну подсказку: левая половина тела девушки, уже начавшей превращаться в монстра, располагалась под луной, а европейцам еще со времен Гервасия Тильберийского было известно, какое значение ее фазы имеют для оборотничества[575 - Sconduto L. A. Metamorphoses of the Werewolf. P. 3.]. Вместе с тем гравюра, как кажется, содержала в себе почти неприкрытую насмешку над героиней: в подавляющем большинстве французских процессов XVI–XVII вв. против вервольфов в качестве подсудимых фигурировали мужчины, в данном же случае то же самое обвинение подспудно выдвигалось против Орлеанской Девы, проявившей себя в ратном деле значительно увереннее многих представителей сильного пола.
Иными словами, столь любезный Лукасу Кранаху Старшему образ сильной женщины (Weibermacht) обыгрывался на обложке руанского альманаха 1678 г. со всех возможных сторон. Здесь вновь – в который раз во французской истории – поднималась тема двойственного отношения к Жанне д’Арк, что со всей очевидностью прослеживалось и по ее ранним «портретам». Впрочем, и сам «Портрет эшевенов», послуживший основой для этой гравюры, также не был лишен противоречивости – как, собственно, и образ ветхозаветной Юдифи, к которому он отсылал[576 - См. выше с. 83–84.]. А богатое платье, дорогие украшения и шляпа по последней моде – как и в случае с иконографией Марии Магдалины – порождали вроде бы совершенно ненужные в данном случае ассоциации с женщиной, склонной к роскоши, а следовательно, к разврату и обману[577 - См. выше с. 142.].
Превращая Жанну д’Арк наполовину в монстра, руанский издатель Жан Урсель, возможно, хотел таким оригинальным образом подчеркнуть собственные сомнения относительно подлинной сущности героини Франции – или же просто напомнить своим читателям о событиях, происходивших в их родном городе в середине XV столетия, а также о слухах, которые сопровождали спасительницу Орлеана на протяжении почти всей ее жизни и касались прежде всего ее склонности к занятиям колдовством.
Что же касается поэмы Евстахия фон Кнобельсдорфа, в качестве иллюстрации для которой в 1879 г. было использовано то же самое изображение, то и здесь оно могло в первую очередь отсылать к обвинениям, выдвинутым против Жанны д’Арк, тем более что и автор о них упоминал[578 - «C’est sous prеtexte d’hеrеsie que cette vierge cеleste souffrit le supplice inf?me des flammes cruelles. Le corps innocent de cette vierge sans tache est br?lе; telle fut la rеcompense accordеe ? sa vertu» (цит. по: Lanеry d’Arc P. Livre d’or de Jeanne d’Arc. P. 651).]. Подобными соображениями – заставить своих соотечественников не забывать о не всегда однозначно воспринимаемом прошлом – мог руководствоваться знаменитый орлеанский печатник Анри Эрлюисон, в типографии которого была издана поэма.
Однако причина его неординарного решения могла крыться и совсем в ином. Будучи уроженцем Пруссии, Евстахий фон Кнобельсдорф вполне мог удостоиться столь двусмысленного оформления своего сочинения в память о войне, которую Франция вела с его родиной в 1870–1871 гг. и в которой потерпела сокрушительное поражение. Впрочем, если так оно и было в действительности, сам автор об этом уже не узнал…
Глава 6
Личный пантеон кардинала Ришелье
Полагаю, читатель уже обратил внимание на странную закономерность, характерную буквально для всех «портретов» Жанны д’Арк, появлявшихся во Франции в XV–XVI вв. В каждом из них при ближайшем рассмотрении скрывалась некая загадка – вернее, двусмысленность. Несмотря на, казалось бы, завершившийся успехом процесс по реабилитации героини Столетней войны, многие ее соотечественники продолжали сомневаться и в ее личных качествах, и в ее заслугах перед отечеством.
Кто же все-таки предпринял попытку положить конец этим сомнениям? Когда, наконец, во Франции появился первый «портрет» Жанны д’Арк, не обладавший явными негативными коннотациями? Ответить на подобные, хотя и неизбежно возникающие, вопросы достаточно сложно, ведь на протяжении нескольких последующих веков наиболее часто воспроизводимой иконографической схемой при изображении Орлеанской Девы оставался уже знакомый нам «Портрет эшевенов», автора которого вдохновляла, по всей видимости, «Юдифь» Лукаса Кранаха Старшего. И помимо многочисленных, рассмотренных выше поясных образов Жанны д’Арк до нас дошло также немало вариантов гравюр и картин, где ее запечатлели в полный рост[579 - Подробнее см.: Jeanne d’Arc. Les tableaux de l’Histoire, 1820–1920. P. 22, 24, 29, 30, 48, 50, 52, 62; Michaud-Frеjaville F. Jeanne aux panaches romantiques. P. 264, 266, 268, 270. Воспроизведение той же иконографической схемы на английских гравюрах XVII–XIX вв. см.: Orgelfinger G. Joan of Arc in the English Imagination. P. 69, 117, 118, 121, 123.].
Так, вероятно, уже в конце XVI столетия был создан очередной «портрет» Девы, достаточно часто воспроизводившийся впоследствии и являвшийся неким «гибридом» «Портрета эшевенов» (ил. 21, с. 155) и инициала из рукописи материалов процесса по реабилитации, датирующейся самым концом XV в. (ил. 9, с. 57)[580 - Proc?s de condamnation et de justification de Jeanne d’Arc, prеcеdеs de la chronique du si?ge d’Orlеans // BNF. Ms. lat. 14665. Fol. 349.]. Здесь Жанна фигурировала в рыцарском доспехе и в легко узнаваемом головном уборе (шляпе с богатым плюмажем), однако в руках она сжимала не только меч, но и боевой топор (ил. 31). Данная гравюра (или миниатюра) была опубликована в том числе в иллюстрированном издании монографии Анри Валлона, который утверждал, что лично видел ее в собрании некоего господина Жарри, жителя Орлеана[581 - Wallon H. Jeanne d’Arc. Edition illustrеe. P. 438.].
Ил. 31. Неизвестный художник. Жанна д’Арк. XVI в. (?): Wallon H. Jeanne d’Arc. Edition illustrеe d’apr?s les Monuments d’Art depuis le quinzi?me si?cle jusqu’? nos jours. 3 еd. P., 1877. P. 438.
В 1647 г. тот же образ оказался повторен Клодом Виньоном на гравюре, которой открывалась глава, посвященная Жанне д’Арк в сочинении иезуита Пьера Лемуана «Галерея сильных женщин»[582 - Lemoyne P. La gallerie des femmes fortes. P., 1647. P. 303. Пьер Лемуан именовал свою героиню пророком, посланным Свыше, генералом армии, руководящим всеми военными операциями королевских войск, и освободительницей страны: «Ouy une Fille, voire une Villageoise et une Berg?re a op?re cette merveille si peu attendue. L’importance est, que cette VilIageoise est Profetisse, et que cette Berg?re d’hier est auiourd’huy Gеnеrale d’Armеe, et sera demain Conquеrante… Dieu… l’a envoyеe au Roy chargеe de commandemens de combat, et de promesses de victoire» (Ibid. P. 304).]. Из неизменных атрибутов здесь сохранились шляпа с плюмажем, а также меч, правда, практически невидимый за фигурой самой героини. Одеяние девушки, изображенной на фоне битвы за Орлеан, представляло собой странную помесь из платья с «Портрета эшевенов» и доспехов, появившихся на более поздних вариациях этой картины (ил. 21, 27, с. 155 и 162); в руках же героиня сжимала теперь знамя (ил. 32). Гравюру сопровождала пояснительная надпись: «Дева, посланная Господом на помощь Франции, входит в осажденный англичанами Орлеан и через освобождение города дает знак к отвоеванию [всей] страны»[583 - «La Pucelle envoyеe de Dieu au secours de la France entre dans Orlеans assiеgе par les Anglois et par la libertе de cette ville donne commencement ? la dеlivrance de l’Estat» (Ibid. P. 303).].
Ил. 32. Клод Виньон. Жанна д’Арк. 1647 г. Гравюра к изданию: Lemoyne P. La gallerie des femme fortes. P., 1647. P. 303.
Именно этот вариант стал исходным для целой серии изображений Жанны д’Арк в полный рост, появившихся уже в XIX в. Мы видим его, к примеру, на уже упоминавшихся анонимной гравюре начала столетия (ил. 4, с. 13) или на картине 1818 г. «Бой у Турели» Ж.?Б.?Ф. Босио (ил. 6, с. 15).
Однако среди массы схожих в целом гравюр и живописных полотен совершенно особое место занимала всего одна работа – «Жанна д’Арк», созданная в начале 1630?х гг. и предназначавшаяся самому могущественному на тот момент человеку во Франции – первому министру Людовика XIII, кардиналу Ришелье. Имя заказчика, а также место, где планировалось разместить данный портрет, уже сами по себе предполагали, что на сей раз он должен быть наделен исключительно положительными смыслами.
***
О строительстве своей новой парижской резиденции кардинал Ришелье задумался в 1628 г. Ее проект он заказал французскому архитектору Жаку Лемерсье и уже в 1629 г. получил первые чертежи[584 - Анри Соваль, адвокат и член Парижского парламента, автор трехтомной истории французской столицы, законченной около 1655 г., полагал тем не менее, что план дворца был разработан лично кардиналом Ришелье: «Mercier, le meilleur et le plus solide Architecte de notre tems, a conduit ce grand et magnifique Palais: ou plut?t pour dire ce qui en est, Mercier, dans toute la conduite de ce Palais, n’a fait qu’exеcuter les intentions du Cardinal de Richelieu» (Sauval H. Histoire et recherches des antiquitеs de la ville de Paris. 3 vol. P., 1724. T. 2. P. 159).]. В том же году на улице Сент-Оноре начались работы, которые полностью завершились только в 1641 г. Дворец получил название Пале-Кардиналь (Palais-Cardinal), а сегодня он известен всем как Королевский (Palais Royal)[585 - Согласно завещанию кардинала Ришелье, после его смерти дворец отошел королевской семье. В нем поселились вдовствующая Анна Австрийская и юный Людовик XIV, а затем кардинал Мазарини. Подробнее о строительстве Пале-Кардиналь см.: Bercе F. Le Palais Cardinal // Richelieu et le monde de l’esprit / Exposition, Paris, Sorbonne, novembre 1985, organisеe par la Chancellerie des universitеs de Paris et l’Acadеmie fran?aise, prеface de A. Tuilier. P., 1985. P. 61–66; Krause K. Richelieu au Palais-Cardinal // Richelieu, patron des arts / Sous la dir. de J.?C. Boyer, B. Gaehtgens, B. Gady. P., 2009. P. 273–292.].
Роскошное здание отвечало как государственным, так и частным интересам кардинала[586 - Анри Соваль оставил нам подробнейшее описание внутреннего устройства и убранства дворца: Sauval H. Histoire et recherches des antiquitеs de la ville de Paris. T. 2. P. 159–172. Поэтажные планы здания приведены в: Sauvel T. De l’h?tel de Rambouillet au Palais-Cardinal // Bulletin Monumental. 1960. T. 118 (3). P. 169–190.]. Помимо личных покоев в нем располагались театр (который неоднократно посещал Людовик XIII с семьей) и библиотека, выставлялись многочисленные богатейшие коллекции Ришелье, включавшие картины, скульптуры, старинный китайский фарфор, серебро и ковры[587 - Специалисты полагают, что кардинал являлся первым частным коллекционером в Западной Европе. Предметы искусства он получал в дар, покупал и заказывал специально: только в марте 1633 г. Ришелье, с разрешения папского престола, вывез из Рима 60 мраморных статуй, столько же бюстов и пять ваз. В результате в Пале-Кардиналь хранились 262 картины, 400 единиц китайского фарфора и 22 хрустальных предмета. Собрание ювелирных изделий оценивалось в 58 тысяч ливров, а серебра – в астрономическую сумму 237 тысяч ливров, которые многие исследователи склонны рассматривать как государственный резерв Франции первой половины XVII столетия: Knecht R. J. Richelieu. L.; N. Y., 2013. P. 205–208.]. Также – по особому распоряжению хозяина – во дворце была устроена так называемая Галерея знаменитых людей, украшенная настенными панно с изображениями героев прошлого.
Подобные помещения существовали во всех резиденциях первого министра, однако каждое из них имело свои отличия. Так, во дворце в Лимуре стены были увешаны изображениями Людовика XIII и его супруги Анны Австрийской, принцев крови и видных представителей знати, а в Буа-ле-Виконт – портретами прежних французских королей и королев. Что же касается сеньории Ришелье (Пуату), то в родовом замке кардинала имелись комнаты, которые предназначались специально для правящего монарха и были украшены коврами и живописными полотнами со сценами из античных истории и мифов (подвиги Геракла, эпизоды Троянской войны, жизнь Ахилла). На стенах галереи красовались сорок полотен, представлявшие все битвы, выигранные Францией за то время, что Ришелье находился у власти, а в личных покоях хозяина замка были размещены портреты его предков и виднейших европейских правителей[588 - Babelon J.?P. Le chateau de Rueil et les autres demeures du cardinal // Richelieu et le monde de l’esprit. P. 75–81; Mignot C. Le ch?teau et la ville de Richelieu en Poitou // Ibid. P. 67–74; Knecht R. J. Richelieu. P. 201–202.].
Тем не менее в Пале-Кардиналь в Париже выбор убранства осуществлялся по совершенно иному принципу. Обустройство галереи началось здесь одновременно со строительством основных залов дворца, в 1629 г., и было закончено в 1633 г. Иными словами, данное помещение появилось очень быстро, особенно учитывая его размеры: 49 м в длину и 6 м в ширину[589 - Dorival B. La Galerie des Hommes illustres du Palais-Cardinal // Richelieu et le monde de l’esprit. P. 341–359, здесь Р. 341; Merle de Bourg A. Peter Paul Rubens et la France, 1600–1640. Villeneuve d’Ascq, 2004. P. 126.]. Такая скорость объяснялась не в последнюю очередь значением, которое придавал Ришелье этой части своей резиденции.
Все портреты, предназначенные для галереи, были созданы самыми известными французскими художниками XVII в.[590 - Интересно при этом отметить, что творчество французских живописцев интересовало Ришелье в меньшей степени. В его собрании имелись работы Филиппа де Шампаня, Николя Пуссена и Жоржа де Латура, но преобладали шедевры итальянских мастеров – Леонардо да Винчи, Рафаэля, Антонио Корреджо, Джованни Беллини, Тициана, Лоренцо Лотто: Boubli L. Les collections parisiennes de peintures de Richelieu // Richelieu et le monde de l’esprit. P. 103–113.] Первым заказ получил Филипп де Шампань, один из главных представителей парижской школы живописи того времени, как раз с 1628 г. начавший работать преимущественно для Людовика XIII и королевы-матери Марии Медичи[591 - «Estant sorti de Paris en 1627 ? peine fut-il arrivе ? Bruxelles que l’Abbе de Saint Ambroise luy fir s?avoir la mort de Duchesne premier Peintre de la Reine-Mere, et le pressa si fort de retourner promptement en France pour entrer dans sa place, et avoir l’entiere conduite des Peintures de Sa Majestе, qu’il fut de retour ? Paris le 10 Janvier 1628» (Fеlibien A. Entretiens sur les vies et les ouvrages des plus excellents peintres anciens et modernes. P., 1688. T. 5. P. 166).] и являвшийся автором многих прижизненных портретов кардинала Ришелье[592 - Dorival B. Richelieu et Philippe de Champaigne // Richelieu et le monde de l’esprit. P. 129–134.]. Однако уже в 1632 г., очевидно, не справляясь с огромным заказом, де Шампань передал его часть своему коллеге – Симону Вуэ, художнику-монументалисту, портретисту и декоратору, в 1627 г. также ставшему «первым живописцем короля»[593 - «Le Roy ayant jettе les yeux sur luy pour en faire son premier Peintre, et pour le prеposer ? tous les Ouvrages de Peinture qui se faisoient pour l’ornement de ses Maisons Royales… Il voulut encore que Vou?t luy apprist ? dessiner et ? peindre en pastel pour se devertir, et pour faire les Portraits de ses plus familiers Courtisans» (Perrault Ch. Simon Vo?et, premier peintre du roy // Perrault Ch. Des hommes illustres qui ont paru en France pendant ce si?cle. 2 vol. P., 1695–1696. T. 2. P. 89). Анри Соваль упоминал в «Истории Парижа», что Ришелье с трудом согласился на участие Симона Вуэ в росписи дворца, однако результатом его работы остался доволен: «…aussi avoient-ils еtе faits par Champagne et par Vouet avec tant d’еmulation, que, comme le Cardinal ne vouloit point se servir de Vouet, et cependant ? la fin y ayant consenti, celui-ci n’oublia rien pour signaler son pinceau, et montrer qu’il valoit bien, tout au moins, celui de son rival» (Sauval H. Histoire et recherches des antiquitеs de la ville de Paris. T. 2. P. 166).]. Оба мастера пользовались также услугами своих учеников, поскольку качество изображений – о котором мы можем судить по тем полотнам, которые сохранились до наших дней, – оказалось не везде одинаковым. Тем не менее все портреты оказались выполнены в более или менее единой манере: персонажи были представлены на них в полный рост и даже, по мнению Анри Соваля, превосходили натуральную величину[594 - «Les portraits furent peints plus grands que nature, par Vouet et par Champagne» (Ibid.).]. Каждое полотно окружали семь историзированных и четыре аллегорических сцены, а также изображения гербов и перечень девизов всех без исключения персонажей[595 - «Les Distiques sont en lettres d’or au bas de chaque portrait, et aux deux c?tеs les embl?mes et les actions signalеes separеment» (Ibid.). См. также: Merle de Bourg A. Peter Paul Rubens et la France. P. 126–128.].
Число и состав портретируемых были согласованы с Ришелье лично[596 - «…lui m?me en f?t le choix, et les rangea ainsi que nous les voyons, avec des distiques, des embl?mes, et quelques representations de ce qu’ils ont fait de mеmorable» (Sauval H. Histoire et recherches des antiquitеs de la ville de Paris. T. 2. P. 166).], все это были славные герои прошлого и настоящего Франции, однако выбор кардинала, следовавшего в данном случае итальянской традиции XV–XVI вв.[597 - Dorival B. La Galerie des Hommes illustres du Palais-Cardinal. P. 341.], весьма отличался от того, что он хотел видеть в прочих своих резиденциях. Безусловно, в Palais-Cardinal имелись изображения членов королевской семьи, хотя и в очень ограниченном количестве. Здесь оказались представлены только Генрих IV с Марией Медичи, их сын Людовик XIII, его супруга Анна Австрийская и младший брат Гастон, герцог Орлеанский[598 - Наличие последнего портрета вызывает особый интерес, учитывая сложные отношения Гастона Орлеанского с кардиналом Ришелье и с самим Людовиком XIII, единственным наследником которого он являлся вплоть до 1638 г. и рождения дофина, будущего Людовика XIV. Гастон, выступая последовательным критиком политики абсолютизма, участвовал в многочисленных мятежах и заговорах, направленных против короля и его первого министра. Подробнее см.: Gatulle P. L’image de Gaston d’Orlеans: entre mеmoires, fiction et historiographie // Revue d’histoire moderne et contemporaine. 2012. Vol. 59 (3). P. 124–142; Waele M. de. Le prince, le duc et le ministre: conscience sociale et rеvolte nobiliaire sous Louis XIII // Revue historique. 2014. T. 670. P. 313–341; Idem. Conflit civil et relations interеtatiques dans la France d’Ancien Rеgime: la rеvolte de Gaston d’Orlеans, 1631–1632 // French Historical Studies. 2014. Vol. 37 (4). P. 565–598.]. Значительно большее внимание было уделено в галерее людям, состоявшим на службе у французских монархов, начиная с XII в. и заканчивая собственно XVII столетием. Этих государственных деятелей, заслуживших славу своей верностью короне, выдающимися способностями в делах управления и в делах войны[599 - Именно так охарактеризовал этих героев прошлого Анри Соваль: «C’est-l? qu’il a placе ces Hеros, qui par leurs conseils et par leur courage ont maintenu de tout tems la Couronne» (Sauval H. Histoire et recherches des antiquitеs de la ville de Paris. T. 2. P. 166).], можно было условно разделить на две группы – на представителей церкви и людей светских.
К первым относились:
Сугерий (ок. 1081–1151), монах-бенедиктинец, аббат Сен-Дени, советник Людовика VI и Людовика VII, регент Франции во время Второго крестового похода (1147–1149 гг.);
• Жорж д’Амбуаз (1460–1510), кардинал и папский легат во Франции, министр двора и первый советник Людовика XII;
• Шарль де Гиз (1524–1574), кардинал Лотарингский, советник короля Франциска II и один из самых активных деятелей времен Религиозных войн;
• и, наконец, сам кардинал Ришелье.
Светские персонажи были представлены значительно более широко. В эту группу входили:
• Симон IV де Монфор (1160/1165–1218), участник Четвертого крестового похода (1202–1204 гг.), военный предводитель крестового похода против альбигойцев (1209 г.);
• Гоше V де Шатильон († 1329), в 1302 г. ставший коннетаблем Франции и прослуживший в этой должности шести французским королям до самой своей смерти;
• Бертран Дюгеклен (1320–1380), еще один коннетабль Франции, прославленный полководец Карла V, единственный из всех королевских приближенных захороненный, согласно пожеланию монарха, вместе с ним – в усыпальнице Сен-Дени;
• Оливье V де Клиссон (1336–1407), побратим Бертрана Дюгеклена, в 1382 г. сменивший его на посту коннетабля Франции, один из военачальников Карла VI в период Столетней войны;
• Жан ле Менгр по прозвищу Бусико (1366–1421), маршал Франции при Карле VI, еще один активный участник Столетней войны;
• Жан, Бастард Орлеанский (1402–1468), воспитывавшийся вместе с будущим Карлом VII, за свои выдающиеся военные заслуги и верность получивший от него титул графа Дюнуа, а в 1403 г. ставший великим камергером Франции;
• Жанна д’Арк, героиня Столетней войны;
• Луи II де ла Тремуй (1460–1525), виконт де Туар, генерал французской армии при Карле VIII, Людовике XII и Франциске I, с 1520 г. – первый камергер короля, получивший прозвище «Безупречный рыцарь» (Le Chevalier sans reproche);
• Гастон де Фуа (1489–1512), герцог Немурский, племянник Людовика XII, назначенный им главнокомандующим во Втором итальянском походе французских войск (1511–1512 гг.) и заслуживший прозвище «Громобой Италии» (Foudre d’Italie);
• Пьер Террайль де Баярд (1476–1524), соратник и друг Гастона де Фуа, полководец времен Итальянских войн на службе у Карла VIII, Людовика XII и Франциска I, получивший прозвище «Рыцарь без страха и упрека» (Le Chevalier sans peur et sans reproche);
• Шарль де Коссе (1505–1563), граф де Бриссак, военачальник Генриха II, активный участник Итальянских войн, маршал Франции с 1550 г.;
• Анн де Монморанси (1492–1567), крестник французской королевы Анны Бретонской, воспитанный вместе с будущим Франциском I, участник Итальянских войн, ближайший советник Генриха II, маршал, коннетабль и пэр Франции;
• Франсуа I Лотарингский (1519–1563), второй герцог де Гиз, военный и государственный деятель времен Религиозных войн, советник короля Франциска II вместе со своим братом, Шарлем де Гизом, кардиналом Лотарингским;
• Блэз де Лассеран-Массенкон де Монтескью (1499–1577), сеньор де Монлюк, французский полководец времен Итальянских войн, прошедший путь от простого солдата до маршала Франции, служивший под руководством Пьера Террайля де Баярда;
• Арман де Гонто (1524–1592), барон де Бирон, один из основных деятелей католической партии в годы Религиозных войн во Франции, маршал Франции с 1577 г. и предок еще трех маршалов из рода Гонто-Биронов: сына Шарля, внука Армана и праправнука Людовика Антуана;
• Франсуа де Бонн (1543–1626), один из лучших полководцев Генриха IV, за свои заслуги получивший титул герцога Ледигьера и ставший в 1622 г. последним коннетаблем Франции.
К сожалению, почти все изображения этих выдающихся героев прошлого, украсившие галерею в парижской резиденции кардинала Ришелье, были впоследствии утрачены. До наших дней дошли лишь четыре портрета кисти Симона Вуэ (или его учеников): аббата Сугерия (Музей изобразительных искусств Нанта), Гоше де Шатильона (Лувр), Симона де Монфора (замок де Бурдей в Дордони) и Оливье де Клиссона (Музей Добре в Нанте). Из работ Филиппа де Шампаня сохранились портреты Гастона де Фуа (Версальский дворец), Блэза де Монлюка (частная коллекция) и Людовика XIII (Лувр)[600 - Dorival B. La Galerie des Hommes illustres du Palais-Cardinal.]. Кроме того, уцелели некоторые панно, окружавшие полотна: изображения сцен из жизни Сугерия («Избрание Сугерия аббатом Сен-Дени», «Сугерий приказывает отстроить аббатство Сен-Дени», «Людовик VII на похоронах Сугерия»), Гоше де Шатильона («Гоше де Шатильон при осаде Сент-Омера») и Бертрана Дюгеклена («Умирающий Дюгеклен получает ключи от замка Рандон»), хранящиеся сегодня в Музее изобразительных искусств Нанта, а также панно «Жанна д’Арк в битве при Пате», относившееся соответственно к портрету Девы и выставленное ныне в Музее изобразительных искусств Орлеана[601 - Merle de Bourg A. Peter Paul Rubens et la France. P. 221; Dorival B. Art et politique en France au XVII
si?cle: la gallerie des hommes illustres du Palais-Cardinal // Bulletin de la Sociеtе de l’histoire de l’art fran?ais. 1973. P. 43–60.].
По дошедшим до нас полотнам можно судить и о качестве единственного описания этого собрания картин, представленного в сочинении «Портреты знаменитых французов из Галереи во дворце кардинала Ришелье» и опубликованного впервые в 1650 г. Его автором стал Марк Вюльсон де ла Коломбьер, протестант родом из Дофине, на протяжении всей своей жизни состоявший на государственной службе: сначала как королевский советник в парламенте Дофине, затем – как член Парижского парламента и придворный (gentilhomme ordinaire) Людовика XIV[602 - Vulson, sieur de la Colombi?re. Les portraits des hommes illustres fran?ois, qui sont peints dans la Galerie du Palais Cardinal Richelieu. 2 еd. P., 1668.]. В XVII столетии наиболее востребованными из всех произведений Вюльсона де ла Коломбьера оказались работы, посвященные генеалогии старинных французских рыцарских семейств и их гербам[603 - Наравне с Клод-Франсуа Менетрие, Марк Вюльсон де ла Коломбьер почитается ныне как один из создателей французской профессиональной геральдики: [Vulson, sieur de la Colombi?re]. Recueil de plusieurs pi?ces et figures d’armoiries obmises par les autheurs qui ont escrit jusques icy de cette science, blasonnеes par le sieur Vulson de La Colombi?re,… suivant l’art des anciens roys d’armes, avec un discours des principes et fondemens du blason, et une nouvelle mеthode de cognoistre les mеtaux et couleurs sur la taille-douce. P., 1639 (
1689); [Idem]. La Science heroique, traitant de la noblesse, de l’origine des armes de leurs blasons, et symboles, des tymbres, bourlets, couronnes, cimiers, lambrequins, supports, et tenans, et autres ornements de l’escu; de la devise, et du cry de guerre, de l’escu pendant et des pas et emprises des anciens chevaliers, des formes differentes de leurs tombeaux; et des marques exterieures de l’escu de nos roys, des reynes, et enfans de France, et des officiers de la couronne, et de la maison du roy. P., 1639 (
1644); [Idem]. Le vrai Thе?tre d’honneur et de chevalerie, ou le miroir hеro?que de la noblesse… par Marc de Vulson, sieur de La Colombi?re. 2 vol. P., 1648.]. Однако для нас особый интерес представляют его «Портреты знаменитых французов», поскольку данное издание состояло не только из кратких биографий упомянутых выше персонажей: его главы сопровождались гравюрами, выполненными Франсуа Биньоном и Захари Энсом, на которых оказались воспроизведены все без исключения полотна из парижского дворца Ришелье.
Как отмечал Анри Соваль, современник и очевидец событий, эти иллюстрации полностью соответствовали тому, что посетители могли бы увидеть, посетив лично Пале-Кардиналь[604 - «…depuis nous avons vu paro?tte avec bien plus d’ordre et de bruit, lorsque Heintz et Bignon donn?rent au Public, dans un Volume in-folio, cette Gallerie toute enti?re avec un abrеgе que fit la Colombiere de la vie des grands Personnages qui y sont representеs. Les moindres beautеs de ce Livre font les embl?mes et les ornemens; et quoique Bignon et Heintz ayent fait leur possible pour se surpasser eux-m?mes, avec tout cela dans les grandes figures on n’y remarque point cette science, et cette libertе qui se voit dans les originaux» (Sauval H. Histoire et recherches des antiquitеs de la ville de Paris. T. 2. P. 166).]. Точно так же уже в XX в. полагал и Бернар Дориваль, признанный знаток французского изобразительного искусства раннего Нового времени[605 - Dorival B. Art et politique en France au XVII
si?cle. P. 43.]. Единственным существенным отличием некоторых гравюр было зеркальное, по сравнению с живописными полотнами, изображение героев: так произошло, к примеру, с портретами аббата Сугерия и Гоше де Шатильона[606 - Vulson, sieur de la Colombi?re. Les portraits des hommes illustres fran?ois. P. 1, 23. Воспроизведение живописных полотен см. в: Dorival B. La Galerie des Hommes illustres du Palais-Cardinal. P. 345, 349.]. Иными словами, в настоящее время сочинение Вюльсона де ла Коломбьера является уникальным источником – как письменным, так и иконографическим – по которому мы можем составить полное представление не только о том, кого
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: