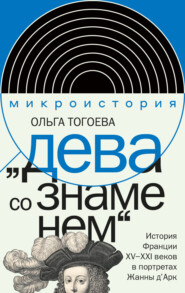скачать книгу бесплатно
Каждому из этих чудесных деяний предшествовало «пророчество» (prophеcie), которое давала Жанна д’Арк и которое в обязательном порядке исполнялось, что для орлеанских авторов являлось еще одним неоспоримым доказательством святости девушки. Так, по их мнению, она верно предсказала благополучное завершение путешествия из Вокулера в Шинон[421 - «Par quoy lors lou?rent Nostre Seigneur de la gr?ce qu’il leur avoit faicte, ainsi que leur avoit promis la Pucelle par avant» (Journal du si?ge d’Orlеans. P. 46). «Ladicte Jeanne congneut bien la crainte et doubte qu’ils faisoient; si leur dist: „En nom Dieu, menez-moi devers le gentil daulphin, et ne faicte doubte, que vous ne moy n’aurons aucun empeschement“» (Chronique de la Pucelle. P. 273). «Enffans, n’ayez de riens soussy. / En nom Dieu, nous eschapperons, / je le vous promеs tout ainsi, / n’empeschement ne trouverrons» (Le Mistere du siege d’Orleans. V. 9157–9160).]; положительное решение, вынесенное университетскими докторами относительно характера ее миссии[422 - «Elle demanda o? on la menoit; et il luy fut respondu que c’estoit ? Poitiers. Et lors elle dist: «En nom Dieu, je s?ay que je y auray bien affaire; mais Messires m’aydera; or allons, de par Dieu» (Chronique de la Pucelle. P. 275).]; смену ветра при приближении к Луаре, что позволило королевскому войску без проблем переправиться в Орлеан по воде[423 - «Laquelle chose fut dicte ? la dicte Jeanne, qui dist: «Attendez un petit, car, en nom Dieu, tout entrera en la ville». Et soudainement le vent se changea» (Chronique de la Pucelle. P. 284).]; смерть английского военачальника Гласдейла[424 - «Et la fut accomply la prophecie que on avoit dict audit Clacidas» (Chronique d’еtablissement de la f?te du 8 mai. Fol. 74v).]; удачную атаку на крепость Ла Турель[425 - «Et lors elle luy respondit: „Tout est vostre, et y entrez!“. Laquelle parolle fut toust apr?s congneue prophеcie» (Journal du si?ge d’Orlеans. P. 86).] и многое-многое другое[426 - См. также: Тогоева О. И. Жизнь как чудо. Стилистические особенности первых хроник о Жанне д’Арк // Человек читающий: между реальностью и текстом источника / Под ред. О. И. Тогоевой и И. Н. Данилевского. М., 2011. С. 163–175.].
Все это давало орлеанцам основание прямо называть Жанну д’Арк в своих сочинениях «святой девой»[427 - «Creurent tous fermement qu’elle estoit saincte pucelle et envoyеe de Dieu» (Journal du si?ge d’Orlеans. P. 117).], «Божьим творением»[428 - «C’estoit une crеature de Dieu» (Chronique de la Pucelle. P. 295).], «святой рукой Господа»[429 - «Dame Jehanne, / que ces faiz sont deliberez / de Dieu, comme la sainte manne» (Mistere du siege d’Orleans. V. 16174–16176).], «[девушкой,] преисполненной святости»[430 - «Remplye est de devoc?on, / sainctе et debonneretе, / que a toujour mes menc?on / en sera de sa saintetе» (Ibid. V. 16069–16072).] и уподоблять ее местным, официально канонизированным святым – Эверту и Эньяну. Автор «Хроники 8 мая» сообщал, что своих небесных покровителей жители регулярно видели на крепостных стенах: их молитвами – а также удачными военными операциями, осуществленными Девой, – город и был в конце концов спасен[431 - «Car en celuy temps fut recite par aulcuns des anglois estant pour lors oudict siege avoir veu durant yceluy siege deux prelatz en habit pontificat aller et circuir en cheminant par sus les murs deladicte ville d’Orleans» (Chronique d’еtablissement de la f?te du 8 mai. Fol. 76). Тот же пассаж повторялся в «Мистерии об осаде Орлеана», где Господь лично посылал двух святых на помощь Жанне д’Арк: «Vous, Euverte, et vous, Aignan, / Allez a Orleans la garder, / Et aydez sur toute rien / a la Pucelle, et entendez. / Gardez la ville et deffendez» (Le Mistere du siege d’Orleans. V. 12581–12585).].
К сожалению, нам не известно, имелись ли хотя бы в одной оригинальной рукописи сочинений, созданных в Орлеане и посвященных деяниям Жанны д’Арк, миниатюры или инициалы с ее изображением[432 - Мы не располагаем оригиналом «Дневника осады Орлеана», который неизвестный автор вел с начала противостояния с англичанами осенью 1428 г., и даже самая первая копия, снятая с этой рукописи примерно в середине 60?х гг. XV в., не сохранилась. Отсутствует у нас и оригинал «Хроники Девы»: ее текст был впервые опубликован в 1661 г. Дени Годфруа, который не указал, каким манускриптом он для этого воспользовался. Обе рукописи «Хроники 8 мая», как полагают исследователи, также являлись более поздними копиями. Текст «Мистерии об осаде Орлеана» свидетельствует о том, что над ним трудились в разные годы сразу несколько авторов, а ее единственный манускрипт был переписан набело по имевшимся, очевидно, в распоряжении последнего редактора черновикам только в начале XVI в. Что же касается «Компиляции о миссии, победах и пленении Жанны Девы», то ее единственный дошедший до нас экземпляр также не был оригиналом. Подробнее см.: Тогоева О. И. Кодекс Fr. F. IV. 86 (РНБ) и круг орлеанских источников о Жанне д’Арк.]. Тем не менее на волне неподдельного интереса, проявленного местными жителями к своей освободительнице во второй половине XV столетия, именно в их городе был установлен первый официальный и предназначенный для всеобщего обозрения памятник Орлеанской Деве, вполне, как кажется, подтверждавший идею ее возможной святости.
***
В действительности скульптурная группа, появившаяся на мосту через Луару, призвана была в первую очередь увековечить главное событие Столетней войны, с точки зрения орлеанцев, – снятие английской осады с города 8 мая 1429 г. Воспринимаемая как истинное чудо[433 - Анонимный автор «Хроники 8 мая» писал, что взятие его родного города англичанами означало бы практически гибель всего королевства: «Et aussi plusieurs autres villes en font solempnitе car si Orleans fust cheu entre les mains desditz Anglois le demourant du royaulme eust estе fort blessе» (Chronique d’еtablissement de la f?te du 8 mai. Fol. 76v).], эта победа положила начало уникальному местному празднику, впервые проведенному при участии самой Девы и с тех пор отмечаемому ежегодно[434 - Тогоева О. И. Долгое торжество: праздник 8 мая в Орлеане в политической истории Франции XV–XXI вв. // Событие и время в европейской исторической культуре (XVI – начало XXI в.) / Под ред. Л. П. Репиной. М., 2018. С. 150–178.]. Памятник занимал одно из центральных мест в «топографии» торжеств. В 1650 г. местный знаток древностей Симфорьен Гуйон специально отмечал в своей «Истории церкви, диоцеза, города и университета Орлеана», что религиозная процессия и примкнувшие к ней горожане, покинув после утренней службы 8 мая собор Святого Креста, обходили город по тем улицам, которые существовали на момент осады 1428–1429 гг.[435 - Это обстоятельство также специально оговаривалось в тексте: «Ainsi on va en ordre de procession faire le tour ou circuit de la Ville, comme elle estoit lors qu’elle fut delivrеe» (Guyon S. Histoire de l’еglise et dioc?se, ville et universitе d’Orlеans. Orlеans, 1650. P. 261–262).], и делали обязательную остановку на мосту перед памятником Жанне д’Арк, где предавались молитве[436 - «Sur le pont d’Orleans devant la belle Croix on fait la premi?re station, ? laquelle on chante le Respons» (Ibid. P. 262).].
И все же, несмотря на столь важную роль, которую играла данная скульптурная группа в празднике 8 мая на протяжении нескольких столетий[437 - Подробнее см.: Тогоева О. И. Между собором и городской площадью: топография праздника 8 мая в Орлеане (XV–XXI вв.) // Вестник РГГУ. Серия «Литературоведение. Языкознание. Культурология». 2020. № 5. С. 71–86.], об обстоятельствах ее создания мы не располагаем практически никакими достоверными сведениями. Неизвестным остается, когда и кому она была изначально заказана, кто ее оплатил и как выбиралось место для ее установки.
По мнению Шарля дю Лиса, издавшего в 1613 г. сборник поэтических произведений, написанных в честь Жанны д’Арк, и присовокупившего к ним тексты различных коммеморативных табличек из тех французских городов, где бывала при жизни его героиня, памятник в Орлеане был установлен в 1458 г. В подтверждение своих слов он приводил запись некоего «Д. Парана, доктора Сорбонны», якобы лично видевшего скульптуру на мосту[438 - «Nomen Iohannae Darciae hic exaratum literis Hebraicis, Graecis, et Latinis, ut in titulo crucis Christi (quam ipsa unic? coluit). Cuius nominis unaqueque litera numerum sublignatum prisco more denotat. Et numeri singuli antiquo, seu Romano caractere designati, simul iuncti, annum a Christo nato M CCCC LVIII conficiunt, quo monumentum istud in memoriam ipsius Ioannae Darciae, Urbis Aureliae ponti constitutum est… D. Parent, doct. Sorb.» (Lis Ch. du. Recueil de plusieurs inscriptions proposees pour remplir les Tables d’attente estans sous les statu?s du Roy Charles VII et de la Pucelle d’Orleans… et de diverses poesies faites a la lo?ange de la mesme Pucelle, de ses freres et leur posteritе. P., 1613. P. 2).]. Однако, кем являлся в действительности этот человек и когда именно он побывал в городе, Шарль дю Лис не уточнял. В 1648 г. те же сведения воспроизводились в «Истории и древностях Орлеана» Франсуа Лемэра, ссылавшегося уже на самого Шарля дю Лиса[439 - Lemaire F. Histoire et antiquitez de la ville et duche d’Orleans… Augmentеe des antiquitez des villes dependantes du chastelet et bailliage d’Orleans. 2 vol. Orleans, 1648. T. 1. P. 187, 203.]. Но уже в 1650 г. Симфорьен Гуйон высказывался относительно даты установления памятника более осторожно: он полагал, что это произошло «спустя небольшое время после [вынесения] знаменательного решения», т. е. после окончания процесса по реабилитации Девы[440 - «Les Orleanois… peu apres ce celebre iugement, erigerent sur le bord du Pont ? l’entrеe de leur ville l’Image de bronze de Nostre-Dame de Pitiе representеe au pied de la Croix, tenant le Corps du Sauveur en son giron, et d’un costе la Statu? du Roi Charles VII et de l’autre celle de la Pucelle pareillement de bronze» (Guyon S. Histoire de l’еglise et dioc?se, ville et universitе d’Orlеans. P. 255–256, курсив мой – О. Т.).]. Более того, немецкий врач и географ Иероним Мюнцер, в 1495 г. проезжавший через Орлеан и отметивший его «великолепный, в двадцать арок» мост через Луару, ни словом не упомянул о какой бы то ни было возвышающейся на нем скульптуре[441 - Michaud-Frеjaville F. Images de Jeanne d’Arc: de l’orante ? la sainte // Cahiers de Recherches Mеdiеvales. 2005. Т. 12 spеcial: Une ville, une destinеe. Recherches sur Orlеans et Jeanne d’Arc. En l’honneur de Fran?oise Michaud-Frеjaville. P. 249–257, здесь Р. 250.]. И хотя 1458 г. по-прежнему периодически возникает в исследованиях в качестве «точной даты» создания первого памятника Жанне д’Арк[442 - В последний раз эта ничем не подтвержденная информация оказалась воспроизведена в монографии Гейл Оргелфингер 2019 г.: Orgelfinger G. Joan of Arc in the English Imagination. P. 161.], в современной историографии отныне принято считать, что его появление следует отнести к самому концу XV в. или к первым годам XVI в.[443 - Франсуаза Мишо-Фрежавиль полагала, что памятник не мог появиться ранее 1502 г. Именно в это время Эньян и Этьен де Сен-Месмен, прокуроры города, ответственные за содержание моста через Луару, заказали и оплатили возведение постамента, на котором следовало затем установить некий крест. Возможно, речь шла об интересующей нас скульптурной группе, тем более что родной дед братьев де Сен-Месмен являлся соратником Жанны д’Арк в дни снятия осады с города, а затем свидетельствовал на процессе по ее реабилитации: Michaud-Frеjaville F. Images de Jeanne d’Arc: de l’orante ? la sainte. P. 249–250. О датировке памятника см. также: Brun P.?M. Le premier monument ? Jeanne d’Arc // Dossiers d’archеologie. 1979. T. 34. P. 70–76; Pessiot M. Illustre ou infortunеe. Figures de Jeanne d’Arc au dеbut du XIX
si?cle. P. 18; Heimann N. Joan of Arc in French Art and Culture. P. 7.]
Кто являлся заказчиком скульптурной группы, сказать также очень сложно. Симфорьен Гуйон полагал, что это были местные жители (les Orleanois)[444 - См. прим. 3 на с. 132.]. Понтус Хетерс, автор «Истории герцогов Бургундских в шести книгах» (1583 г.), посетивший город в 1560 г. и лично видевший памятник на мосту, утверждал, что он был установлен на средства «девушек и матрон Орлеана»[445 - «Positam fuisse hoc tempore opera sumptuque virginum ac matronarum Aurelianensium in memoriam liberatae ab ea urbis Anglorum obsidione» (Pontus Heuterus. Rerum Burgundicarum libri VI // Proc?s de condamnation et de rеhabilitation de Jeanne d’Arc. T. 4. P. 448, курсив мой. – О. Т.). В 1612 г. информацию П. Хетерса приводил и Жан Ордаль, никак ее не комментируя: Hordal J. Heroinae nobilissime Ioannae Darc Lotharingae vulgo Aurelianensis Puellae Historia. Pont-Masson, 1612. P. 123.]. По мнению Франсуа Лемэра, заказчиком являлся сам Карл VII, желавший увековечить в бронзе встречу в Шиноне, в ходе которой Дева раскрыла ему тайное содержание его молитвы о спасении Франции: вот почему оба персонажа оказались изображены коленопреклоненными[446 - «Ce qui emut tellement le Roy, qu’il reconnut que c’estoit Dieu qui avoit donnе cette revelation ? la Pucelle, parce qu’il n’en avoit parlе ? aucun homme. En memoire dequoy le Roy Charles VII fit mettre l’an 1458 sur les Ponts d’Orleans ces images et statu?s de Bronze» (Lemaire F. Histoire et antiquitez de la ville et duche d’Orleans. T. 1. P. 187).]. В XIX столетии эти две гипотезы слились воедино, и Шарль Офрер-Дюверне, не ссылаясь при этом ни на какие документальные источники, заявлял, что король, пойдя навстречу настойчивым просьбам горожан увековечить память об их освободительнице, выдал разрешение на возведение памятника, а все расходы взяли на себя «дамы и незамужние девицы Орлеана»[447 - «Charles VII, sur leurs vives instances, leur accorda l’autorisation d’еriger un monument ? la Pucelle. Les dames et les demoiselles d’Orlеans en firent tous les frais» (Aufr?re-Duvernay Ch. Notice historique et critique sur les monumens еrigеs ? Orlеans en l’honneur de Jeanne Darc. Orlеans, 1855. P. 13).].
Ил. 15. Памятник Жанне д’Арк в Орлеане (до 1567). Гравюра XVI в.: Wallon H. Jeanne d’Arc. Edition illustrеe d’apr?s les Monuments d’Art depuis le quinzi?me si?cle jusqu’? nos jours. 3 еd. P., 1877. P. 378.
Время не сохранило для нас, к сожалению, и имя человека, изготовившего первый вариант скульптурной группы. Известно лишь, что в своем изначальном виде она представляла собой Распятие, у подножия которого возвышалась фигура скорбящей Девы Марии, а по бокам от нее в безмолвной молитве застыли Карл VII и Жанна д’Арк (ил. 15). Именно в таком виде созерцал памятник Понтус Хетерс[448 - «Vidi ego meis oculis, in ponte Aureliano trans Ligerim aedigicato, erectam hujus Puellae aeneam imaginem, coma decore per dorsum fluente, utroque genu coram aeneo crucifixi Christi simulacro nixam» (Pontus Heuterus. Rerum Burgundicarum libri VI // Proc?s de condamnation et de rеhabilitation de Jeanne d’Arc. T. 4. P. 448, курсив мой – О. Т.).], а также «доктор Паран», упомянутый Шарлем дю Лисом[449 - См. с. 131–132.].
Однако в 1567 г., в ходе Религиозных войн, Орлеан был захвачен гугенотами, полностью уничтожившими скульптуру. Она была восстановлена только в середине XVII столетия, когда ее подробно описал Симфорьен Гуйон. Отныне, правда, памятник выглядел совершенно иначе (ил. 16):
Образ, отлитый в бронзе и [представляющий собой] скорбящую Богоматерь у подножия Креста, сжимающую в объятьях тело Спасителя и [окруженную] статуями короля Карла VII, с одной стороны, и Девы, с другой, также отлитыми в бронзе[450 - См. прим. 3 на с. 132.].
На сей раз заказчиками выступили мэр и эшевены города, которые наняли местного художника Гектора Леско, пообещав заплатить ему за «восстановительные работы» огромную сумму в 130 турских ливров, не считая расходов на материалы[451 - «Par devant Girard Dubois, notaire du roy nostre sire en son Chastellet d’Orlеans, est comparu Hector Lescot, fondeur,… lequel a confessе qu’il avoit entreprist et entreprent des maire et eschevins qui luy ont baillе et baillent ? faire ce qui s’ensuist. En ce qui convient refondre et ressoulder les effigyes Nostre-Dame de Pitiе et la Pucelle, qui soulloient estre d’anciennetе sur les ponts de ceste ville… Et ladicte Pucelle et tout le contenu cy dessus, ycelluy preneur rendra reparrе… moyennant la somme de syx vingt dix livre tournoys que lesdictz maire et eschevins on promis payer» (Marchеs pour la restauration du monument de la Pucelle ? Orlеans // Proc?s de condamnation et de rеhabilitation de Jeanne d’Arc. T. 5. P. 221–225, здесь Р. 222–224).]. В новом виде памятник просуществовал до Революции: осенью 1792 г. муниципалитету Орлеана было предложено уничтожить скульптуру как «оскорбляющую чувство свободы французского народа»[452 - «La section de Saint-Victor vous propose de faire dеmolir le monument de Charles VII, monument qui insulte ? la libertе du peuple fran?ais» (Destruction du monument de la Pucelle ? Orlеans // Proc?s de condamnation et de rеhabilitation de Jeanne d’Arc. T. 5. P. 239–243, здесь P. 240).]. Власти города пытались противодействовать данному решению, упирая на то обстоятельство, что памятник Деве представляет собой «славное свидетельство» способности французов «освободиться от английского ига»[453 - «Le Conseil gеnеral de la commune d’Orlеans, sur la pеtition des citoyens…, estime que le monument de la Pucelle, loin de pouvoir ?tre regardе comme un signe de fеodalitе insultant ? la libertе du peuple fran?ais, n’annonce au contraire qu’un… tеmoignage glorieux de la valeur de nos anc?tres qui ont dеlivrе la nation fran?aise du joug que les Anglais voulaient lui imposer» (Ibid. P. 241).]. Однако 21 сентября решение о сносе скульптурной группы было принято, и представители муниципалитета добились лишь того, чтобы одна из пушек, на изготовление которых пошел весь металл, носила имя Жанны д’Арк[454 - «Les figures en bronze, formant le monument de la Pucelle, seraient employеes ? la fabrication des canons, et que pour conserver la mеmoire du monument de la Pucelle, un des canons porterait le nom de Jeanne d’Arc, surnommеe la Pucelle d’Orlеans» (Ibid. P. 242–243).].
Ил. 16. Памятник Жанне д’Арк в Орлеане (до 1792). Гравюра XVII в.: Wallon H. Jeanne d’Arc. Edition illustrеe d’apr?s les Monuments d’Art depuis le quinzi?me si?cle jusqu’? nos jours. 3 еd. P., 1877. P. 379.
***
Имеющаяся у нас весьма скромная информация, собственно, и объясняет тот факт, что изучался первый официальный памятник французской героине крайне мало. Единственной специальной работой, посвященной его иконографии, остается упоминавшаяся выше статья Оливье Бузи, настаивавшего, что прототипом для данного образа Девы – как и в случае с «портретом» Клемана де Фокамберга – послужила библейская Дебора[455 - См. выше с. 40.]. Об этом, по мнению ученого, свидетельствовали ее распущенные волосы – одно из главных иконографических отличий любой женщины-пророка – а также наличие знамени[456 - Bouzy O. Images bibliques ? l’origine de l’image de Jeanne d’Arc. P. 239.].
Подобная трактовка, как я уже отмечала, вызывает определенные сомнения. Связаны они прежде всего с иконографией самой Деборы, которая была не слишком распространена в Средние века и раннее Новое время и не предполагала наличия перечисленных выше атрибутов, поскольку библейская героиня изображалась обычно в женском платье, с покрытой головой, без оружия и доспехов, пусть даже и верхом на боевом коне. Однако Дебора выглядела довольно сомнительным прототипом для орлеанской скульптурной группы еще по одной важной причине – из?за общей композиции избранной сцены, отсылавшей, скорее, к иконографии Нового, а не Ветхого Завета, что было совершенно очевидно для наблюдателей уже в XV–XVI вв.
В первом варианте орлеанского памятника, просуществовавшем до 1567 г., современники без особого труда опознавали сцену Распятия. Во втором, разрушенном в 1792 г., – сцену Пьеты с фигурой Девы Марии, прижимающей к груди Тело Сына. Об этом, в частности, сообщал английский писатель и мемуарист Джон Ивлин, посетивший Орлеан в апреле 1644 г.:
На одном конце моста [возвышаются] крепкие башни, а примерно в середине и сбоку [установлена] статуя Девы Марии, или Пьета, с мертвым Христом на коленях, [выполненная] в натуральную величину. С одной стороны от креста стоит на коленях Карл VII в полном доспехе, с другой стороны – Жанна д’Арк, знаменитая Дева, также вооруженная как солдат, в сапогах со шпорами и с распущенными как у женщины-воина волосами, которая освободила город от наших соотечественников, его осадивших[457 - «At one of the extreames of the bridge are strong toures; and about the middle neere one side, the statue of the Virgin Mary, or Pieta, with a Christo Morto in her lap, as big as the lif. At one side of the Crosse kneeles Charles the VII
arm’d, and at the other Jane d’Arc the famous Pucele arm’d also like a Cavalier with boots ans spurs, her hayre dischevel’d as the Virago who deliver’d the Towne from our Countrymen, what time they beseig’d it» (The Diary of John Evelyn / Ed. by E. S. de Beer. 6 vol. Oxford, 1955. T. 2. P. 137).].
Данная композиция, близкая по смыслу сцене Оплакивания, в полном соответствии со средневековой иконографией, традиционно оказывалась лишена многочисленных дополнительных персонажей[458 - Покровский Н. В. Евангелие в памятниках иконографии. С. 452–454; Дзуффи С. Эпизоды и персонажи Евангелия в произведениях изобразительного искусства / Пер. В. Ю. Траскина. М., 2007. С. 313–326; Паскале Э. де. Смерть и воскресение в произведениях изобразительного искусства / Пер. М. А. Юсима. М., 2008. С. 164–167.]. В орлеанской скульптурной группе (причем в обоих ее вариантах) в качестве «вспомогательных» выступали всего два героя прошлого, оплакивавшие смерть Спасителя, – французский король Карл VII (справа от Богоматери) и Жанна д’Арк (слева от нее).
Иконография Пьеты и Оплакивания широко распространилась в искусстве Западной Европы в XIII в. и оставалась востребованной вплоть до XVII в.[459 - Upton J. M. Petrus Christus: His Place in Fifteenth-Century Flemish Painting. University Park; L., 1990. P. 51–88.] А потому, видимо, мы можем с большой долей уверенности предположить, что неизвестный автор первого памятника и Гектор Леско были хорошо знакомы с подобными изображениями. В их скульптурах, однако, вызывает сомнения трактовка образа самой Жанны д’Арк. Не совсем ясно, какую аналогию применили в данном случае орлеанские мастера.
По всей видимости, прототипом для них могла стать все же не Дебора, героиня Ветхого Завета, а, скорее, Дева Мария – особенно если учесть, сколь многие французские и иностранные авторы XV–XVI вв. уподобляли ей героиню Столетней войны. Об этом свидетельствует также и то, что Богоматерь очень часто, как в Средние века, так и позднее, изображалась с распущенными волосами, символизирующими ее чистоту и непорочность[460 - Покровский Н. В. Евангелие в памятниках иконографии. С. 124–127; Степанов А. В. Искусство эпохи Возрождения. Нидерланды, Германия, Франция, Испания, Англия. СПб., 2009. С. 22–32, 37–42, 61–62, 97–101, 376–377, 393–397, 402–408.]. Впрочем, вполне возможным представляется и сравнение с самим Иисусом Христом, ибо и оно, как мы помним, постоянно возникало в текстах, посвященных Жанне д’Арк, где она провозглашалась новым Спасителем Франции[461 - См. выше: Глава 1. См. также: Тогоева О. И. Еретичка, ставшая святой. С. 235–266.].
Тем не менее, как мне представляется, речь в данном случае шла не о главных персонажах любого из вариантов Пьеты, а о тех, кто в них отсутствовал, но в обязательном порядке появлялся в сценах Оплакивания. Поза, которую придали освободительнице Орлеана местные мастера, удивительным образом перекликалась с положением, которое занимала в сценах Распятия, Снятия с креста и Оплакивания Мария Магдалина – одна из главных свидетельниц казни Христа и, возможно, самая популярная после Девы Марии святая на протяжении всего Средневековья[462 - Saxer V. Le culte de Marie Magdaline en Occident d?s origines ? la fin du Moyen ?ge. Auxerre; P., 1959. О двойственной связи, установившейся в этот период между двумя святыми, см., в частности: Warner M. Alone with All Her Sex: The Myth and the Cult of the Virgin Mary. N. Y., 1985. P. 224–235.].
Как отмечала Рут Каррас[463 - Karras R. M. Holy Harlots: Prostitute Saints in Medieval Legend // Journal of the History of Sexuality. 1990. Vol. 1 (1). P. 3–32, здесь Р. 17. См. также: Saxer V. Le culte de Marie Magdaline en Occident. P. 2–6.], в образе Марии Магдалины – такой, какой ее знала Западная Европа в IV–XV вв., – в действительности соединились сразу три персонажа Нового Завета: женщина, которую Христос исцелил от злых духов и которая первая увидела Его после Воскрешения[464 - «Воскресши рано в первый день недели, Иисус явился сперва Марии Магдалине, из которой изгнал семь бесов» (Мк 16: 9).]; сестра Лазаря и Марфы, «избравшая благую весть, которая не отнимется у нее»[465 - «У нее была сестра, именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово Его» (Лк 10: 39).]; и, наконец, не названная по имени в тексте Евангелия от Луки грешница, омывшая ноги Иисуса своими слезами в доме фарисея Симона[466 - «И вот, женщина того города, которая была грешница, узнавши, что Он возлежит в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром. И, ставши позади у ног Его и плача, начала обливать ноги Его слезами и отирать волосами головы своей, и целовала ноги Его, и мазала миром» (Лк 7: 37–38).]. Все без исключения средневековые авторы придерживались мнения, что грехи Марии Магдалины носили исключительно сексуальный характер. И хотя она никогда не описывалась как профессиональная проститутка, ее почитали как покровительницу раскаявшихся и вставших на путь исправления публичных женщин[467 - Saxer V. Le culte de Marie Magdaline en Occident. P. 55, 221–224, 267; Jansen K. L. The Making of Magdalen. Preaching and Popular Devotion in the Later Middle Ages. Princeton, 2001. P. 34, 172, 176–184, 322–323.]. Однако если речь заходила о годах, предшествовавших обращению Марии Магдалины в христианство, ее распутный образ жизни упоминался всегда.
Именно так выстраивал ее историю, к примеру, Одон Клюнийский (ок. 878–942), делая особый упор на том, что девушка родом из богатой и достойной семьи пользовалась прекрасной репутацией, но погубила ее своими греховными деяниями[468 - «Fuit igitur secundum saeculi fastum clarissimis beatissima Maria natalibus exorta, quae… a Magdallo castello Maria Magdalene nuncupata est. Quam non solum germinis dignitas, verum etiam patrimonii jura parentum excessu splendidam reddiderunt: adeo ut duplicatus honor nominis excellentiam circumquaque diffunderet… Sed quia rerum affluentiam, interdum voluptas comes sequitur, adolescentioris vitae tempora, lubricis supposuit discursibus, solutis pudicitiae frenis» (S. Odo abbas Cluniacensis Sermo II. In veneratione sanctae Mariae Magdalenae // PL. T. 133. Col. 713–721, здесь Col. 714).]. Ту же версию использовал для своей «Золотой легенды» и Иаков Ворагинский (1230–1298):
Мария Магдалина получила имя по названию замка Магдал. Она вела происхождение от знатных родителей, потомков царского рода…. Поскольку Мария предавалась плотским усладам, а Лазарь посвятил себя воинской службе, благоразумная Марфа достойно управляла имением брата и сестры, заботясь о нуждах воинов, слуг и бедняков… Известно, что суетным благам сопутствует жажда наслаждений. Поэтому, чем больше, не зная счета своим богатствам, Магдалина блистала роскошью и красотой, тем глубже тело ее погружалось в разврат. Погубив свое доброе имя, Мария заслужила прозвище Грешницы. Когда Христос проповедовал в разных землях, Мария по вдохновению Божию пришла в дом прокаженного Симона, где, как ей сказали, возлежал за трапезой Господь. Будучи грешницей, Мария не осмелилась сесть среди праведных, но расположилась у ног Господних. Она омыла их своими слезами, утерла волосами и умастила драгоценным миром… Она была той Марией Магдалиной, которой Господь оказал столь много благодеяний и явил столь великие знаки любви. Он изгнал из нее семь бесов и воспламенил любовью к Себе (Лк 8, 2), приблизил ее к Себе и пользовался ее гостеприимством (Лк 10, 38–42). Он позволил ей заботиться о Себе в пути и всегда милостиво оправдывал ее. Господь оправдал Марию перед фарисеем, назвавшим ее нечистой, и перед сестрой, назвавшей ее праздной, и перед Иудой, назвавшим ее расточительной… Она была у Креста в день Страстей Господних (Ин 19, 25) и, приготовив бальзамы, пожелала умастить ими Его тело (Мф 28, 1; Мк 16, 11; Лк 24, 1–10; Ин 20, 1). Она не бежала от Гроба, когда удалились ученики (Ин 20, 11). Ей первой явился Господь и, как апостола, послал к апостолам[469 - Иаков Ворагинский. Золотая легенда / Пер. И. И. Аникьева, И. В. Кувшинской. 2 т. М., 2017–2018. Т. 2. С. 71–72.].
К эпохе позднего Средневековья образ Марии Магдалины – образ богатой красавицы, утратившей доброе имя по причине распутства, – превратился в сочинениях западноевропейских авторов в общее место[470 - Karras R. M. Holy Harlots: Prostitute Saints in Medieval Legend. P. 21–23; Jansen K. L. The Making of Magdalen. P. 168–177, 333–334.]. В иконографии прямой отсылкой к ее статусу блудницы являлись длинные распущенные волосы: на миниатюрах французских кодексов XIV–XV вв., изображавших обращение самой знаменитой библейской грешницы к праведной жизни, символом этого часто служило ее пострижение. Не менее показательным оказывался и красный (или рыжий) цвет платья Марии Магдалины, также намекавший на сексуальную природу ее грехов[471 - Karras R. M. Holy Harlots: Prostitute Saints in Medieval Legend. P. 26–28; Jansen K. L. The Making of Magdalen. P. 130–134, 157–167.].
Впрочем, красный цвет в эпоху Средневековья мог обладать и в высшей степени положительными коннотациями. В некоторых европейских городах местным проституткам запрещалось использовать его в одежде именно потому, что «принадлежал» он прежде всего Деве Марии. Согласно апокрифическому «Протоевангелию Иакова», будущая мать Христа ткала багряницу, что возвещало «прядение» тела Младенца из ее крови[472 - См. выше с. 78.]. Иными словами, трактовка образа Марии Магдалины в этот период по-прежнему оставалась двойственной, о чем ясно говорилось в тексте «Золотой легенды»:
Магдалина происходит от manens rea – пребывающая виновной. Или же Магдалина означает крепкая, либо непобедимая, либо величественная. Эти имена указывают, какой она была до обращения, какой – во время обращения и какой стала после него. Ведь до обращения она оставалась виновной и была осуждена на вечную муку. В обращении, вооружившись покаянием, она стала крепкой, или непобедимой. Магдалина наилучшим образом укрепила себя доспехом покаяния: сколько бы ни было в ней грехов, столько раз она принесла себя саму во всесожжение за эти грехи. После обращения она стала величественной по обилию благодати, ибо, когда умножился грех, стала преизобиловать благодать[473 - Иаков Ворагинский. Золотая легенда. Т. 2. С. 70–71.].
В начале XV столетия ту же мысль развивал св. Бернардин Сиенский: «Следуя примеру пресвятой Магдалины, пусть бесплодная и пустая мирская любовь преобразится в полноту святой любви»[474 - S. Bernardini Senensis Sermo 46 // S. Bernardini Senensis Opera omnia. 9 vols. Quaracchi, 1950–1965. Vol. 2. P. 73.].
Возможно, именно эту амбивалентность теперь уже героини Столетней войны хотел подчеркнуть Гектор Леско, переделывая по собственному усмотрению памятник на мосту через Луару и превращая французскую героиню во вторую Марию Магдалину в сцене Пьеты или Оплакивания Христа.
Как свидетельствуют сочинения, посвященные Жанне д’Арк и созданные в Орлеане во второй половине XV в., местные жители были отлично знакомы с материалами и обвинительного процесса 1431 г., и процесса по реабилитации 1455–1456 гг. И в тех, и в других документах неоднократно заходила речь и об обвинениях в проституции, выдвинутых против девушки[475 - См. выше с. 113.]; и о ее любви к красивой и дорогой одежде, оружию, упряжи для боевых коней, доспехам[476 - Этому сюжету была посвящена отдельная статья в списке обвинений, составленном в 1431 г. прокурором руанского трибунала Жаном д’Эстиве: «Item dicta Iohanna abusa est revelacionibus et propheciis quas dicit se habere a Deo, convertens eas ad lucrum temporale et questum; nam, per medium huiuscemodi revelacionum sibi acquisivit magnam coppiam diviciarum et magnos apparatus et status in officiariis multis, equis, ornamentis, ac eciam pro fratribus et parentibus magnos redditus temporales» (PC, 1, 263).]; и о ее чисто женской привлекательности, служившей поводом для попыток (реальных или выдуманных свидетелями) ее изнасилования в тюрьме[477 - См. выше с. 116.]. Все эти сведения не могли не оказать на жителей Орлеана воздействия, вот почему памятник их святой Деве вызывал столько вопросов.
***
И тем не менее аналогия между одним из наиболее противоречивых библейских персонажей и «практически святой» Орлеанской Девой лишь на первый взгляд выглядит странно. Если взглянуть несколько шире – учитывая всю раннюю иконографию Жанны д’Арк, – это впечатление рассеивается. Проблема заключается в том, что – в отличие от французских сочинений, созданных в тот же период и отражавших в целом исключительно положительное отношение авторов к своей героине, – практически все дошедшие до нас изображения свидетельствуют о в высшей степени двойственном прочтении ее эпопеи. Они, скорее, указывают на амбивалентное восприятие Девы ее современниками и их ближайшими потомками, нежели рисуют некий образ героини или святой.
Подобная амбивалентность могла быть выражена разными способами. Первый и самый доступный вариант, предпочитаемый миниатюристами XV в., заключался, естественно, в указании на несоответствие общественного положения и пола Жанны основному роду ее деятельности, т. е. ее военной и политической карьере. Ярким примером подобного двойственного прочтения служил уже упоминавшийся выше инициал из парижской рукописи конца XV в., содержащей материалы процесса по реабилитации 1455–1456 гг.[478 - Proc?s de condamnation et de justification de Jeanne d’Arc, prеcеdеs de la chronique du si?ge d’Orlеans // BNF. Ms. lat. 14665. Fol. 340.] В него оказался вписан еще один «портрет» французской героини – не простой крестьянки в подобающем ее социальному статусу женском платье, но юной девушки, отправляющейся воевать, на что указывали боевой топор у нее в руке и меч у пояса (ил. 9, с. 57).
Более изощренный вариант визуализации двойственного отношения к Жанне ее современников мы находим на рассмотренном нами во всех подробностях рисунке Клемана де Фокамберга (ил. 7, с. 26). Воспринимая свою героиню прежде всего как одного из военачальников французской армии, секретарь Парижского парламента представил ее в кольчуге, опоясанную мечом и с личным штандартом в руках, но в женском платье и с длинными распущенными волосами. Более того, он, как мы теперь знаем, вложил в руки Девы знамя с монограммой Иисуса Христа, подчеркнув тем самым свою уверенность в ее близкой победе[479 - См. выше: Глава 1.].
Однако наиболее интересными, с данной точки зрения, представляются, безусловно, иллюстрации к «Вигилиям на смерть Карла VII» Марциала Овернского. Как я уже упоминала, их автор уделил внимание всем ключевым, с его точки зрения, моментам эпопеи Орлеанской Девы, и почти на всех этих миниатюрах вновь бросалась в глаза двойственность ее образа. На подобное неоднозначное его прочтение указывал прежде всего тот факт, что художник запечатлел Жанну в красном платье: в нем она «красовалась» даже в сцене казни на площади Старого рынка в Руане[480 - BNF. Ms. fr. 5054. Fol. 71. См. также: Ibid. Fol. 60v, 62, 66v, 70.]. Эффект усиливали длинные распущенные – как у Марии Магдалины – волосы, которые также присутствовали у девушки на большинстве ее изображений в рукописи «Вигилий»[481 - Ibid. Fol. 55v, 60v, 62, 71.]. Иными словами, здесь оказывался представлен в высшей степени амбивалентный образ французской героини, интерпретировать который было возможно, лишь обратившись непосредственно к тексту Марциала Овернского, для которого Жанна д’Арк являлась «Божьим ангелом», т. е. персонажем абсолютно положительным. Однако сказать, что именно думал о ней миниатюрист, иллюстрировавший парадную рукопись «Вигилий», оказывалось уже значительно сложнее[482 - В XV в. мнение миниатюриста уже далеко не всегда совпадало с мнением автора текста, который он иллюстрировал. Художник все чаще полагался на собственный жизненный опыт и отстаивал свою точку зрения: Alexander J. J. G. Medieval Illuminators and Their Methods of Work. New Haven; L., 1992. P. 144–149.].
***
Как мне представляется, именно эта, легко считываемая по иным изображениям XV в., двусмысленность образа Орлеанской Девы отразилась и в интересующем нас первом ее официальном памятнике. Фигура Марии Магдалины – раскаявшейся блудницы, ставшей святой, – вполне могла быть избрана в данном случае в качестве прототипа. Ведь именно так – в красном платье, с распущенными рыжими волосами – и представляли ее многочисленные художники эпохи Средневековья и Нового времени[483 - Такую Марию Магдалину мы наблюдаем на полотнах Уголино Лоренцетти (1350), Луки Синьорелли (1490), Альбрехта Дюрера (ок. 1500), Ганса Бальдунга Грина (1517). О рыжем цвете волос как о еще одном признаке занятий проституцией см.: Пастуро М. Рыжий // Пастуро М. Символическая история европейского Средневековья. С. 210–224; Тогоева О. И. Короли и ведьмы. С. 223–238. Любопытно, что на миниатюре из «Вигилий» Марциала Овернского, изображавшей сцену казни, Жанна д’Арк была также представлена с рыжими волосами: BNF. Ms. fr. 5054. Fol. 71.]. И если изображения Жанны д’Арк на миниатюрах Гектор Леско мог и не видеть, то с иконографией Марии Магдалины он был, безусловно, знаком[484 - Как отмечал Джонатан Александр, конец XV в. ознаменовался расширением кругозора европейских художников, их знакомством с особенностями различных национальных школ и, как следствие, ростом заимствований в изобразительной манере: Alexander J. J. G. Medieval Illuminators and Their Methods of Work. P. 124–142.]. Конечно, при создании бронзовой статуи Девы цвет неминуемо терялся, однако сам образ – длинные распущенные волосы и коленопреклоненная поза – никуда не исчезал. И при всей общей положительной концепции памятника (ведь в качестве второго «плакальщика» выступал сам Карл VII) и здесь присутствовал намек на все еще существовавшие, вероятно, у орлеанского скульптора сомнения относительно героического (или святого) прошлого той, кого он увековечил.
Любопытно, что двусмысленность памятника понимали, вероятно, многие из тех, кто имел возможность видеть его лично. И если Жан де Лафонтен, посетивший Орлеан в 1633 г., отмечал лишь общую «убогость» статуи Жанны[485 - «En allant sur le pont, je vis la Pucelle; mais, ma foi, ce fut sans plaisir. Je ne lui trouvai ni l’air, ni la taille, ni le visage d’une amazone… Elle est ? genoux devant une croix, et le roi Charles en m?me posture vis-?-vis d’elle; le tout fort chеtif et de petite apparence. C’est un monument qui se sent de la pauvretе de son si?cle» (Proc?s de condamnation et de rеhabilitation de Jeanne d’Arc. T. 5. P. 222).], то Даниэль Поллюш в 1778 г. обращал особое внимание на ее распущенные волосы:
Эта знаменитая девушка [представлена здесь] в костюме мужчины и отличается от него только длиной волос, перевязанных неким подобием ленты и ниспадающих ниже пояса[486 - «Cette fille cеl?bre est en habit d’homme, et distinguеe seulement par la forme de ses cheveux, qui sont attachеs avec une esp?ce de ruban, et qui tombent au-dessous de la ceinture» (Polluche D. Essais historiques sur Orlеans ou Description topographique et critique de cette capitale et de ses environs. Orlеans, 1778. P. 110).].
Тем не менее, скульптурная группа Гектора Леско получила необыкновенную известность в последующие годы и даже столетия. Правда, французские художники и граверы, похоже, старались всячески смягчить скрытую символику памятника. Именно такую попытку мы наблюдаем, в частности, на гравюре Леонара Готье 1611 г., ставшей фронтисписом к труду Жана Ордаля[487 - Гравюру сопровождала надпись «Статуя, установленная на мосту в память о Жанне, Орлеанской Деве» (Statua in memoriam Johannae virginis aureliae ponti superposita): Hordal J. Heroinae nobilissime Ioannae Darc.] (ил. 17). В среднем регистре – прямо под изображением коленопреклоненной Жанны д’Арк с распущенными длинными волосами – художник представил аллегорическую фигуру Девственности (Virginitas) с цветком лилии в правой руке – знаком чистоты и непорочности, символом самой Богоматери.
Ил. 17. Леонар Готье. Жанна д’Арк. Фронтиспис к изданию: Hordal J. Heroinae nobilissime Ioannae Darc Lotharingae vulgo Aurelianensis Puellae Historia. Pont-Masson, 1612.
Благодаря именно этому изображению, бессчетное количество раз воспроизведенному на фронтисписах и иллюстрациях к разнообразным жизнеописаниям Жанны д’Арк XVII–XIX вв.[488 - Их полный перечень см. в: Lanеry d’Arc P. Livre d’or de Jeanne d’Arc. P. 77–80, 138–139, 591–592, 600, 679–682.], памятник, установленный в ее честь в Орлеане, оказался прекрасно известен европейцам Нового времени[489 - Например, он упоминался в «Хронографии» Петера ван Опмеера (1611), цитату из которой приводил Жан Ордаль. Правда, житель Амстердама полагал, что памятник был установлен в честь Карла VII и Жанны д’Арк «сенатом Орлеана»: «Gratitudinis ergo posuere Regi Ioannaque aeneas statuas in ponte Ligeris S. P. Q. Aurelianus» (Hordal J. Heroinae nobilissime Ioannae Darc. P. 142).]. Как следствие, именно он явился прародителем одной из двух самых известных иконографических схем, согласно которым в последующие века изображали героиню Столетней войны[490 - О второй иконографической схеме см. далее: Глава 5.]. Однако с прочтением данного образа все же произошли любопытные метаморфозы: желая уйти от его явной двусмысленности, художники и скульпторы отныне радикально изменили общую композицию сцены. Эти изменения мы видим уже на одном из самых ранних «повторов» орлеанского памятника – на знаменитом полотне Питера Пауля Рубенса «Молящаяся Жанна д’Арк», созданном около 1620 г. (ил. 18). Здесь перед зрителем представали уже не сцены Пьеты или Оплакивания, но их, если можно так выразиться, «усеченный» вариант – изображение одинокой, предающейся молитве девушки, в облике которой уже практически ничто (за исключением, быть может, распущенных рыжеватых волос) не напоминало о двойственном восприятии ее образа.
Ил. 18. Питер Пауль Рубенс. Молящаяся Жанна д’Арк. Ок. 1620 г.
Ил. 19. Памятник Жанне д’Арк в соборе г. Туля (Франция). 1890 г. Фотография автора.
Однако наиболее востребованным данный вариант «портрета» Жанны д’Арк оказался начиная со второй половины XIX в., когда во Франции развернулись ожесточенные дебаты о необходимости ее официальной канонизации[491 - Тогоева О. И. Еретичка, ставшая святой. С. 491–517.]. Именно так изображали свою героиню Лор де Шатийон («Жанна д’Арк посвящает свое оружие Деве Марии», 1869 г.), Феликс-Ипполит Люка («Ангел Жанны д’Арк», 1887 г.), Поль-Ипполит Фландрен («Молитва Жанны д’Арк в церкви г. Севр», 1901 г.)[492 - Jeanne d’Arc. Les tableaux de l’Histoire. P. 59–60, 67, 81–91, 104–107.]. Именно в этой позе она была представлена в соборе города Туля, памятник для которого в 1890 г. изготовила фирма Пьерсон из Вокулера (ил. 19).
Наконец, точно так же Жанна оказалась запечатлена в церкви Сакре-Кёр в Париже, эскизы мозаик для которой были созданы Люк-Оливье Мерсоном и Марселем Имбсом в 1911–1917 гг. Впрочем, строительство и отделочные работы в церкви затянулись: они велись вплоть до 1923 г., и к этому времени Орлеанскую Деву уже успели канонизировать (что произошло 16 мая 1920 г.). А потому в ее образ, изначально «зеркаливший» фигуру Девы Марии, были внесены существенные поправки: Жанна обрела нимб над головой, что отныне подтверждало ее официально признанную святость.
Таким образом, традиция изображения коленопреклоненной Девы, начавшаяся, возможно, с весьма сомнительной в ее случае отсылки к истории Марии Магдалины, уходила все дальше и дальше от столь двусмысленного прочтения ее образа. «Портрет» Жанны д’Арк со временем превратился в каноническое изображение святой, предающейся молитве в уединении часовни. Да и сами эти «портреты» во многих случаях перебрались из художественных салонов под церковные своды. Отныне перед собравшимися на службу прихожанами представала набожная девушка, преданная избранному делу, на которое ее направил сам Господь, и по праву получившая официальное признание как святая покровительница Франции.
Глава 5
Юдифь и ее носовой платок
В 1678 г. в Руане, в типографии Жана Урселя, был опубликован астрологический альманах вполне традиционного содержания. Он предлагал читателям ознакомиться с информацией о начале и конце текущего года и каждого его месяца, о фазах луны, восходе и закате солнца, а также сообщал имена святых, почитание которых выпадало на тот или иной день. К этим, безусловно, полезным сведениям автор издания – Мор по прозвищу Жнец, «астролог, великий математик, знаток планет и звезд» – присовокупил стихотворную «Пляску смерти» (Dance macabre), венчавшую альманах и предсказывавшую неизбежный и одинаковый для всех людей конец жизни, к какому бы сословию они ни принадлежали[493 - Almanach pour l’an de grace Mil Six cens Soixante et dix-huite. Composе par Me. Maur le Faucheur, Astrologien, grand Mathematicien, supputateur des Planetes et Estoiles fixes. Rouen, [1678].]. Что обращало на себя внимание в данном сочинении, так это его обложка, на которой помимо выходных данных присутствовала гравюра – изображение женщины, в правой руке державшей поднятый меч, а левой сжимавшей носовой платок или нечто на него похожее. При этом правая половина лица дамы, обращенная к солнцу, имела вполне человеческие черты, тогда как левая, повернутая к луне, являла собой морду неведомого зверя (ил. 20).
На первый взгляд, ничего особо удивительного гравюра из себя не представляла. Подобные двуликие «портреты» не были редкостью в искусстве эпохи Средневековья или раннего Нового времени. Напротив, к данному приему художники, миниатюристы и граверы обращались регулярно.
Например, с его помощью часто изображали уродство того или иного персонажа или пытались подчеркнуть отрицательные черты его характера (коварство, хитрость, подлость и т. д.). Именно такой вариант использования двуликости мы можем наблюдать на знаменитой миниатюре к «Книге во славу Августа, или О делах сицилийских» (Liber ad honorem Augusti sive de rebus Siculis) Петра Эболийского († 1220), основная часть которой была посвящена попыткам Танкреда (1135–1194) удержать под своей властью Сицилийское королевство. Желая в полной мере соответствовать замыслу автора, с презрением отзывавшегося о монархе как о «несчастном зародыше» и «отвратительном монстре»[494 - «O nimis infelix memorabilis unctio regni! / Uncxit abortivum que manus ausa virum? / Embrion infelix et detestabile monstrum, / Quam magis alta petis, tam graviora lues. / Corpore te geminas, brevis athome, semper in uno, / Nam puer a tergo vivis, ab ore senex» (Pietro da Eboli. Book in honor of Augustus (Liber ad honorem Augusti) / Ed. and transl. by G. Hood. Tempe, 2012. P. 112–113).], в рукописи 1194–1196 гг. неизвестный художник представил бастарда герцога Рожера Апулийского двухголовым и сопроводил рисунок надписью: «Танкред [имел] лицо старика, [а] рост – мальчишки» (Tancred facie senex, statura puellus)[495 - Pietro da Eboli. Liber ad honorem Augusti // Burgerbibliothek Bern. Cod. 120. Fol. 134r.].
Ил. 20. Обложка астрологического альманаха 1678 г.: Almanach pour l’an de grace Mil Six cens Soixante et dix-huite. Composе par Me. Maur le Faucheur, Astrologien, grand Mathematicien, supputateur des Planetes et Estoiles fixes. Rouen, [1678].
Не менее популярным данный прием оказывался и при изображении Фортуны, которая, как известно, далеко не всегда благоволит людям. Именно такую миниатюру мы находим, к примеру, на фронтисписе к сборнику французских и итальянских любовных песен, датированному 1470 г. Здесь Судьба оборачивалась к героине своим «темным» ликом, не оставляя ей, по-видимому, никаких надежд на взаимность ее избранника[496 - Chansonnier de Jean de Montchenu // BNF. Rothschild 2973. Воспроизведение см.: http://www.vgesa.com/facsimile-codex-chansonnier_montchenu.htm.].
Наконец, двуликость была присуща так называемому алхимическому андрогину, или ребису (от латинского re bis, «двойная вещь»), символизировавшему слияние серы и ртути, как двух противоположных начал, в единой субстанции – философском камне[497 - Зотов С. О. Королевское искусство. Гербы как религиозные и политические аллегории в алхимическом трактате «Книга св. Троицы» // ЭНОЖ «История». 2017. Т. 8. Вып. 6 (60): https://history.jes.su/s207987840001909-8-1/; Зотов С., Майзульс М., Харман Д. Страдающее Средневековье. Парадоксы христианской иконографии. М., 2019. С. 392.]. Подобные изображения постоянно воспроизводились в западноевропейских алхимических трактатах эпохи позднего Средневековья и раннего Нового времени. Не менее популярными были двуликие образы Януса, дьявола или же представителей далеких, а иногда и фантастичных, народов[498 - Kappler C.?C. Monstres, dеmons et merveilles ? la fin du Moyen Age. P., 1999. P. 127–128, 170. Эко У. История уродства / Пер. А. А. Сабашниковой, И. В. Макарова, Е. Л. Кассировой, М. М. Сокольской. М., 2014. С. 90–91; Зотов С., Майзульс М., Харман Д. Страдающее Средневековье. С. 332–333.].
Однако ни один из этих вариантов прочтения не соответствовал французской гравюре 1678 г., которая в действительности являлась портретом, причем портретом совершенно конкретного и хорошо знакомого современникам человека. Это было еще одно, причем уникальное по своему характеру изображение Жанны д’Арк, не имевшей, казалось бы, никакого отношения ни к содержанию астрологического альманаха, ни к двуликости как таковой.
Ил. 21. Неизвестный художник. Жанна д’Арк (Портрет эшевенов). Париж, 1575 г. (Орлеан, 1581 г.?). Фотография автора.
***
Сомнений в подобной трактовке интересующего нас образа ни у французов XVII в., ни у современных специалистов по еtudes johanniques не могло даже возникнуть, поскольку гравюра представляла собой пусть вольную, но вполне узнаваемую реплику с самого знаменитого изображения Жанны д’Арк – так называемого Портрета эшевенов (ил. 21)[499 - В качестве одного из ранних изображений Жанны д’Арк гравюра 1678 г. была атрибутирована еще в конце XIX в.: Lanеry d’Arc P. Livre d’or de Jeanne d’Arc. P. 651.].
По мнению Давида Ожальво, эта картина могла быть написана в 1575 г. по распоряжению французского короля Генриха III, который затем преподнес ее в дар жителям Орлеана, посетив город 15 ноября 1576 г.[500 - Ojalvo D. Les deux portraits de Jeanne d’Arc du Musеe historique de l’Orlеanais // Bulletin de la Sociеtе Archеologique et Historique de l’Orlеanais. 1979. T. 49. P. 143–152.] Согласно другой гипотезе, полотно было заказано местными властями и создано в 1581 г., после чего долгое время выставлялось в орлеанской ратуше, доступное взорам всех желающих[501 - Bouzy O. Images bibliques ? l’origine de l’image de Jeanne d’Arc. P. 240–241; Michaud-Frеjaville F. Jeanne aux panaches romantiques // Cahiers de Recherches Mеdiеvales. 2005. T. 12 spеcial: Une ville, une destinеe. Recherches sur Orlеans et Jeanne d’Arc. En l’honneur de Fran?oise Michaud-Frеjaville. P. 259–272, здесь Р. 259–260. «Портрет эшевенов» хранится ныне в Археологическом и историческом музее Орлеана (инвентарный номер А 6922).]. Памятная надпись, размещенная поверх изображения, к сожалению, не содержала никаких подсказок относительно более точной датировки, но напоминала зрителям о королевском визите:
Та Дева, которую не иначе как Господь послал некогда на помощь родине, возвращается к французам [и] счастлива быть с ними даже в виде безмолвного образа. Добрый король Генрих, приветствуй этот знак [Свыше]. Сошедшая с небес, дабы исполнить твои желания, пусть другая Дева принесет удачу твоему правлению и удержит [в равновесии] чашу весов. Пусть они обе превратят твой век в Золотой век древности. Благодарные орлеанцы посвятили этот образ Деве, 1581[502 - «In iconem ianae vocolavriae viraginis aureliane. Virgo redit gallo muta vel imagine foelix. Quam numen quondam patriae non machina misit subsidio. Augurium bone rex Henrice saluta. De coelis excita tuis virgo altera votis fortunet regni auspicium. Lancemqs retractet utraqz ut antiquum tua saecla recudat in aurum. C. V. G. PP. 1581».].
И хотя имя автора данного живописного полотна до сих пор остается неизвестным, именно «Портрет эшевенов» оказался настолько популярным, что стал родоначальником отдельной и весьма внушительной серии изображений французской героини.
Ил. 22. Неизвестный художник. Жанна д’Арк (копия с Портрета эшевенов). Орлеан, конец XVI в. Фотография автора.
Самая ранняя копия с него была выполнена в Орлеане уже в конце XVI в. (ил. 22)[503 - Ныне демонстрируется в коллекции особняка Гроло в Орлеане, где после Революции располагалась городская ратуша.], в следующем же столетии он получил известность не только во всем Французском королевстве, но и далеко за его пределами. Его полный повтор присутствовал на гравюре Леонара Готье, использованной в качестве фронтисписа для одного из первых изданий «Дневника осады Орлеана» 1606 г. и для «Истории прославленной героини Жанны д’Арк из Лотарингии» Жана Ордаля 1612 г.[504 - L’histoire et discours au vray du siege qui fut mis devant la ville d’Orleans, par les Anglois, le Mardy XII. iour d’Octobre M.CCCC.XXVIII. regnant alors Charles VII. Roy de France. Orlеans, 1606; Hordal J. Heroinae nobilissime Ioannae Darc.] В 1630 г. «Портрет» послужил образцом для Шарля Давида, заменившего лишь цепочку на шее героини на жемчужное ожерелье (ил. 23). В 1795 г. Шарль-Этьен Гоше вернул цепочку на место, но странным образом подправил изображение левой руки девушки, так что она оказалась вывернута совершенно неестественным образом (ил. 24).
Ил. 23. Шарль Давид. Жанна д’Арк. 1630 г.: Wallon H. Jeanne d’Arc. Edition illustrеe d’apr?s les Monuments d’Art depuis le quinzi?me si?cle jusqu’? nos jours. 3 еd. P., 1877. P. 441.
Ил. 24. Шарль-Этьен Гоше. Жанна д’Арк. 1795 г.: Le Nordez A.?L.?M. Jeanne d’Arc, racontеe par l’image, d’apr?s les sculpteurs, les graveurs et les peintres. P., 1898. P. 124.
В последние годы Революции или в самом начале XIX в. Николя-Жозеф Вуайе, сохранив практически нетронутой изначальную иконографическую схему, нарядил Жанну в платье-тунику по моде своего времени (ил. 25) и использовал в качестве непосредственного прототипа гравюру Франсуа Боннвиля «Свобода – покровительница единых и непобедимых французов-республиканцев»[505 - Как отмечала Нора Хейман, параллель между героиней Столетней войны и Марианной, символом республиканской Франции, на этих двух изображениях была особенно заметна: Heimann N. Joan of Arc in French Art and Culture. P. 47–48.]. Наконец, в 1820 г. Жан-Франсуа Лежандр-Эраль воспроизвел тот же образ в виде скульптурного бюста, установленного на фонтане в Домреми, родной деревне девушки (ил. 26). Таким образом, «Портрет эшевенов» действительно породил во французском изобразительном искусстве устойчивую традицию, в которую гравюра с обложки астрологического альманаха 1678 г. вполне, на первый взгляд, вписывалась.
Ил. 25. Николя-Жозеф Вуайе. Жанна д’Арк. Начало XIX в.: Le Nordez A.?L.?M. Jeanne d’Arc, racontеe par l’image, d’apr?s les sculpteurs, les graveurs et les peintres. P., 1898. P. 115.
Как представляется, столь пристальный интерес к орлеанскому портрету в большой степени объяснялся тем обстоятельством, что он являлся одним из первых художественных полотен, где оказался запечатлен не член королевской семьи и не представитель французской знати. Это было изображение молодой женщины, родом из крестьян, т. е. принадлежавшей к самым низам общества, пусть даже под конец жизни и аноблированной монархом. А потому перед нами сразу же встает вопрос, на какие более ранние образцы (и образы) опирался в данном случае художник, чьи полотна или миниатюры он мог избрать в качестве основы для своей работы.
Ил. 26. Жан-Франсуа Лежандр-Эраль. Жанна д’Арк. Бюст, украшающий фонтан в Домреми. 1820 г. Фотография автора.
Решение этой задачи отчасти облегчает тот факт, что у «Портрета эшевенов» действительно имелось огромное количество «производных». Одной из них стала картина середины – второй половины XVII в., выполненная, возможно, в Руане (ил. 27)[506 - Ныне хранится в Музее изобразительных искусств в Руане.]. На ней также присутствовала легко читаемая пояснительная надпись, которая тем не менее сильно отличалась от исходной:
Жанна д’Арк дю Лис, Орлеанская девственница, амазонка Франции, получившая Божественное откровение на своей родине, в Барруа, взяла в руки оружие и, как вторая Юдифь, отрубила голову английскому Олоферну, изгнала его армии, спасла Французское королевство и восстановила Карла VII на его [законном] троне в 1429 г.[507 - «Jeanne d’Arc du Lis, pucelle d’Orleans, amazone de France, inspirеe de Dieu en sa patrie, pays barrois, pris les armes, et comme une autre Judith, coupa la tete a l’Holopherne anglois, chassa ses armеes, sauva le royaume de France, et retably le roy Charles 7
en son trone, 1429» (курсив мой – О. Т.).].
Ил. 27. Неизвестный художник. Жанна д’Арк дю Лис, Орлеанская девственница, амазонка Франции. Середина – вторая половина XVII в.: Wallon H. Jeanne d’Arc. Edition illustrеe d’apr?s les Monuments d’Art depuis le quinzi?me si?cle jusqu’? nos jours. 3 еd. P., 1877. P. 476.
Сравнение освободительницы Орлеана от английских захватчиков с защитницей ветхозаветной Бетулии, как мы уже знаем, действительно являлось в высшей степени популярным как в XV в., так и значительно позже[508 - См. выше: Глава 2.]. Однако известная нам средневековая иконография Юдифи, будучи весьма обширной, все же не включала вариантов, схожих с руанским полотном или с самим «Портретом эшевенов». Традиционно на иллюстрациях к библейскому тексту оказывался представлен ключевой момент этой истории – смерть Олоферна в лагере ассирийцев[509 - См., к примеру, миниатюру из «Исторического зерцала» Винсента из Бове (Франция, 1370–1380 гг.): BNF. NAF. Ms. 15939. Fol. 88v. Та же сцена была запечатлена Сандро Боттичелли («Юдифь, покидающая палатку Олоферна», 1485–1490 гг.), Андреа Мантенья («Юдифь», 1491 г.), Якопо Тинторетто («Юдифь и Олоферн», 1577 г.) и многими другими художниками эпохи позднего Средневековья и раннего Нового времени.]. Второй по частоте воспроизведения являлась сцена возвращения Юдифи в родной город с отрубленной головой врага[510 - См., к примеру, иллюстрацию к так называемой Памплонской Библии (Испания, 1197 г.): Amiens, Biblioth?que municipale. Ms. 0108. Fol. 144v. См. также картины Сандро Боттичелли «Торжествующая Юдифь возвращается в родной город» (1477–1478 гг.) и Доменико Беккафуми «Юдифь и Олоферн» (1510 г.).]. Единственным, пожалуй, исключением можно считать рассмотренную выше иллюстрацию к рукописи «Защитника дам» Мартина Ле Франка 1451 г., на которой фигурировали и героиня Бетулии, и Жанна д’Арк (ил. 10, с. 58). Тем не менее предположить, что именно эта миниатюра послужила прототипом для «Портрета эшевенов» или его производных, было бы рискованно, ведь кодекс, изготовленный в Аррасе и преподнесенный в дар Филиппу III Доброму, долгие годы оставался в личной библиотеке герцога Бургундского, а потому вряд ли был доступен орлеанским или руанским художникам XVI–XVII вв.
Не следует, однако, забывать, что «Портрет эшевенов», будучи произведением конца XVI в., вполне мог опираться и на более современные ему образцы. Эпоха Возрождения во Франции стала периодом, когда реалистичное портретное искусство переживало подлинный расцвет[511 - Bentley-Cranch D. The Renaissance Portrait in France and England: A Comparative Study. P., 2004. P. 87.], а библейские сюжеты пользовались не меньшим спросом, нежели в Средние века. И хотя со времени правления Франциска I (1515–1547 гг.) в моду, безусловно, вошла итальянская традиция[512 - Степанов А. В. Искусство эпохи Возрождения. С. 408–440.], не были забыты и иные признанные мастера, одним из которых стал Лукас Кранах Старший, придворный художник саксонских курфюрстов Виттенберга[513 - О влиянии на творчество Лукаса Кранаха Старшего итальянского искусства эпохи Возрождения, выразившемся, в частности, в его внимании к античным сюжетам, см.: Werner E. A. Cranach et l’Italie. Processus de transfert et stratеgies d’appropriation culturelle // Cranach et son temps / Sous la dir. de G. Messling. P., 2011. P. 30–41.].
Ил. 28. Лукас Кранах Старший. Юдифь с головой Олоферна. 1530 г. Metropolitan Museum of Art.
***
Именно живописные изображения Юдифи авторства Лукаса Кранаха и его учеников демонстрируют поразительное сходство с образом Жанны д’Арк на «Портрете эшевенов». Их объединяют черный (или темный) фон, полное отсутствие исторического контекста, исключительное внимание к «вещественной красоте», т. е. к аксессуарам (платьям, головным уборам, украшениям и т. д.), идентичная поза обеих героинь, их одинаковые наряды и главный атрибут – поднятый в правой руке меч (ил. 28)[514 - Schade W. Die Malerfamilie Cranach. Dresden, 1974. S. 84–85; B?cken V. Hеro?nes et sеductrices dans l’Cuvre de Lucas Cranach // Cranach et son temps. P. 54–65, здесь P. 54–57; Степанов А. В. Искусство эпохи Возрождения. С. 328–330.]. Таким образом, можно, как мне кажется, предположить, что прототипом для портрета из Орлеана стала одна из картин немецкого художника, и тому есть вполне весомые подтверждения.
Гравюры и живописные полотна Лукаса Кранаха еще при его жизни были хорошо известны в разных странах Западной Европы[515 - Heydenreich G. Les transport d’Cuvres et ses consеquences // Cranach et son temps. P. 66–79; Степанов А. В. Искусство эпохи Возрождения. С. 232, 318–319.]. В 1526 г. базельский гуманист Беатус Ренанус в трактате «Исправления» (Emendationes), перечисляя современных ему знаменитых мастеров, к именам Альбрехта Дюрера, Ганса Бальдунга Грина и Ганса Гольбейна добавлял имя Кранаха[516 - Там же. С. 371.]. Более категоричен в своих оценках был Кристоф Шейрль, ректор Виттенбергского университета. В панегирике художнику он писал:
Если исключить моего земляка Альбрехта Дюрера, этого несомненного, единственного в своем роде гения, то могу поручиться – только тебе наш век отводит первое место в живописи… Все прочие немцы расступаются перед тобой, итальянцы, столь тщеславные, протягивают тебе руку, французы приветствуют тебя как своего учителя[517 - Цит. по: Самин Д. К. Сто великих художников. М., 2004. С. 13 (курсив мой – О. Т.).].
Согласно косвенным данным, еще в 1520 г. Луиза Савойская, мать французского короля Франциска I, через своих агентов в Виттенберге приобрела несколько картин Лукаса Кранаха, написанных на мифологические сюжеты. Да и сам монарх явно предпочитал немецкий стиль в портретном искусстве, о чем свидетельствовало творчество его любимого художника Жана Клуэ[518 - Степанов А. В. Искусство эпохи Возрождения. С. 416–417.]. Екатерина Медичи, невестка Франциска I и супруга Генриха II, питала особый интерес к портретной живописи, а потому также покупала работы Кранаха[519 - Turbide Ch. Catherine de Mеdicis, mеc?ne d’art contemporain: l’h?tel de la reine et ses collections // Patronnes et mеc?nes en France ? la Renaissance / Еtudes rеunies par K. Wilson-Chevalier. Saint-Еtienne, 2007. P. 511–526; Zvereva A. Catherine de Mеdicis et les portraitistes fran?ais // Ibid. P. 542–543; Liot D., Delot C., Montout M.?H. Le Musеe des beaux-arts, Reims. Reims, 2002. P. 25–30; Bentley-Cranch D. The Renaissance Portrait in France and England. P. 126.].
Слава немецкого мастера во Франции не утихала и позже. Так, во второй половине XVII в. Жак-Филипп Ферран, сын личного врача Людовика XIII, художник, член королевской Академии живописи и скульптуры и камердинер Людовика XIV, привез из путешествия по Германии 13 портретных набросков кисти Кранаха или его учеников; впоследствии они вошли в собрание Музея изобразительных искусств Реймса[520 - Deloynes J.?Ch. Eloge de Mr. Jacques-Philippe Ferrand peintre // BNF. Collection Deloynes. T. 61. Pi?ces 1903–1948. S.d. P. 503–505; Dussieux L.?E. Notice sur la vie et les ouvrages de Jean-Philippe Ferrand, peintre et еmailleur // Archives de l’Art fran?ais. Recueil de documents inеdits relatifs ? l’histoire des arts en France. 1854. T. 7. P. 72–76.].
Если придерживаться версии, высказанной в свое время Д. Ожальво, согласно которой заказчиком «Портрета эшевенов» являлся Генрих III, четвертый и самый любимый сын Екатерины Медичи, можно предположить, что автором картины стал какой-то парижский художник, близкий ко двору и, соответственно, имевший доступ к королевскому собранию работ Лукаса Кранаха[521 - Ojalvo D. Les deux portraits de Jeanne d’Arc du Musеe historique de l’Orlеanais.]. Если же картина писалась в самом Орлеане, то знакомство ее автора с произведениями знаменитого немецкого живописца могло основываться не на оригиналах его полотен, но на создаваемых его учениками многочисленных прорисях-кальках, пользовавшихся в первой половине XVI в. большой популярностью в крупных художественных мастерских.
Суть этих трафаретов заключалась в том, что на бумаге в размер оригинала изображались нужные композиции, которые затем механически (при помощи прокалывания или припорошения углем) переносились на загрунтованную мелом деревянную основу. Эти прориси продавались в большом количестве в собственной книжной лавке Кранаха в Виттенберге, а потому получили распространение по всей Европе[522 - С 1519 г. в собственном доме Лукаса Кранаха Старшего действовала типография, которую обустроил выходец из Лейпцига и потомственный печатник Мельхиор Лоттер – младший: Schade W. Die Malerfamilie Cranach. S. 43–44; Messling G. Regards sur Cranach // Cranach et son temps. P. 12–25, здесь Р. 22.]. Именно они способствовали созданию все новых копий одного и того же произведения, объединявшихся в своеобразные композиционно-типологические группы[523 - Садков В. Художники семьи Кранахов между Ренессансом и маньеризмом. Особенности творческой эволюции // Кранахи. Между Ренессансом и маньеризмом. М., 2016. С. 11–35, здесь С. 23; Дюпти М. Великие художники: Лукас Кранах Старший. Киев, 2003. С. 4–5, 14, 20, 28.]. Не случайно из мастерской Кранаха вышли многочисленные, совершенно идентичные, а потому легко узнаваемые полотна: тридцать одна Ева, тридцать пять Венер, столько же Лукреций и, наконец, девятнадцать Юдифей. Одна из этих последних – в виде живописного полотна или всего лишь трафарета – вполне могла попасться на глаза орлеанскому художнику.
***
«Книга Юдифи» не была включена Мартином Лютером в протестантскую Библию, однако весьма высоко ценилась им. Для Лукаса Кранаха Старшего, бывшего близким другом немецкого религиозного реформатора, особое значение история победы жителей Бетулии над ассирийцами приобрела в период действия Шмалькальденской лиги – оборонительного союза для защиты протестантской веры, заключенного германскими князьями во главе с Саксонией и Гессеном и направленного против политики императора Карла V, поддерживавшего папу римского[524 - Guicharrousse H. Luther et la lеgitimitе de la guerre: la Ligue de Smalkalde et le droit de rеsistance // De la guerre juste ? la paix juste. Aspects confessionnels de la construction de la paix dans l’espace franco-allemand (XVI
–XX
si?cles) / Ed. par J.?P. Cahn, F. Knopper, A.?M. Saint-Gilles. Villeneuve d’Ascq, 2008. P. 35–48.]. Именно в годы действия этого союза (1530–1547 гг.) были написаны практически все «Юдифи» Лукаса Кранаха, имевшие, таким образом, прежде всего политическое значение и отражавшие взгляды художника на борьбу за истинную веру. Эти полотна отсылали также к теме «Власть женщин» (Weibermacht), получившей широкое распространение в немецком искусстве раннего Нового времени и подчеркивавшей способность представительниц слабого пола одолеть мужчин – в открытом противостоянии или же путем хитрости и обмана[525 - B?cken V. Hеro?nes et sеductrices dans l’Cuvre de Lucas Cranach. P. 56–57, 59; Ozment S. E. The Serpent and the Lamb. Cranach, Luther, and the Making of the Reformation. New Haven; L., 2011. P. 213–250; Lucas Cranach der ?ltere. Meister – Marke – Moderne / Hrsg. von G. Heydenreich, D. G?rres und B. Wismer. D?sseldorf, 2017. S. 242–244.].
Оба эти сюжета должны были иметь первостепенное значение для парижского или орлеанского мастера, получившего заказ на изготовление портрета Жанны д’Арк. Во Франции 1570–1580?х гг., в разгар Религиозных войн, проблема истинного вероисповедания стояла как никогда остро. Противостояние католиков и гугенотов внутри страны осложнялось внешнеполитическим фактором: когда в 1562 г. принц Конде захватил Орлеан, сделав из него центр протестантского сопротивления, он заключил союз с Англией, где с 1558 г. правила Елизавета I, и с некоторыми германскими князьями, разделявшими идеи Реформации. На этом фоне фигура героини Столетней войны приобретала совершенно особое значение. Она не только одержала верх над англичанами, не только была признана посланницей Господа, т. е. истинно верующей, но и принадлежала к слабому полу, а потому оказывалась сопоставимой с женскими персонажами в трактовке Лукаса Кранаха Старшего.
Впрочем, у работ немецкого художника и «Портрета эшевенов» имелось еще одно, возможно, не столь существенное «пересечение», которое, тем не менее, свидетельствует об их визуальном и смысловом сходстве, хотя и представляет собой определенную загадку. Речь идет об отрубленной голове ассирийского военачальника Олоферна – главном «атрибуте» библейской Юдифи, который на интересующем нас полотне у Жанны д’Арк отсутствовал. Вместо этого героиня Орлеана сжимала в руке некую ткань, причем довольно объемную, если судить по тому, как обхватывали ее пальцы.
Единственная имеющаяся в специальной литературе интерпретация данного артефакта принадлежит Оливье Бузи, который полагал, что на «Портрете эшевенов» в руке у девушки изображен носовой платок[526 - Bouzy O. Images bibliques ? l’origine de l’image de Jeanne d’Arc. P. 240–241.]. Во Франции XVI в. этот предмет туалета был, безусловно, известен: он пришел сюда из Италии и пользовался большой популярностью уже в конце XIII в., в правление Филиппа IV Красивого. Естественно, носовой платок очень долго являлся предметом роскоши, о чем свидетельствуют французские живописные полотна раннего Нового времени: «Екатерина Медичи с сыновьями» неизвестного автора (1561 г.), «Екатерина Медичи, королева Франции» Тито ди Санти (ок. 1550–1600 гг.), анонимный портрет Генриха III (1574–1589 гг.) и многие другие[527 - Braun-Ronsdorf M. The History of the Handkerchief. Leigh-on-Sea, 1967. P. 11–24.].
Тем не менее, чрезмерные, по сравнению с имеющимися в нашем распоряжении примерами, размеры «носового платка», представленного на «Портрете эшевенов», заставляют усомниться в гипотезе О. Бузи. Собственно, и художники XVI–XIX вв. – последователи неизвестного то ли парижского, то ли орлеанского живописца – также были не до конца уверены в назначении этого странного предмета: практически все изменения, которые они привносили в свои реплики, касались именно левой руки героини.
Ил. 29. Лемир. Жанна д’Арк. Фронтиспис к изданию: Prеaux B. de. Monument de la Pucelle, dеpartement du Loiret, district d’Orlеans. Orlеans, 1778.
Из всех известных мне вариантов подобного изображения Жанны д’Арк «носовой платок» оказался задействован только в трех случаях: на уже упоминавшихся выше гравюрах Леонара Готье 1606 г. и Шарля Давида 1630 г. (ил. 23, с. 158), а также на анонимном фронтисписе, размещенном в сочинении Леона Триппо «Деяния Жанны д’Арк»[528 - Trippault L. Ioannae Darciae Obsidionis Aurelianae liberatricis res gestae, imago, et iudicium. Les faicts, Pourtraict et iugement de Ieanne d’Arc, dicte la pucelle d’Orleans. Orlеans, 1583.]. Тот же самый загадочный предмет фигурировал и на обложке астрологического альманаха 1678 г. (ил. 20, с. 153). Прочие же авторы, похоже, всячески пытались его избегать. Только так можно объяснить неестественно вывихнутое левое запястье Орлеанской Девы на ее «портрете» Шарль-Этьена Гоше (ил. 24, с. 159) или ее полностью «обрезанные» руки у Николя-Жозефа Вуайе (ил. 25, с. 160). Не менее оригинальной попыткой решить проблему «носового платка» выглядело и размещение фигуры Жанны не на фоне «глухой стены», как на «Портрете эшевенов», а среди цветущих кустов, в зелени которых вновь скрывалась левая рука девушки. Именно этот прием был использован гравером Лемиром для изготовления фронтисписа к сочинению некоего Бове де Прео «Памятник Деве» 1778 г.[529 - Prеaux B. de. Monument de la Pucelle, dеpartement du Loiret, district d’Orlеans. Orlеans, 1778. Любопытно, что в надписи, сопровождавшей гравюру, ее автор прямо признавал, что в качестве образца использовал именно «Портрет эшевенов»: «Portrait gravе par M. Lemire sur un ancien tableau de l’h?tel-de-ville d’Orlеans et prеsentе ? M. de Cypierre, intendant d’Orlеans par Couret de Villeneuve» (курсив мой – О. Т.).] (ил. 29). Идентичный вариант изображения присутствовал на гравюре В. Н. Гардинера 1793 г., иллюстрирующей очередное английское издание «Генриха VI» Уильяма Шекспира[530 - Orgelfinger G. Joan of Arc in the English Imagination. P. 120.].
Тем не менее на одной из многочисленных картин, изготовленных Лукасом Кранахом Старшим, его сотрудниками или подражателями, можно было наблюдать тот же самый эффект: голова Олоферна, на которую левой рукой традиционно опиралась Юдифь, здесь отсутствовала – вместо нее перед зрителями представал некий предмет, окутанный зеленой тканью (ил. 30)[531 - Любопытно также отметить, что на своей самой первой «Юдифи» (1530 г.) вместо головы Олоферна Кранах изначально написал некий округлый валик, подложив его под левую руку героини и лишь впоследствии изменив композицию: Дюпти М. Великие художники: Лукас Кранах Старший. С. 14–15. На еще одной, более поздней копии рука Юдифи опиралась на сундучок, украшенный гербом: Corpus Cranach. Digitales Werkverzeichnis der Malerwerkst?tten Cranach und ihrer Epigonen // https://cranach.ub.uni-heidelberg.de/wiki/index.php/CorpusCranach:Judith#CC-BAT-180-026.]. Вполне возможно, что в данном случае художник решил буквально последовать библейскому тексту: