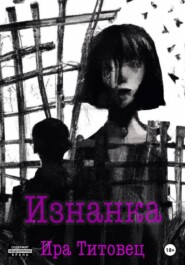 Полная версия
Полная версияИзнанка
– Выходит, что так.
– И как же дальше будет, будешь ходить по нашему дому, и делать вид, что знать меня не знаешь?
– Я, Катерина, замажу печь за час, и больше не будет у меня необходимости ходить по вашему дому. А коли где встретимся – так я всегда с большим к тебе уважением.
Руки её сжимались в кулаки. Я думал, она заплачет, или разрыдается, но нет, только шаг ускорила, и ушла чуть вперед по примятой земле лесной дороги.
До самого начала зимы я её не встречал нигде. Пока не дернула за рукав на рынке субботнем, где я стоял каждый выходной, и продавал свой кирпич. Принесла пирог, это мать велела передать. Был первый забой на подворье, и в благодарность за починку печи она решила угостить пирогом со свежим мясом.
– Мишенька, поговорить нам надо. – Она сильно подурнела, под глазами темными дугами стояли бессонные ночи, или может болезнь какая. А голос всё тот же, тоненький ручеек. И смотрит выжидательно. Глаза огромные, черные, не девичьи совсем.
– Говори. – Я отчего-то нервно сглотнул, и поежился.
– Понесла я, Мишенька. – Она обернулась, ища глазами, если кто-то смотрит на нас. – Я сначала сомневалась, а сейчас я его чувствую внутри. Хоть и рано еще, но я чувствую.
– А свадьба когда твоя?
– Весной, через три месяца. Уже не скроешь. Я была у Анны, что коров лечит, да не помогло. Оно продолжает расти. – Она ткнула в живот, и стоном тяжело выдохнула.
– Мишенька, давай уйдем вместе отсюда, а?
– Куда же мы уйдем?
– Да куда угодно. В другое место. А потом откроемся родителям. Позже.
Я стоял, оглушенный этой мыслью, не смея вымолвить ничего вслух.
Она стояла боком ко мне, чуть раскачивая головой по сторонам, тяжело дыша, и, кажется, ничего не видя. Несколько раз порывалась что-то сказать, но останавливалась, и молчала, молчала, громко вдыхая, и бесшумно выталкивая воздух их себя.
– Хорошо, Катерина. Давай уйдем. – Наконец смог я произнести вслух. – Когда ты надумала из дома идти?
Она опять покачнулась, и монотонно забубнила:
– Буду ждать тебя вечером в девять за калиткой. Как все заснут, я выйду из дома, и мы уйдем. – Тоненький голос стал еще тише, и почти перейдя на шепот, она еще раз прозвенела – Вместе.
Она стояла спиной, и не смотрела в мою сторону. Договорив, легко оттолкнулась ногой от земли, и, размахивая руками, пошла вдоль кирпичей, ящиков, и мешков.
Я со всего размаха стукнул кулаком по кирпичу, что был выложен один на другой. Гора пошатнулась, но устояла. Я взял один, пористый, серый, и со всего размаху, не глядя швырнул на зады, где был пустырь, с редкими кустами и деревьями. Раздался кудахтающий крик. Я присмотрелся, и подошел к дергающейся птице на земле. Перешиб ему камнем грудину. Тут всегда полно птиц, и со временем перестаешь их отмечать, как что-то особенное.
Он еще был жив, судороги сотрясали его тело, и крылья вздрагивали, сметая с земли крошки снега, оставляя полозья и отпечатки перьев по земле. Большого снега и сильных морозов в этом году еще не было, и бурая, грязная земля пролазила через тонкий слой ночного наноса. Я разгреб ногтями землю – она оказалась еще мягкой, не заледеневшей, рассыпающейся на отдельные большие комки. Внутри кисло сжалась тряпками мокрыми жалость, спину охладило пОтом, и я машинально смахнул тыльной стороной ладони несуществующие капли с холодного лба.
В прозрачном утреннем воздухе были чуть видны тонкие вращающиеся льдинки, в форме наломанных соломинок. Я всхлипнул, одним движением свернул голубю голову, уложил его в маленькое углубление, и кое как присыпал рыхлой, непослушной землей. Резко встал, и пошел домой.
Она действительно ждала меня за калиткой. Стоило мне появиться на их улице, как большая, вразвалку идущая тень отделилась от забора, и замахала руками.
– Мишенька. Пришел. – Шепот выдоха радостный, наверное, сомневалась. Я не отвечал. Тогда она так же молча всучила мне мешок нетяжелый, тканный с какими-то вещами, что был при ней.
Дома быстро закончились. Мы не прятались, широко шли, на некотором расстоянии друг от друга. Луны не было, и только жирные звезды смотрели вниз. Может какая-то именно сейчас летела вниз, по неосторожности отцепившись от неба. Но я не смотрел наверх, пробираясь по узкой насыпной тропе, что буграми шла вверх, а потом вниз, ковыляя, и ломая прямые линии подступающих к лесу полей.
– Мишенька, а куда мы идем? – Дома остались далеко позади, и нас уже нельзя было услышать. Только ветер поднимался, иногда швыряя мелкие подлые пучки снега с земли в лицо, разбивающимися мелкими осколками по щекам и векам.
– Мы идем в старую кочегарку в лесу, Катерина. – И добавил, после небольшой паузы. – Переждем пару дней, а там двинемся в сторону города.
– А далеко идти? – Она двигалась быстро, но было видно, что дорога давалась ей с большим трудом. Дыхание сбилось, и её тоненький голос, казалось, заканчивается, становится тише и глуше.
– Недалеко.
Из-за слабого освещения всё казалось вырезанным из бумаги. Резкие линии деревьев вдали, размытые наши фигуры. Мы сами казались не настоящими, а будто героями кукольного театра теней, что привезли только на один вечер скоморохи.
Мы вошли в лес, темным частоколом идущий от полей. Здесь ветра не было, но сухие ветки деревьев цеплялись, не пускали пройти, треском отпугивая от глуши, и ночной тишины. Она вцепилась было мне в локоть, но я аккуратно высвободился. Уже не далеко. Тропа была звериная, узкая и вертлявая. Когда светло, можно пройти наискосок, но сейчас лучше не рисковать.
– Пришли. – Я резко встал у дерева, перевязанного длинной красной лентой, чтобы не оступиться, или не пройти мимо. Вернее, это я знал, что лента красная. Не видно было ничего, снега в лесу совсем не было, только сухие еловые иголки шелестели под ногами, да шершавые стволы стояли темнее ночи – не наткнешься. Она обошла меня кругом, держась, как слепая, за мой локоть, и разворачивая за собой. Медленно озиралась по сторонам.
– Где же изба? Куда мы пришли?
– А вот сюда. – Я с размаху толкнул её. Она раскинула руки, и, не обнаружив под ногами земли, тяжело и громко охнула, так, что эхом разнеслось по лесу, и тяжелым кулём полетела вниз глубокой ямы.
Раздался глухой звук, потом еле слышный стон. Туда же, в черную дыру я закинул моток с тряпьем, что держал в руках всё это время. Лес молчал. Ни треснувшей ветки, ни птичьего крика. Казалось, сама яма поглощает звуки, и любое движение. Я пошел отвязать ленту от дерева, мало ли кто будет идти, не нужно привлекать лишнего внимания.
– Миша, Мишенька! – Тоненько, слабо прозвучало из-под земли. – Я сама не выберусь. Мишенька, дай мне руку, или лесенку.
Грудь болела, ныла, словно её придавило тяжелой плитой. Закусив руку, чтобы не завыть, я так и стоял, сжимая в руке широкую атласную ленту, бьющуюся на ветру.
Обратно шел быстро, считая шаги, чтобы успокоить дрожь по всему телу, и отмечая всё, что попадалось на глаза.
Новая елка, очень тонкая. В прошлом году её не было.
Сапоги в грязи. Надо помыть. Грязь черная, жирная.
Кажется, снег сейчас сильнее пойдёт.
– Мишенька, дай мне лесенку! – Настойчиво зазвучало за спиной. Луна вышла из-за туч, и осветила пустую, черную пашню. Поднимался ветер, и швырял, рассыпал слова на кусочки тоненьких обрывков. «Дай мне лесенку, дай мне лесенку, даймнелесенку» – вместе с током крови проходило через меня, отбивая новый, незнакомый ранее ритм.
– Мишенька, дай мне лесенку! – Звериным ревом раздалось из леса. Густой пеленой повалил мягкий, непрозрачный снег, что таял, стоило ему лишь коснуться земли. Я шмыгнул носом, и побежал так быстро, как только мог.
Глава семь. Снова след грибницы
Ладонь стала холодной, жёсткой. Темнота развеялась. Печник вскочил, вырвав руку из её ладони, и схватившись за голову, вертелся по сторонам.
– Что ты делаешь?! – Он проснулся резко, как от толчка. Уми не отвечала, поздно отдернув руку.
– Печь остывает. – Он проговорил зажмурившись, словно от сильной головной боли. С трудом поднялся, и, немного шатаясь, вышел за углем на улицу. Уже светало.
– Что же ты меня не разбудила, ты же видела, что нужно еще подбросить угля. – Он вернулся так же шатаясь, не твердо стоя на ногах, и останавливался каждые пару шагов, закрывая глаза. – Печь совсем остыла. – Громко лязгнув затворкой он смотрел на тлеющие угли.
– Извини. – Тихо прошептала Уми, глядя себе на колени. Она сидела на самом краю лавки, поджав под себя ноги.
– Ты и сама могла подбросить, нас же двое теперь. – Забрасывая уголь в печь, он распалялся, и говорил всё быстрее и громче. – Зачем ты тут если всё только портишь?
– Я не хотела портить.
– Не хотела. Не хотела она. – Он забросил два ведра угля, и сощурившись всматривался внутрь, крутя в руках полено. – Иди погуляй, мне отдохнуть надо. Он кивнул в сторону двери. Не услышав ответа, он лег на ту же лавку, и отвернулся к стене.
Она медленно встала, и вышла, со скрипом затворив дверь. День только начинался. По низинам леса стоял туман, чуть залезая на их поляну. Воздух был сизый от копоти труб, из той, что была по другую сторону забора валил черный густой непрозрачный дым, пропитывая тухлым запахом всё вокруг.
Она закашлялась, осматриваясь по сторонам. Лес стоял тихо и неподвижно. За большим непролазным забором не было слышно ни шороха. Чуть помешкав, она нерешительно двинулась в сторону забора, но сделав пару шагов, увидела, что что-то ярко блестит, отражаясь от первых лучей солнца в поленнице рядом с кочегаркой.
Осмотревшись по сторонам, и убедившись, что она не видит никого, кто мог бы наблюдать за ней, она подошла к поленнице. Это что-то блестящее было завалено бревнами, и слепило глаза. Раскидав бревна, наваленные сверху, она добралась до треугольника большого, отколотого или отбитого куска. Сердце Уми забилось чаще. Зеркало!
Она взглянула на своё отражение. Спокойное лицо, с большими тёмными кругами под коричневыми, почти черными глазами. Спутанные темные волосы длиной до плеч разметались по сторонам, отдельные пряди повисли клочками запутавшейся сети. Тонкий нос, широкие брови, и жесткие, крепко сомкнутые губы.
Все это по кусочкам отражается в отбитом осколке зеркала. Она водит им как магнитным компасом по карте, пытаясь уловить себя всю, целиком.
Наконец, сообразив приложить зеркало к сложенным одно на другое бревнам, она отходит на пару шагов, и наконец видит лицо целиком.
Голова начинает гудеть, Уми обхватывает себя за плечи, и темнота подходит со всех сторон, выбивая землю из-под ног. Она успевает схватиться за зеркало, но валится кулем на землю, и погружается в забытие.
Глава восемь. Люда.
Густая пелена застила всё живое, пока не стала развеиваться тонкой струйкой нового пространства. За школой шли рядами старые заброшенные гаражи. С облупленной красной краской и ржавыми петлями.
Тонкие цепкие руки одноклассниц крепко держали за локти с двух сторон. Это было не в первый раз, но в этот раз было больнее, руки перекручивали, удерживая. Плевали в лицо подходя по очереди.
Последней подошла рыжеволосая Олеся, заводила этой группы. Она стояла всё это в стороне, роясь в рюкзаке Люды. Самая красивая девочка в классе, наряженная как кукла в яркое синее платье, и красные лакированные туфли. Быстро обернувшись назад, проверяя не видно ли кого на этом дворе, подошла, и растерев руки, плюнула на них.
– Ты же знаешь, почему ты здесь? – Спросила она, делая манерный шаг назад, пританцовывая. Она знала, что четверо против одной – это беспроигрышный вариант.
– Отпусти меня! – Свесив голову сказала она в пол, крепко перехваченная двумя рослыми одноклассницами, в плисовых синих юбках, широко расставивших ноги.
– А ну не ори. – Коротким тычком Олеся перекрыла доступ к воздуху, коротко и легко ударив тыльной стороной ладони по шее, прямо под подбородком.
Закашлявшись, Люда согнулась напополам, ослабив хватку двух одноклассниц. Те брезгливо отскочили. Отошли недалеко, не хотелось прикасаться к человеку, что, согнувшись напополам со слезами и соплями выхаркивает остатки того, что кипело в желудке последние пару часов.
– Отпустите меня! – Севшим, хриплым голосом попросила Люда. Волосы спутались и слиплись, перепачкавшись слюной и остатками завтрака, и висели мертвыми мокрыми сосульками вдоль лица.
– Еще чего. Я жду, когда ты заплачешь. – Олеся с удовольствием, смакуя слово за словом, негромко произнесла это.
– Отпустите меня! – Вороньим криком вырвалось из груди, раскатисто, громко.
– Еще чего. – Повторила Олеся, и плюнув на руки, Олеся растерла обеими руками вокруг глаз Люды. – Отец твой, говорят, пьёт не просыхая, и дома не появляется, так чем ты лучше? Дочь алкаша. – Она растерла слюну по глазам Люды, придвигаясь к лицу её вплотную, деланно вдыхая запах кожи и волос.
– Зачем тебе волосы? Может без них будет лучше? – Она отступила на пол шага, улыбаясь, показывая двумя пальцами, как режет воображаемую прядь волос. – А может ты и вся тут ни к чему? – Она улыбнулась, и плюнула в лицо. Попав между глаз, слюна стекала большой белой пенистой каплей с носа, перешла на правую часть лица, неровно скакнула по скуле, и повиснув на краю подбородка, неприятно щекотала лицо.
– Давай, плачь! – С вызовом в голосе, довольно улыбнувшись сказала Олеся.
Люду в этот момент никто не держал, и нащупав в кармане ножницы, она рывком вынула их, и быстро воткнула в бедро стоявшей в полушаге Олеси так сильно, как смогла. От поднявшегося крика стало по-настоящему страшно. Никто не кинулся на неё, не пытался поймать, или ударить. Она постояла немного, глядя, как кричат девочки, затыкая колготками и платками большую рану на рыхлой белой ляжке Олеси, и, развернувшись, пошла прочь.
Кто-то кричал и звал на помощь, кто-то пробежал мимо, причитая что-то неразборчиво. Но никому не было дела до неё. Шатаясь, шла она по улице, не видя ни лиц людей, ни названий улиц, пока кто-то не схватил ее за плечо.
– Эй, что с тобой? – На улице её схватила за руку смутно знакомая девушка.
– Ничего. – Люда ускорилась, но та не отставала.
– Мы из одной школы, я знаю тебя. Что случилось? У тебя рука в крови.
– Ничего, просто подралась с одноклассницами.
– Какой ужас, ты видела, как ты выглядишь вообще? Давай я тебя до дома провожу!
– Нет, я не пойду сейчас домой. Мне нельзя сейчас туда. Они придут ко мне домой, и будут ждать меня там. Они же знают, где я живу.
– Такая ты странная. – Она что-то прикидывала в голове, задвинув глаза кверху и сжав губы. – Вот что, а давай ко мне пойдём, я чаем тебя напою. Хочешь чаю?
– Не знаю. – Люда равнодушно пожала плечами, с недоверием глядя на эту незнакомую ей девушку.
– Идём-идём, и варенье по пути на рынке купим. Меня Света зовут, кстати.
На рынке, куда они завернули, было пустынно. Покосившимися корягами торчали облезлые торговые стойки. Только ветер трепал разорванные остатки вывесок. По проходам перекати-полем шатались обрывки газет, обертки мороженого, и мелкий мусор.
Пара вековых бабок в неряшливых серых платках на голове стояли у прилавков, предлагая прошлогодние яблоки, что ровными рядами были разложены по деревянным ящикам. Каждое было обернуто куском газеты. Рядом торчали бутылки с наломанными кустами черемухи внутри, что, отстояв день, поникли, свесившись неживыми цветами к земле, растратив понапрасну свой душный ядовитый аромат.
На втором прилавке Света нашла жесткие, желтоватые сливы.
– Варенья нет нигде, так мы сами сварим. – Она подмигнула, и расплатившись, стала сгребать сливы в сумку.
По сливам медленно полз большой желтый паук, мутного янтарного цвета, аккуратно переставляя лапы с одной ягоды на другую. Люда, чуть вскрикнув, потянулась рукой к сумке, чтобы прихлопнуть его.
– Ты чего делаешь? – Света возмущенно отдернула сумку.
– Там паук, я хотела го убить.
– Еще чего, пауков трогать нельзя. Они хорошие. – Света распахнула сумку, заглядывая внутрь. – Спрятался.
– Так его сливами придавит.
– Ну тогда всё равно это не мы его убили. Сливами это уже другая история. – Она хитро улыбнулась.
– А по мне так нет никакой разницы. – Они медленно вышли на улицу, шаркая ногами об асфальт.
Помолчав, Света спросила, вскинув подбородок. – А друзья у тебя есть?
– Есть. Вернее, нет. Есть одна только Катька, но она что есть, что её нет. Так.
– Тогда это не подруга совсем, если «так». – Она голосом выделила последнее слово и нахмурилась.
– Ну да. А больше не с кем, я ни с кем почти не общаюсь.
– Вот ты странная. Пауков давишь, людей не любишь.
– А за что их любить, если они в лицо плюют, и бьют больно?
– Ну может ради кого-то и можно сделать исключение? – Она помолчала немного. – А я всё люблю. Кроме лета.
Пришли быстро. На первом этаже первая квартира направо. И сам дом был какой-то необжитый, и квартира стояла полупустая, за закрытыми дверями было тихо. На кухне, кроме чайника, пары чашек и огромной кастрюли ничего не было. Из мебели только белый шкаф на стене, да стол со стульями. Света провела её в кухню, а остальные двери по коридору были плотно закрыты. Люда села за совсем небольшой стол, покрытый белой клеёнкой в желтый рубчик, исполосаный следами от ножа, и она машинально двигала пальцами по этим порезам, перебирая по всей длине, и перескакивая с одного на другой.
На плите быстро закипела большая кастрюля с водой и сахаром. Света ссыпала все сливы из сумки, не моя, не перебирая, не срезая чёрные точки, или помятые бока. Нашла в каком-то ящике вилку, и громко скребя по дну, перемешивала сахар с бурыми мясистыми ягодами.
Пенки она снимала той же вилкой в большую некрасивую тарелку, с голубой волнистой полосой, идущей по всему краю, и часто прерывающейся кривой азбукой Морзе на точки. Пенки криво стекали по зубьям вилки, и никак не хотели идти в тарелку
– Ай, чтобы вас! – С досадой причмокнула она, и, надолго уйдя в одну комнату, долго там что-то двигала и шуршала пакетами. Вернулась с обыкновенной большой ложкой. Дело пошло быстрее.
– Люд, помешай пока в кастрюле, я чай заварю.
Пока Люда помешивала ложкой в кастрюле по часовой стрелке, в той же тональности у окна билась жирная, огромная муха. Абсолютно без толку она толкалась в стекло своими волосатыми губами хоботка, вертела головой, подстраивая глаза так, чтобы увидеть, что же не даёт пройти. Ударившись ещё пару раз, муха затихла, и лишь недовольно жужжала раз в короткий промежуток, как будто отсылая сигнал о помощи туда, за стекло.
Сахар быстро растаял, и жидкой слюнной пеной растёкся по краям кастрюли. Бурлящие комковатые сливы стали совсем мягкими. Кожица трескалась в нескольких местах и мякотью разваливались при каждом требовательном толчке вилкой.
Не поворачиваясь к Свете, она бросила в её сторону. – Убей ее!
– Что? – Света даже чуть привстала от стола
– Раздражает, жужжит все время.
– А почему муху можно, а паука нельзя?
– Потому что мухи мерзкие, уродливые, любят копошиться на всём, что уже отжило. А пауки мне нравятся, и они на еду не садятся. – Она пожала плечами, сжала неприятно пахнущий типографской краской толстый куль газеты, и равнодушно, почти не глядя одним ударом размазала жирную неповоротливую муху по подоконнику. Через край мухи медленно вываливались белыми рыбьими икринками мушьи прозрачные яйца.
– Она беременная была. – С отвращением, но не отводя взгляда сказала Света.
– Балда, мухи личинки откладывают в отбросы, и в говно. Не знала, что ли? – Люда неприятно скривив рот, беззвучно засмеялась.
– Где-то эти яйца должны же были вызреть.
– Давай больше не будем про мух, а? Я вообще-то варенье тут варю для нас.
– Странно все-таки, что муху убивать тебе можно и нужно, а паука, говоришь, нельзя.
– Пауки едят мух, и правильно делают. Видишь, даже сами пауки знают, кого надо ловить, и истреблять.
– Чем ее вытереть теперь?
– Муху? Вырви, и намочи газеты кусок.
Пока она терла газетой подоконник, в кухне повисла долгая нехорошая пауза. Газета скатывалась мелкими катышками, и налипала на белую облупленную краску подоконника, и застревала в мелких трещинах.
– Ай, оставь, как есть. Все равно уже. – Света дернула плечом, разливая дымящееся содержимое кастрюли по пустым банкам. Обе неловко помолчали.
– А где ты научилась варенье варить? – Люда первая не выдержала.
– А нигде. Смотрела, как мама варит. У тебя мать варит варенье?
– Моя? Нет, не видела ни разу, чтобы варила.
– А что же вы зимой с чаем едите?
– Иногда мёд, или сахар.
– Эх ты. Ну ничего, я тебе все банки с собой дам. Мне не пригодится, да и мы больше все равно не увидимся.
– Как так? Почему?
– Мы переезжаем, отца переводят в другую часть, а мы с мамой вместе с ним едем.
– Все вместе. – Угрюмо на одной ноте повторила Люда. – А как же школа? Друзья?
– А что мне школа? Да и друзья мне тоже не особо нужны.
– Как не нужны? Вот мы же хорошо общаемся.
– Ну как бы да, но это я тебе сейчас нужна. А ты мне зачем?
– Я не понимаю.
– Ну ты меня младше, мне стало тебя жалко, сейчас накормлю вареньем, и всё.
– То есть если бы ты не переезжала, мы бы не подружились?
– Это вряд ли. Я ещё никого в этом городе не встречала, чтобы хотелось дружить. Вы все не особо интересные.
– Вот смотри, мы пока тут общались, ты хоть один вопрос мне задала? Или поинтересовалась чем-то, кроме того, как, и почему я косточки из сливы не вытащила?
– Нет. – Мотнула она головой.
– Ну вот, а я про тебя я уже всё знаю.
– Ничего ты про меня не знаешь – Люда насупилась.
– Ну мне больше и не интересно, а то я бы спросила, а ты бы с радостью ответила.
Люда ничего не ответила, молча прошла в коридор, и громко сопя возилась со шнурками ботинок.
– Темно, пошли провожу. – Света вышла в светлую часть коридора. – На! – Она протягивала Люде сшитую из плотной ткани сумку, где мелодично позвякивали, чуть задевая друг о друга, две полулитровые банки, закрытые мутными чуть прозрачными резиновыми крышками, с еще теплым вареньем.
Они вышли на улицу. Сумка не была тяжёлой, но чуть растревожившись при быстром шаге, начинала раскачиваться, и набирала амплитуду. Приходилось иногда хватать её второй рукой, и немного прижимать к себе на пару секунд.
– Да не отнимет никто, чего так жмёшь к себе? – Насмешливо спросила Света.
– Я аккуратно несу. – Тихо отозвалась она, еще сильнее прижав к себе сумку.
На другой стороне улицы послышалась возня, крики, удары, звучащие издали.
Какие-то алкаши и подростки рвали друг на друге одежду, невнятно выкрикивали ругательства, и месили слабыми кулаками куда попало. В стороне, метрах в трех, в тени стояла группа парней. Лиц не разобрать, у фонаря выбили лампочку камнем, мелкая крошка стекла валялась там же, под ногами. Присмотревшись, Люда резко остановилась, чуть сузив глаза.
– Это мой отец там. – Постояв молча с минуту, она медленно пошла по улице.
– Давай до будки телефонной сбегаем? – Света тянула её за рукав кофты, увлекая обратно в сторону драки.
– Нет, я не хочу ему помогать.
– Но это же твой отец! Давай хотя бы позвоним, позовём на помощь, нельзя же просто его здесь бросить
– Но почему? – Сзади продолжалась возня, вскрики, шлепки. Люда отдалялась медленными шаркающими шагами.
– Это же твой отец! Почти закричала подруга и встряхнула за плечи. – Мне-то всё равно, но почему тебе нет?
– Я не хочу ему помогать. Он каждый день пьёт, ему на всех плевать. Его уже не надо спасать. Я пошла домой. – Люда передернула плечами, и, поправив сползшую с локтя сумку, продолжила идти в сторону дома.
– Знаешь что? Ты очень мерзкая. – Света стояла, ожидая какой-то реакции, но, видя, что Люда сейчас уйдёт, вот просто молча развернувшись, и не сказав ни слова, решила уйти хоть с каким-то выигрышем. – Отдай, это мое! – Она качнулась, и неожиданным резким броском вцепилась двумя руками в сумку с банками.
– Это мое варенье! – Зашипела в ответ Люда, не выпуская сумку ни на сантиметр.
– Я-то думала, что ты хорошая. Еще и варенье варила, время своё тратила. А ты мерзкая!
Сумка не поддавалась, и Света, расставив ноги так широко, что синяя юбка натянулась до предела чуть ниже у колен, короткими толчками вырывала тряпичные лямки из рук. – Не надо было тебя к себе тащить, вот я идиотка. – Процедила она через зубы. Сумка не поддавалась, только раскачивалась, и почти доставая до коленей.
– Гадина. А ну отдай варенье.
– Сама уродка! Думаешь, что ты лучше всех, да? Ненавижу таких как ты, таких с виду простых хорошо одетых девочек. У тебя же все будет хорошо, по тебе же видно. Так чего ты ко мне прицепилась, что та муха?
– Отдай, это моё варенье. Мое. Отдай! – Лицо Светы исказила жуткая гримаса, рот приоткрылся, и мелкие густо растущие зубы показались из-за больших, густо накрашенных красной помадой губ.

