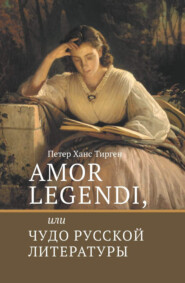скачать книгу бесплатно
Amor legendi, или Чудо русской литературы
Петер Ханс Тирген
Сборник научных трудов Петера Тиргена охватывает широкий диапазон исследовательских интересов автора в области русской литературы – от эпической поэмы М.М. Хераскова «Россияда» до повести И.А. Бунина «Господин из Сан-Франциско». В него вошли выполненные специально для этого издания переводы работ немецкого ученого, а также статьи, ранее опубликованные в российских периодических изданиях. Сборник состоит из трех разделов, отражающих основные направления научной деятельности П. Тиргена: раздел «История русской литературы», посвященный отдельным произведениям М.М. Хераскова, А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, И.С. Тургенева, Н.С. Лескова, А.П. Чехова, И.А. Бунина; специальный раздел о творчестве И.А. Гончарова (П. Тирген – один из самых известных немецких гончароведов); раздел «История русских понятий», в котором исследуются «ключевые слова культуры». Завершает книгу список научных трудов автора.
Издание адресовано филологам, литературоведам, культурологам, но также будет интересно широкому кругу читателей.
В формате PDF A4 сохранен издательский макет.
Петер Ханс Тирген
Amor legendi, или Чудо русской литературы
Copyright © 2020 by Peter Thiergen
© Составление. Лебедева О.Б., 2021
От составителя
Известный немецкий филолог, профессор, много лет заведовавший кафедрой русского языка и литературы Бамбергского университета, Петер Ханс Тирген в общении с русскими коллегами любит называть себя просто Петр Иванович. В этой самоидентификации, разумеется, есть элемент свойственной Петеру Тиргену иронии, но одновременно это и вербально выраженный знак причастности к той культуре, которая для немецкого ученого уже давно стала больше чем делом жизни. Немецкий славист Петер Ханс Тирген и его русский двойник Петр Иванович – неразделимое единство двух культур и двух национальных традиций мышления, рефлексии, филологического знания.
Первое серьезное исследование немецкого ученого было посвящено эпической поэме М.М. Хераскова «Россияда»[1 - Thiergen P. Studien zu M.M. Cheraskovs Versepos «Rossiada»: Materialien und Beobachtungen. Bonn, 1970. 364 S.]. Опубликованная в Бонне в 1970 г., эта диссертация Петера Тиргена поражает не только своим объемом, основательностью, прекрасным знанием источников, но и методологией. Все восемь глав этого труда – поступательное постижение на первый взгляд странной и архаичной поэмы Хераскова как закономерного и естественного этапа русского художественного сознания и национального мышления вообще. Исследователь вписывает произведение в русскую (от Кантемира до Майкова) и мировую традицию (античную, итальянскую, Нового времени – Мильтон, Вольтер), но не для того, чтобы придать ему более значительный статус, а для того, чтобы выявить своеобразие русского эпоса. Шестая и седьмая главы книги – «Наблюдения над композицией», «“Россияда” и сентиментализм» – осмысление поэтики «Россияды» как характерного и репрезентативного явления русского художественного сознания. Синтез классицистического и сентименталистского мышления, элементы рококо (см. раздел «Чувствительность и рококо»), выявленный автором в процессе анализа композиции, мотивов и образов, позволил говорить о традиции херасковского эпоса для последующей эпохи литературного развития вплоть до «Руслана и Людмилы» Пушкина.
Странный, казалось бы, выбор объекта исследования (ведь даже и в отечественном литературоведении «Россияда» почти не удостоивалась специального изучения, да и нередко вызывала ироничное отношение) закономерен для Петера Тиргена как ученого. «Во всем мне хочется дойти до самой сути» – так можно определить его не только исследовательскую, но и жизненную позицию. Эпическая поэма Хераскова – один из первых актов национального самосознания России в новое время ее истории – и в этом отношении обращение Петера Тиргена к «Россияде» глубоко не случайно: это осознанное стремление понять, как другая культура, другой язык и другая ментальность позиционируют себя в общечеловеческом культурном контексте.
Русский XVIII век привлек исследователя своей архаичной первозданностью, незамутненностью духовного и национального самосознания, когда многие понятия еще только формировались, когда остро стояла проблема творения литературного и метафизического языка новой русской словесности и закладывались основы классической русской словесной культуры XIX столетия. И позднее, обращаясь к «Путешествию из Петербурга в Москву» Радищева[2 - Zeitschrift fur Slavische Philologie (далее – ZfslPh). 1973. Bd. 37. S. 101–116.], к поэме Ломоносова «Петр Великий»[3 - ZfslPh. 1975. Bd. 38. S. 120–127.], к рецепции и функционированию мотива «триумф Венеры»[4 - Slavistische Studien zum VII. Internationalen Slavistenkongress in Warschau 1973. Munchen, 1973. S. 484–496.] в русской литературе XVIII в., Тирген осмысляет русский XVIII в. как феномен духовного развития нации, эстетических поисков и философского самоопределения.
Диапазон исследовательских интересов немецкого слависта широк: здесь и размышления о поэтике пушкинского стихотворения «Брожу ли я вдоль улиц шумных…»[5 - Die russische Lyrik. Herausgegeben von Bodo Zelinsky… K?ln; Weimar; Wien, 2000. S. 86–92, 421–423.], и осмысление гоголевской «Шинели» как «теологического нарратива» в соотношении с Нагорной проповедью[6 - Gattungen in den slavischen Literaturen: Festschrift fur Alfred Rammelmeyer… K?ln; Wien, 1988. S. 393–412.], и размышления о марионеточной природе гоголевского мирообраза[7 - См.: G?ttliche, menschliche und teuflische Kom?dien. Europ?ische Welttheater-Entw?rfe im 19. und 20. Jahrhundert / Hg. A. Gier // Romanische Literaturen und Kulturen. Bd. 3. University of Bamberg Press, 2011. S. 37–69.], и сопоставительный анализ контрастных идеологем немецкой и русской картины мира[8 - Thiergen P. Aufrechter Gang und liegendes Sein. Zu einem deutsch-russischen Kontrastbild. M?nchen Verlag der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. 2010. 99 S.], и анализ чеховских рассказов «Толстый и тонкий» и «Княгиня»[9 - См.: Hamburger Beitr?ge f?r Russischlehrer 27. 1982. S. 175–190; Festschrift f?r H. Br?uer zum 65. Geburtstag… K?ln; Wien, 1986. S. 585–608.], и рассмотрение поэтической мотивологии К. Бальмонта[10 - Byzantine Studies / Еtudes Byzantines. 1981, 1984–1985. Vol. 8, 11–12. P. 387–394.].
Цель нашего разговора о Петере Тиргене не обзор его трудов. Подробные сведения об этом можно отыскать на специальном сайте Бамбергского университета[11 - Schriftenverzeichnis Prof. Thiergen. [Электронный ресурс]. URL: http://www.thiergen.de/index.php5?titel=Schriftenverzeichnis&num=1.]. И список его трудов говорит сам за себя: в нем отражаются пристрастия ученого, вехи его творческого пути, интенсивность поисков… Но все-таки личность исследователя выражается, прежде всего, в пафосе его творчества, в той «осердеченной идее», которая питает его научный поиск. Быть может, понятие «пафос» недостаточно адекватно отражает дух изысканий Петера Тиргена, всегда предельно точных, фактически насыщенных и даже кажущихся почти позитивистскими. Но это лишь на первый и достаточно поверхностный взгляд.
Во всех трудах исследователя есть свой нерв и сквозная сверхидея. Начиная с разысканий о «Россияде», Тиргена волнует феномен русской духовности, шире – славянского духа, и еще шире – феноменология человеческого духа вообще. Одна из его программных работ носит характерное заглавие: «“Homo sum” – “Europaeus sum” – “Slavus sum”: Zu einer Kulturkontroverse zwischen Aufkl?rung, Eurozentrismus und Slavophilie in Russland und der Westslavia»[12 - ZfslPh. 1998. Bd. 57. S. 50–80.]. Историю функционирования знаменитого афоризма Теренция «Homo sum: humani nihil a me alienum puto» («Я человек, и ничто человеческое мне не чуждо») автор рассматривает как определенное историко-культурное понятие, в разные исторические периоды и в различные культурные эпохи (просветительство, евроцентризм, славянофильство) обретающее в России и Восточной Европе свое идеологическое наполнение и философское звучание. Определенное сужение объема понятия – следствие обостренных споров и национально-освободительного движения в славянском мире. И вместе с тем, по мнению ученого, тоска по общечеловеческим, общегуманистическим ценностям, идущая от Карамзина к Грановскому, Станкевичу, Белинскому – то, что Тургенев называл «идеализмом в лучшем смысле слова», всегда питала русскую мысль и определяла ее «всечеловеческую отзывчивость».
Подобного рода статьи Петера Тиргена[13 - См., например: Thiergen P. Die «gleichg?ltige Natur». Zu einem Topos in deutscher ?nd russischer Literatur // Die Wirklichkeit der Kunst und das Abenteuer der Interpretation. Festschrift f?r Horst J?rgen Gerigk / Hg. K. Manger. Universit?tsverlag C. Winter Heidelberg, 1999; Thiergen P. Arkadien und Europa. Beitr?ge zur Tagung in Hundisburg vom 27. bis 29. April 2007 / Hg. B. Heinecke, H. Blanke.] вряд ли укладываются в разряд чисто филологических. В них поднимаются глубинные экзистенциальные проблемы, и это становится возможно благодаря глубоким познаниям автора в истории европейской культуры, начиная от ее греческих и латинских первооснов. В высшем смысле это философская рефлексия о судьбах европейского гуманизма и проблемах национально-исторического самоопределения. И очевидно вырисовывается ее историософское и культурологическое звучание. Огромный материал античной, западноевропейской, русской и восточнославянской мысли, проанализированной сквозь призму одного афоризма, обретает масштаб своеобразного духовного феномена.
История понятий как историко-культурных феноменов, реализованных и образно выраженных в литературе, – вот главный объект филологических изысканий Петера Тиргена. В программном докладе на Международной конференции в Бамберге 19–22 октября 2001 г., специально посвященной истории русских понятий Нового времени[14 - ZfslPh. 2002. Bd. 47. S. 104–105.], он, вдохновитель и организатор этого симпозиума, определил методологию своих исследований как феноменологическую и рецептивную. В данном случае мысль исследователя можно было бы продолжить: не говоря об этом прямо, Петер Тирген выстраивает свои исследования как имагологический текст, ибо языковая и образная картина мира, складывающаяся как из истории эволюционирования одного типологического для русской словесной культуры понятия, так и из их совокупности, является по определению имагологическим ментальным текстом, на первом плане которого всегда оказывается духовное своеобразие менталитета, явленное, прежде всего, в языке и смысле.
Эти методологические подходы немецкого слависта рождают естественную память о великом творении Гегеля «Феноменология духа», появившемся около 200 лет тому назад в 1807 г. Именно Гегель впервые заговорил о явлениях (феноменах) сознания в их историческом развитии. В «Предисловии» к своему труду Гегель определяет суть «познания в понятиях». «Наука должна организоваться только собственной жизнью понятия; в ней определенность, которая по схеме внешне наклеивается на наличное бытие, есть сама себя движущая душа наполненного содержания»[15 - Гегель Г.В.Ф. Система наук. Часть первая: Феноменология духа / пер. Г. Шпета. СПб., 1999. С. 28.], – это положение философа намечает нравственный потенциал его феноменологии. Антропологический смысл понятий становится очевидным при размышлениях Гегеля о нравственном мире, «моральном мировоззрении», совести и т. д. Гегелевские понятия-феномены – это, прежде всего, прорыв в антропологическое и историософское пространство человеческой мысли. И в этом отношении гегелевская традиция «феноменологии духа» принципиальна для поисков современной филологии.
В исследовательском лексиконе Тиргена – судьба самых разных понятий. Он писал о философии пилигримажа у Тургенева в связи с этим же мотивом у Шиллера. В поэзии К. Бальмонта он исследовал понятия «дендизм» и «дилетантизм». Образы «мыслящего тростника», «равнодушной природы» в русском культурном сознании; историософский смысл идеологемы «aufrechter Gang und liegendes Sein» («прямохождение и лежачее существование»); ключевые слова «сила», «ломать» и «загадка» в романе Тургенева «Отцы и дети»; «халат Обломова» как знаковое явление; судьба афоризма «Homo sum»; соотношение «агона» и «агонии» в русском сознании Нового времени – этот спектр понятий, образов, мотивов, топосов далеко не исчерпывает научные поиски бамбергского профессора, но дает представление о его «феноменологии духа».
Петер Тирген осмысляет гегелевскую феноменологию в пространстве культурного и эстетического опыта человечества, прежде всего, в соотношении немецкой и русской традиции мышления. Он пытается постигнуть преломление понятий в языке, образах, эстетическом сознании. И в этом постижении понятий-феноменов границы между философским, культурологическим и филологическим дискурсами не стираются, а обретают необходимую подвижность и гибкость. Жизнь и судьба понятия в литературном сознании – таково главное направление научных изысканий Петера Тиргена.
Показательной в этом отношении является классическая работа исследователя, посвященная судьбе понятия «нигилизм». Появившись в журнале «Die Welt der Slaven» (1993, Bd. 38/2), она почти сразу же была переведена на русский язык и опубликована в журнале «Русская литература» (1993, № 1). Один из блистательных знатоков немецкой культуры, известный литературовед А.В. Михайлов, приступая к разговору об истории нигилизма, справедливо говорил о «замечательной статье П. Тиргена, посвященной проблеме нигилизма в романе И.С. Тургенева “Отцы и дети”, статье, которая далеко выходит за рамки означенной в заглавии проблематики и весьма своевременно ставит некоторые необходимые акценты в изучении слова и феномена “нигилизма”»[16 - Михайлов А.В. Из истории «нигилизма» // Михайлов А.В. Обратный перевод. М., 2000. С. 537.].
И эти слова не просто дань уважения и признания заслуг предшественника. А.В. Михайлов акцентировал в исследовании немецкого коллеги, прежде всего, масштаб мысли и актуальность подходов к изучению «ключевых слов культуры».
Статья П. Тиргена значительно расширила круг источников тургеневского понятия «нигилизм», обратив внимание на немецкие дебаты 1840–1850-х годов вокруг сочинений «вульгарных материалистов» и в особенности книги Людвига Бюхнера «Сила и материя». Немецкий ученый убедительно показывает, что и споры вокруг «Молодой Германии», и повесть Карла Гуцкова 1853 г. со знакомым заглавием «Нигилисты» были известны автору «Отцов и детей» и способствовали в его сознании «идентификации или по крайней мере соотнесению вульгарного материализма и нигилизма», что после тургеневского романа и «стало на повестку дня русской критики»[17 - Русская литература. 1993. № 1. С. 45. См. также статью «К проблеме нигилизма в романе И.С. Тургенева “Отцы и дети”» в наст. изд.]. Вывод исследователя о том, что «тургеневское понятие нигилизма не является в первую очередь революционно-политическим, но также обладает философско-теоретическим импульсом» и что это «отвечает стремлению не быть политическим писателем, но тем не менее отражать “жизненную реальность своего времени”»[18 - Русская литература. 1993. № 1. С. 46–47.], представляется глубоко обоснованным и перспективным для осмысления места тургеневского романа не только в русском, но и в европейском культурном пространстве.
Как и в других своих работах, Тирген рассматривает «нигилизм» как духовный феномен, как понятие, претерпевшее существенные изменения в процессе своего функционирования. «Новое в романе “Отцы и дети”, – резюмирует исследователь, – в большей степени заключается в том, что материалисты сами называют себя “нигилистами” и воспринимают эту самохарактеристику как похвальное и почетное звание»[19 - Русская литература. 1993. № 1. С. 45.]. А.В. Михайлов, характеризуя это размышление немецкого коллеги как существенный вклад в историю понятия «нигилизма», подчеркивает, во многом опираясь на выводы своего предшественника, что «настоящее достижение Тургенева – в беспрецедентном новополагании слова “нигилизм”»[20 - Михайлов А.В. Указ. соч. С. 610. (Курсив автора. – П. Т.)].
Своеобразным постскриптумом к истории русского нигилизма стала появившаяся уже в следующем году статья «Жан-Поль как источник раннего русского понятия “нигилизм”» («Jean Paul als Quelle des fr?hen russischen Nihilismus-Begriffs»)[21 - Res Slavica. Festschrift f?r Hans Rothe zum 65. Geburtstag / Hg. P. Thiergen, L. Udolph. Paderborn, 1994. S. 295–317. Ср.: Тирген П. Заметки о раннем русском понятии «нигилизм» // Россия – Запад – Восток: Встречные течения. К 100-летию со дня рождения акад. М.П. Алексеева. СПб., 1996. С. 396–402.], где автор углублял представление о генезисе феномена. Обратившись к «Приготовительной школе эстетики» Жан Поля, П. Тирген показал значение словосочетания «поэтический нигилизм» и его последствия в эстетических штудиях Жуковского, Надеждина, Шевырева. Во-первых, этот вновь выявленный источник позволил отнести размышления о нигилизме в России к более раннему периоду развития эстетической мысли. Во-вторых, исследователь еще раз акцентировал масштаб понятия «нигилизм» именно как духовного феномена, отразившегося и проявившегося в культурном сознании с конца 1810-х до 1860-х годов. Наконец, обращение к «Речи мертвого Христа с вершины мироздания о том, что Бога нет» из романа Жан Поля «Зибенкез» позволило обозначить перспективы философии нигилизма для последующего литературного развития и ее смыкание с религиозными проблемами.
Любопытно, что одновременно с П. Тиргеном к этим же источникам нигилизма из Жан Поля обратился А.В. Михайлов. Оба исследователя были единодушны в том мнении, что история понятия «нигилизм» в XIX в. до Тургенева является наглядным примером немецко-русских взаимосвязей и взаимовлияния и что «Жан Поль странным образом подготовил и центральные понятия “нигилизма”»[22 - Михайлов А.В. Указ. соч. С. 558.].
Наверное, не случайно в центре научных интересов Петера Тиргена оказались два русских романиста – Тургенев и Гончаров. Именно их поиски, по мнению исследователя, стали переломным моментом в общественном сознании России и корреспондировали с атмосферой споров в немецком обществе постромантической эпохи, в частности, с движением «Молодой Германии». «Ключевые слова культуры», идеологемы и философемы бурной эпохи 1840–1860-х годов получили в романах Тургенева и Гончарова не только своё образное выражение, но и вторую жизнь, своеобразно очеловечились и заземлились. Пилигримаж Рудина, земледельческие проекты Лаврецкого, нигилизм Базарова, романтические иллюзии и шлафрок Обломова – все эти образы-понятия русской романистики осмысляются Тиргеном как феномены духовной культуры своего времени сквозь призму философской и эстетической мысли Германии.
Такой взгляд рождает особую объемность исследуемых явлений и вместе с тем углубляет представление о философском потенциале русской романистики 1840–1860-х годов. Петер Тирген, не подвергая сомнению уникальность художественных открытий Тургенева и Гончарова, сумел раскрыть их органическую связь с философской культурой своего времени, в частности с немецкой.
Логическим продолжением и развитием этого направления феноменологической мысли немецкого слависта стали его работы, посвященные рецепции немецкой мысли в России. Уже первое исследование, выполненное в этом научном русле – монография «Вильгельм Генрих Риль в России»[23 - Thiergen P. Wilhelm Heinrich Riehl in Ru?land (1856–1886) // Studien zur russischen Publizistik und Geisesgeschichte der zweiten H?lfte des 19. Jahrhunderts. Giessen, 1978. 331 S.], появившаяся еще в 1978 г. и, к сожалению, до сих пор почти неизвестная у нас, было знаковым для методологических поисков П. Тиргена. По существу, исследователь открыл немецкого писателя, публициста и историка Вильгельма Генриха Риля (1823–1897) для истории русского общественного сознания. Несмотря на фундаментальную фактическую основу монографии (а скорее, благодаря ей), автор увидел репрезентативную фигуру в личности и трудах этого малоизвестного для современного русского читателя представителя немецкой мысли, публицистика которого активизировала размышления русского общества о природе и характере славянского мира, о его соотношении с европейским менталитетом.
Сочинения этого немецкого автора, прежде всего, книга «Естественная история народа как основа немецкой социальной политики», включившая размышления о природе гражданского общества, о семейной жизни, о народных обычаях и нравах, актуализировали идеи народознания в России, что было важно для пореформенной эпохи, остро ставили проблему консерватизма как специфической черты русского и шире – славянского характера. Не случайно от Ивана Аксакова, который, как убедительно доказал П. Тирген, лично был знаком с Рилем, до Льва Толстого, который в 1860 г., читая сочинения Риля, размышлял о «народной из народа литературе» и природе консерватизма. Идеи Риля воспринимались русской либеральной мыслью как органическая часть культурно-исторического сознания. Показательно в этом отношении суждение А.В. Дружинина о гончаровском «Обломове» в связи с воззрениями Риля. «Германский писатель Риль, – писал он в статье 1859 г., – сказал где-то: горе тому политическому обществу, где нет и не может быть честных консерваторов; подражая этому афоризму, мы скажем: нехорошо той земле, где нет добрых и неспособных на зло чудаков в роде Обломова!»[24 - Дружинин А.В. «Обломов». Роман И.А. Гончарова. Два тома. СПб., 1859 // Дружинин А.В. Прекрасное и вечное. М., 1988. С. 458. Впервые опубликовано: Библиотека для чтения. 1859. № 12. Отд. IV. С. 1–25.]. Риль и Гончаров – герои исследований Петера Тиргена – далеко не случайно так соотнеслись в суждении русского критика.
История русских понятий, феноменов русского духа как объект научной рефлексии немецкого слависта органично соединила философию и культуру, общественную мысль и литературу. Загадка этого синтеза интересует П. Тиргена и определяет эвристическое пространство его серьезных и увлекательных опытов. Что, казалось бы, малоизвестный Генрих Риль (даже, кстати, никак не зафиксированный в девятитомной «Краткой литературной энциклопедии») России, русской литературе?! Объемное исследование П. Тиргена о судьбе Риля в русской публицистике и духовной истории второй половины XIX в. доказывает значение идей немецкого народознания и немецких социально-философских и общественно-исторических теорий для русского культурного сознания. И убеждает в том, сколь значим был диалог двух культур и сколь еще недостаточно глубоко мы осмыслили этапы этого диалога, нередко ограничиваясь штампами восприятия и привычной обоймой имен.
Столь же естественным был постоянный интерес П. Тиргена к судьбе Артура Шопенгауэра в России. Многочисленные заметки ученого о русской рецепции Шопенгауэра, рецензии, русские и немецкие исследования о нем подготовили реальную основу для фундаментальной монографии «Шопенгауэр в России», работа над которым завершается. И вновь Шопенгауэр привлекает внимание П. Тиргена как выразитель определенной феноменологии духа, которая оказалась близка русскому художественному и общественному сознанию. «Ключевые слова культуры» соединили, казалось бы, несоединимое: философию «b?ser Wille» (злой воли) Шопенгауэра и мир страстей героев повести Н.С. Лескова «Леди Макбет Мценского уезда». И такие странные сближения закономерны в исследовательском пространстве немецкого слависта.
Феноменологические изыскания П. Тиргена расширяют мир философской рефлексии русской литературы и шире – культуры. Гердер, Кант, Шиллер, Гёте, Жан Поль, Гегель, Шопенгауэр, Бюхнер, Гейне, Риль и Блох через «ключевые слова культуры» вступают на страницах книг и статей П. Тиргена в духовное братство с русскими писателями и деятелями культуры. И в этом мире духовного братства и феноменологии духа рождаются художественные открытия мирового масштаба. Образы изящной словесности и феномены философской мысли не изолированы в духовном развитии человечества, и русская культура в этом отношении открыла невиданные возможности синтеза. Этот синтез эстетической и философской мысли, материализованный в системе художественных мотивов и образов, определил мировое значение русской литературы. Этот пафос всей творческой деятельности Петера Тиргена имеет больше чем научное значение. Он обретает общегуманистический смысл, способствующий сближению национальных культур.
Самоценным аспектом трудов Петера Тиргена является их научный аппарат, демонстрирующий не только универсальную начитанность ученого в русском литературоведении, но и репрезентативно представляющий масштабы современной немецкой славистики, немецкой литературной теории и библиографически-справочной литературы. И совершенно особенного разговора заслуживает язык Петера Тиргена – и его немецкий, и русский язык; вернее было бы сказать, свойственное ему чувство языка вообще, глубина постижения языковых смыслов, способность словотворчества и очень родственный характер владения русским языком. Русская речь немецкого профессора может поразить воображение даже самого квалифицированного носителя русского языка той непринужденной свободой, с которой он пользуется самыми изощренными способами слововыражения и смыслопорождения, зачастую недоступными даже урожденным носителям русского языка – с острым чувством внутренней формы слова, синонимии и антонимии, парономастического потенциала русского слова и его органичной склонности к игре своим звуком и смыслом. Языковая игра, к которой способен далеко не каждый не то что даже профессиональный европейский славист, хорошо говорящий по-русски, но и прирожденный русскоговорящий, – характерная примета русской речи Петера Тиргена, остро чувствующего каламбурные возможности русских грамматических словоформ и уснащающего свою речь практически всем спектром каламбурных приемов – от разрушения фразеологизма до обыгрывания морфологического состава слова (ср., например, пожелание удачного отпуска: «жизнь на даче – у-дачная жизнь»).
Но это свойство русской речи профессора есть отражение специфики его немецкого языка – разумеется, в той мере возможности постигнуть эту специфику, в какой на это способен переводчик работ Петера Тиргена, которые, надо признаться, создают массу проблем чисто языкового характера. По сути дела, переводить работы Петера Тиргена следует исходя не из методологии технического перевода (как это необходимо для любого перевода в сфере профессиональной коммуникации), но из специфики перевода художественного. Русский литературовед С.Г. Бочаров счел литературоведение отраслью изящной словесности[25 - В предисловии к книге «Сюжеты русской литературы» С.Г. Бочаров писал: «Литературоведение – это тоже литература, и филолог – это писатель, он не только имеет дело с исследуемым словом другого писателя, он работает с собственным словом сам, без чего ему не откроется и исследуемое слово». И далее: «Филологическая работа – продолжение самой литературы, необходимое этой последней для самопонимания». Бочаров С.Г. Сюжеты русской литературы. М.: Языки русской культуры, 1999. С. 12.], и оригинальный немецкий язык литературоведческих работ Петера Тиргена – лучшее тому доказательство, поскольку его стиль, как правило, конгениален стилистике объекта его исследования. Чеховский, лесковский, гончаровский, гоголевский и пушкинский стиль научного немецкого дискурса Петера Тиргена – это очевидная языковая опция его литературоведческих работ. В случае же, если объектом исследования является философский дискурс, язык профессора приобретает истинно философский, метафизический характер с непринужденным творением новых смыслов в неологизмах, созданных синтетическим соединением известных корней в нетипичную вербальную единицу (и тогда переводчик обливается слезами отчаяния над словом Er?ugnis, которое ему хорошо понятно, но эквивалента которому в русском языке не существует, а также ломает голову, как сохранить в переводе исполненную глубоко экзистенциального философского смысла выразительнейшую оппозицию «Er-eignis – Er-?ugnis», вся вербальная красота и весь философский смысл которой заключены именно в парономастической игре словоформой). Одним словом, в своем отношении к языку и на своем уровне владения языком как таковым – и немецким, и русским (духу не хватает назвать русский язык иностранным в случае с Петером Тиргеном!), профессор Тирген – истинный поэт и мыслитель (Dichter und Denker) в лучших традициях немецкой культуры.
Чувство языка, любовь к слову и его смыслопорождающим возможностям, острота ассоциативного восприятия текста на широчайшем европейском историко-культурном фоне открывают Петеру Тиргену такие возможности постижения имплицитных смыслов текста, которые способны поразить воображение даже профессиональных русских литературоведов. Например, хорошо известная шутка Чехова «Смерть чиновника» может быть осмыслена на фоне аркадского мифа европейской культуры и приобрести невиданный экзистенциальный размах; в рассказе «Припадок» обнаруживается маска Дон Кихота, а в комической миниатюре «О вреде табака» исследователь выявляет отчетливые фаустианские мотивы[26 - Тирген П. «Поэты много лгут»: Чехов, или Любовь к маске; см. в наст. изд.]. И более того, работы Петера Тиргена заставляют внимательного читателя осознать, насколько богаты смыслами русские классические тексты (положение вообще-то аксиоматическое) – но только в том случае, если к ним обращается владеющий необозримым ассоциативным фоном восприятия исследователь. Поэтому при всех трудностях, которые создают работы Петера Тиргена для его переводчиков, без этих работ, ставших в их русских переводах достоянием русского литературоведения, наше представление о собственных классических текстах было бы гораздо беднее. И это тоже до некоторой степени имагологический сюжет: ситуация встречи ментальностей (в том числе языков в процессе взаимодействия-перевода) акцентирует оппозицию «свое-чужое», заставляющую острее переживать обе эти категории – та самая ситуация, которая для русской культуры всегда была экзистенциальной: свою идентичность она острее и лучше чувствует на иноментальном фоне. Что характерно, и полярность категорий «своего» и «чужого» при этом упраздняется – чужое доместицируется, свое отчуждается. Знаменитая формула русской ментальности «всемирная отзывчивость» рождается из этой экзистенциальной ситуации. И профессор Петер Тирген в методологии своих трудов по истории русской литературы, созданных на огромном всеевропейском историко-культурном и философском фоне, демонстрирует это самым очевидным образом.
Особого разговора заслуживает издательская деятельность ученого. Серии «Vortr?ge und Abhandlungen zur Slavistik» и «Bausteine zur Slavischen Philologie und Kulturgeschichte», активным сотрудником которых он является, имеют устойчивую репутацию серьезных славистических изданий и во многом отражают уровень современной европейской филологической мысли. Сотрудничество в этих изданиях славистов различных стран – свидетельство неиссякаемого интереса к русской культуре.
«Феноменология духа» Гегеля впервые была опубликована в Бамберге (Bamberg und W?rzburg: J.A. G?bhardt, 1807), где ее автор поселился и жил в 1807–1808 гг. Гегелевское творение не только и, может быть, даже не столько великое и фундаментальное философское сочинение. Оно торжество человеческого духа вообще, «претворения самосознания в действительность» и призыв к «нравственному действию». Вся научная деятельность и жизненная позиция Петера Тиргена – продолжение и развитие этих духовных феноменов. Только, пожалуй, они воспринимаются бамбергским профессором как повседневная реальность и норма человеческого поведения – и это особенно очевидно сейчас, когда Петер Тирген, перестав быть официально действующим университетским педагогом, отнюдь не перестал быть активным и творческим, плодотворным и в высшей степени интересным ученым.
* * *
Композиция предлагаемого сборника продиктована желанием составителя репрезентативно представить диапазон исследовательских интересов Петера Тиргена в области русской литературы – от эпической поэмы М.М. Хераскова «Россияда» до повести И.А. Бунина «Господин из Сан-Франциско». В состав сборника вошли все опубликованные в русских периодических изданиях работы немецкого ученого и вновь выполненные специально для этого сборника переводы. Сборник состоит из трех разделов, отражающих основные направления научной деятельности Петера Тиргена: «История русской литературы», в который вошли работы, посвященные отдельным произведениям М.М. Хераскова, А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, И.С. Тургенева, Н.С. Лескова, А.П. Чехова, И.А. Бунина; «Творчество И.А. Гончарова» – это один из главных героев Петера Тиргена; «История русских понятий» – в области научных интересов немецкого ученого «ключевые слова культуры», пожалуй, являются главным объектом его внимания. Заключает сборник список научных трудов Петера Тиргена, который составитель счел необходимым оставить в немецком оригинале за исключением названий и выходных данных тех работ, которые были опубликованы в русском переводе в отечественных научных изданиях.
Все переводы, кроме особо оговоренных, выполнены О.Б. Лебедевой.
Вместо предисловия. Что такое образование, или О пользе русской литературы
Диалог Петера Тиргена и Ольги Борисовны Лебедевой об истоках любви Петера Тиргена к русской литературе
О.Л. Петр Иванович, Вы любите бывать на природе и увлекаетесь спортивным бегом. Какую из трех вещей на выбор Вы взяли бы с собой на прогулку – сотовый телефон, шляпу или блокнот?
П.Т. Всегда – блокнот.
О.Л. Почему именно блокнот?
П.Т. Я воспринимаю сотовые телефоны как нашествие саранчи – они лишают свободы; шляпы или береты пристали судьбоносным женщинам типа рембрандтовской Саскии или Анны Сергеевны («Дама с собачкой»); напротив, блокнот может стать духовной сокровищницей, поскольку ходьба, как известно, способствует интенсивности мышления. Ницше издевался над исключительным сидением за письменным столом: «Только выхоженные мысли имеют ценность» («Сумерки богов»). Прогулки на открытом воздухе в диапазоне от «прогулочки» (ambulatiuncula) до быстрого бега (cursus) были идеалом стоика Сенеки. Греческое слово «метода» буквально означает «верный путь мышления». В немецком языке слова wandern (путешествовать) и bewandert sein (быть осведомленным) являются родственными. Движение на природе – это свободное движение. В русской традиции существуют чудесные стихотворения-«прогулки». И вообще, человек и в прямом, и в переносном смысле – это существо гуляющее: фланер, странник, путешественник.
О.Л. Когда Вы обнаружили в себе любовь к ведению заметок, чтению и размышлению о текстах?
П.Т. Еще в детстве. Я выходец из семьи так называемых просвещенных бюргеров. В нашей семье все читали книги и газеты, у нас была большая библиотека. Книги – это «портативная родина». Это запечатлено у меня в памяти.
О.Л. Вы помните, какие произведения и писатели произвели на Вас особенное впечатление?
П.Т. Я рано начал читать детские книги, сказки, легенды. Потом приключенческие и исторические романы (Феликс Дан, Карл Май, Купер, Киплинг, Стивенсон, Марк Твен и т. д.). Меня очаровывало все экзотическое и захватывающее. Но эта дорога игры повела к инициации и жизненному опыту.
О.Л. Когда Вы открыли для себя русскую литературу?
П.Т. По окончании гимназии я получил в подарок знаменитое немецкое издание произведений Достоевского (издательство Пипер, переводы Е.К. Разин (псевдоним Элизабет Кэррик), 1886–1966). Большие романы я читал как в лихорадочном бреду. И хотя тогда я был далек от глубокого понимания Достоевского, я все же чувствовал, какой мощный импульс может исходить от великой литературы. Я тоже жертва наркотика под названием «Достоевский».
О.Л. Не было ли это импульсом к дальнейшим Вашим занятиям славистикой?
П.Т. Энтузиастическая любовь к Достоевскому сыграла свою роль, но не была единственной причиной. После окончания гимназии я был в полной нерешимости, чем заняться дальше. Я думал об астрономии (один из моих родственников – астрофизик), но потом стал изучать классическую филологию, в течение одного семестра изучал медицину и наконец избрал славистику и латинский язык и литературу.
О.Л. Почему именно эта нетипичная комбинация?
П.Т. Для истории немецкой славистики она вовсе не экстраординарная. Славянская филология в Германии возникла как отрасль индогерманистики, классической филологии и теологии. Кроме того, я хотел сочетать традицию и современность, сравнить Европу со славянским Востоком и – как ни патетически это звучит – внести тем самым свой вклад в прекращение холодной войны. С этой целью я параллельно изучал историю Восточной Европы. Для моей дальнейшей карьеры это стало очень счастливой комбинацией.
О.Л. В Вашей семье велись политические дискуссии?
П.Т. И очень интенсивно, поскольку мы жили в опасные времена. Ребенком я пережил период нацизма, потом – до 1953 г. – социалистический порядок в ГДР. Моя семья была совершенно беспартийной и категорически не сочувствовала ни одной из систем. Мой отец, который в 1945 г. пропал без вести на войне, имел некоторое отношение к кругам антигитлеровского движения. Его отец, т. е. мой дед, был евангелическим священником Исповедующей церкви (христианского движения Сопротивления в нацистской Германии). В своей последней проповеди перед уходом на пенсию в июне 1934 г. он провозгласил, что фюрер должен быть только один – а именно, Бог, по ту сторону от земной жизни. Это, естественно, не понравилось нацистам. Но мои более отдаленные родственники симпатизировали нацистскому режиму, а позже социализму в ГДР. Это, как и везде, – цена жизни в условиях диктатуры.
О.Л. С 1960 г. Вы учились в Марбурге, а первые годы Вашей работы прошли в Бонне, Гамбурге и Франкфурте-на-Майне. Как Вы чувствовали себя в годы холодной войны?
П.Т. Будучи студентом славистического отделения, я время от времени покупал газету «Правда» – она была в свободном доступе – и поэтому постоянно слышал упреки в том, что я «коммунист». В прежней ФРГ это было прямо-таки позорным клеймом. С другой стороны, студенты, придерживавшиеся левоэкстремистских взглядов, считали меня строгим формалистом, консерватором, «буржуазным ученым». В конечном счете эта позиция «между двух стульев» была не так уж плоха.
О.Л. У Вас тогда были контакты со славянскими странами?
П.Т. В те времена более или менее свободно мы могли путешествовать только в Югославию, находившуюся под властью Тито. Там я посещал языковые курсы. Свободные контакты с Советским Союзом были абсолютно исключены. К нам приезжали лекторы из Польши и Чехословакии, бывшие в большинстве своем сотрудниками секретных служб. Время от времени институт посещала немецкая полиция – и это было для нас вроде безопасного приключения в духе Джеймса Бонда. В любом случае, самым пикантным происшествием было появление так называемых агентов Ромео-и-Джульетта[27 - Идиома, обозначающая агента секретной службы, действующего посредством установления интимных отношений: Ромео для женщин, Джульетта для мужчин. – Здесь и далее в данной статье примеч. пер.] (в том числе и из ГДР), которые должны были соблазнять сотрудников западногерманских университетов, а потом добывать у них сведения. Имена соблазненных и перебежчиков после их «обращения» заносились в так называемый розовый список (Rosenholz-Datei), но не становились достоянием общественности.
О.Л. То, о чем Вы говорите, относится, скорее, к самым ранним временам холодной войны. Что было потом?
П.Т. Потом дело дошло до широко известных «перемен в результате сближения». Западногерманская славистика очень выиграла от «новой восточной политики» Вилли Брандта. Все больше людей понимало, что Западная Германия нуждается в разрядке напряженности в отношении Советского Союза и в возврате к традициям исторически сложившейся немецко-русской общности. В 1950-х и 1960-х годах институт славистики, как правило, мог располагать только одной кафедрой, объединявшей лингвистику и литературоведение. Это ограничение было преодолено, и были основаны новые славистические институты (Бохум, Констанц, Пассау, Регенсбург, Трир, Бамберг и др.).
О.Л. И контакты начали расширяться?
П.Т. Да, это привело к значительному расширению и интенсификации контактов. Появилась возможность приглашать лекторов и ученых из славянских стран по своему свободному выбору, независимо от статуса «выездных кадров»[28 - Термин эпохи ГДР, обозначающий работника, направляемого в заграничную командировку.]. Финансирующие организации (ДФГ[29 - Deutschen Forschungsgemein-schaft (DFG) – Немецкое научно-исследовательское общество.], ДААД[30 - Deutschen Akademischen Austausch-dienstes (DAAD) – Германская служба академических обменов.], Гумбольдт-фонд) оказывали при этом большую помощь. Благодаря им я смог пригласить для участия в конференциях или для персональных докладов более сотни ученых из славянских стран. Во время перестройки интерес к славистике еще больше возрос. В VII Конгрессе славистов Германии в 1997 г. в Бамберге принимали участие круглым счетом 200 ученых. Это был рекорд.
О.Л. Можете ли Вы назвать имена ученых, которых Вы считаете учителями или которые служат Вам примером?
П.Т. Мне несколько неловко называть великих ученых своим «примером». Чем длиннее история научной дисциплины, тем чаще потомки становятся «карликами на плечах великанов». С другой стороны, конечно же, есть люди, которых я глубоко уважаю. В том числе это Михаил Павлович Алексеев, Дмитрий Сергеевич Лихачев, Юрий Михайлович Лотман, Юрий Владимирович Манн, Александр Викторович Михайлов, Ханс Роте, Гюнтер Штёкль, Дмитрий Чижевский, Владимир Артемович Туниманов, Макс Фасмер. Кроме того, это еще несколько представителей классической филологии. Моим родственником с материнской стороны был умерший еще до моего рождения индогерманист и классический филолог Вильгельм Шульце (1863–1935), и это имело на меня косвенное влияние. Шульце был дружен с Максом Фасмером, который посвятил ему некролог.
О.Л. Все эти люди прославились в области компаративистики и междисциплинарных исследований. Это и Ваш идеал?
П.Т. Да, несомненно. Особенно в области гуманитарных наук необходимо сочетать профессиональные навыки в избранной дисциплине с междисциплинарным любопытством. Для этого нужно знание языков, широкая начитанность, работа с оригинальными источниками. Я очень восхищаюсь искусством перевода. Латинский термин translatio далеко не случайно имеет два значения: это и конкретное переложение с одного языка на другой, и всеобщие пути распространения культуры – translatio artium (преемственность искусства). Например, это совершенно очевидно в традициях томской научной школы – не случайно Томск называют «Сибирскими Афинами». Сотрудничество и дружба с Александром Сергеевичем Янушкевичем и Вами стали для меня большой честью.
О.Л. Это, конечно, очень лестно, спасибо! Ваша дружба и наше сотрудничество – это честь для томской филологии и для нас с Александром Сергеевичем! Но разве genius loci Москвы, Петербурга, Парижа, Берлина или Рима не гораздо более значительны?
П.Т. Конечно, эти города – гигантские научные центры, однако количество не всегда переходит в качество. Научный ландшафт Германии испокон веков носил отпечаток федеральности, и как раз маленькие города дали приют старейшим и знаменитейшим университетам (Гейдельбергский, Эрфуртский, Грайфсвальдский, Фрайбургский, Тюбингенский, Марбургский, Йенский университеты были основаны в позднем Средневековье). И маленький Бамберг обзавелся своим университетом уже в середине XVII в. Если я не ошибаюсь, и в России сегодня происходит нечто подобное – наука захватывает в свою орбиту все больше городов. Обозримые пространства, небольшие расстояния и близость природы в маленьких городах способствуют личным контактам, самоуглублению, внутреннему спокойствию и синергетическому эффекту. А мегаполисы в наше время все больше и больше становятся чем-то вроде locus horribilis[31 - Locus horribilis (locus terribilis, locus horridus, ужасное место) – литературный топос, зачастую подземный или населенный чудовищами, антитеза locus amoenus (идиллический топос).] – они все дальше отходят от идеала «полиса».
О.Л. Русские писатели – такие как Жуковский, Гоголь, Анненков – бывали в Бамберге, но город не стал для большинства русских путешественников желанной целью. Почему?
П.Т. Здесь свою роль сыграли три обстоятельства: Бамберг не был курортом, в нем не было казино, а университет был в 1803 г. закрыт на много лет. Путешественники часто только проезжали через Бамберг, но не стремились в город. Однако в нем бывали некоторые знаменитые ученые, такие как Федор Иванович Буслаев (1818–1897), который в своей книге «Мои досуги» заметил, что каждый «благовоспитанный человек» должен ознакомиться с собранием рукописей Бамбергской государственной библиотеки. А философ Г.В.Ф. Гегель и писатель Э.Т.А. Гофман подолгу жили в Бамберге.
О.Л. Список Ваших научных работ демонстрирует преимущественный интерес к классике, а не к современной литературе. В чем причины?
П.Т. В классических текстах мировой литературы, мировой философии, мировой религии и мировой истории поставлены все коренные проблемы человеческого бытия. Гомер и Платон, Сенека, Цицерон и Тацит, библейские тексты и труды Отцов Церкви, Данте и Шекспир, французские моралисты, веймарские классики, великие философы, великие русские романисты предлагают своему читателю и исследователю опыт постановки и осмысления всех фундаментальных проблем бытия в невероятной концентрации. Люди и литературные персонажи – это своего рода «подопытные кролики» или, как выразился Достоевский в «Легенде о Великом инквизиторе», «пробные существа», которые терзаемы «самыми страшными основными и мучительными душевными вопросами» нашего бытия. Серьезный читатель – это тоже наблюдатель, ставящий опыт над самим собой. Литература без заповеди Gnothi seauton («Познай самого себя») вообще немыслима. Классика – всегда в центре бытия и в его всеобщности, в ней нет места периферийным и частным проблемам, равно как и психологической банальности. Меня интересуют глубокие основы, а не поверхностные.
О.Л. Изящная словесность – это не только серьезное и идеал совершенства. Нельзя же перегружать читателя слишком высокими требованиями.
П.Т. Конечно, нет. В великой литературе все взаимосвязано: серьезность и игра, трагика и комика, поучение и увеселение, патетика и смех. Латинский классик сказал: «Ridendo dicere verum» («Не мешает // Правду сказать и шутя», Гораций). Автор, повествователь, персонажи и читатель должны заключить между собой своего рода пакт, согласно которому должна быть осознана природа трагикомизма эстетической игры вымыслом и реальностью. Гёте различал «священную» и «шуточную» серьезность. Русская литература издавна привержена к типам юродивого, шута, дурака, арлекина или идиота. И ее девизом является «смех сквозь слезы». У русской литературы – громадный арсенал осознанных и представленных в ней противоречий бытия.
О.Л. Значит, можно назвать поэта человеком, который ставит вопросы и сомневается?
П.Т. Именно русские писатели утверждают, что вопросы и поиски ответов важнее декларативных утверждений. В октябре 1888 г. Чехов писал А.С. Суворину: «Вы смешиваете два понятия: решение вопроса и правильная постановка вопроса. Только второе обязательно для художника». Лев Толстой в 1900 г. записал в своем дневнике: «Художник, для того, чтобы действовать на других, должен быть ищущим ‹…›. Только если он ищет, зритель, слушатель, читатель сливается с ним в поисках». Немецкий философ Карл Ясперс 100 лет назад заметил: «Дальше всех уходит тот, кто не знает, куда он идет». Испокон веков думающий человек, по выражению Сенеки, находится в осаде «бесчисленных вопросов» (innumerabiles quaestiones). Многократный лауреат литературных премий, немецкая писательница Моника Марон заметила: «Собственно, когда я пишу, передо мной только вопросы, и нет никаких ответов» (Sprachnachrichten, 2019, Nr. 82, S. 3).
О.Л. Это не речь ли адвоката релятивизма?
П.Т. В некотором смысле, конечно, да. Релятивизм, т. е. сомнение в абсолютной истине и незыблемости, – это, прежде всего, учет условий, отношений и обстоятельств. Недоверие к абсолютному всегда плодотворно. В начале 1875 г. И.С. Тургенев писал М. Милютиной: «…ни в какие абсолюты и системы не верю». Сущность и видимость, возможность и стремление всегда расходятся. Поэтому ирония вездесуща. Томас Манн в своем знаменитом этюде о Чехове заметил: «Жизненная правда ‹…› по природе своей иронична». У каждого искусства есть своя первопричина для бунтарски-иронического сомнения. Именно эту субверсивную деконструкцию «единственно верного» можно встретить – иногда в открытом тексте, иногда в подтексте – в русской литературной традиции от Пушкина и Гоголя до Гончарова, Тургенева, Лескова, Достоевского, Чехова и Бунина, и далее – вплоть до Белого, Булгакова и Маканина. «Добро, Истина, Красота и Чистота» потеряли свое доминирующее положение самое позднее с эпохи просветительского скептицизма. Гоголь говорил о «пошлости пошлого человека». Гончаров полагал, что «абсолютизм» идеальности не может существовать, поскольку «между действительностью и идеалом лежит бездна» (письмо И.И. Льховскому, ноябрь 1858 г.). Из этого раскола берет свое начало непрекращающийся спор о «нормах жизни» (Гончаров) и карнавальные рецепты ответов на вопросы. В философии экзистенциализма и в русском абсурдизме этот спор достиг своего тревожного апогея.
О.Л. Эти скептические рассуждения не вступают ли в коллизию с тем, что этическая номотетика и религиозная ортодоксия предписывают как заповеди?
П.Т. Да, это область определенного напряжения, которое представляется мне очень плодотворным. Именно русские писатели были или агностиками (атеистами) – Тургенев, Чехов, возможно, Пушкин, или большими скептиками (Достоевский: «я – дитя неверия и сомнения», письмо Н.Д. Фонвизиной, февраль 1854 г.), или отлученными от Церкви как Лев Толстой. Им были известны проблемы теодицеи и споры на тему «Бог умер», начатые Вольтером и продолженные Жан Полем, Д.Ф. Штраусом, Ч. Дарвином вплоть до Шопенгауэра и Ницше. Они знали, что в конечном счете сотворенный Богом мир абсолютно безразличен к человеку (ср. концепт «равнодушной природы»). Начиная с Пушкина и Тургенева вплоть до Чехова – это типично русская тема. Поэтому поиски так называемых ориентационных знаний оказываются важнее, чем назидания фактических знаний и инструкций. Русский XIX век питал до сих пор недооцененную приверженность к Сократу и его так называемой майевтической (родовспомогательной) методике беседы, в ходе которой собеседник сам приходил к искомой мысли. Толстой и Чехов писали об этом.
О.Л. Можно ли вывести отсюда вечный русский вопрос «Что делать?»
П.Т. Да, я вижу здесь известную преемственность. Кроме генетического родства между скептицизмом и склонностью больше задавать вопросы, нежели отвечать на них, есть и определенное типологическое родство. Стремительное развитие России начиная с эпохи Петра I очень рано, о чем писали уже Ломоносов, Карамзин и Гоголь, привело к известному лозунгу «догнать и перегнать» – гораздо раньше, чем это случилось в советскую эпоху с ее девизом «рывка». Россия, как кажется, опровергла древнюю сентенцию «natura non facit saltus» («природа не делает скачков»). Белинский замечал, что Россия «растет не по годам, не по дням, а по часам». Этот форсаж ставил множество вопросов. Публицистика и изящная словесность дружно вопрошали: «Что нужно автору?», «Кто виноват?», «Что такое обломовщина?», «Когда же придет настоящий день?», «Кому на Руси жить хорошо?», «Много ли человеку земли нужно?», «В чем моя вера?» – или от Чернышевского до Ленина: «Что делать?» И в «Легенде о Великом инквизиторе» стоит коренной вопрос: «Но кто виноват?» «Сверхчеловек» противостоит «лишнему человеку», ипостась святого, «смиренный тип» – ипостаси грешника, «хищному типу», кающийся – беспощадному, роковая женщина – хрупкой женщине и т. д. Вряд ли где-нибудь еще найдется подобная эвристика.
О.Л. Не может ли это быть некой формой всеобщей неуверенности перед лицом колеблющейся иерархии ценностей и напластованием громоздящихся в стремительном темпе культурно-исторических эпох, которые несут с собой новые проблемы и новые типы героев?
П.Т. Конечно, тоже да. Но не только это. Уже начиная с греческой Античности существует философски углубленное представление о thaumazein[32 - Букв.: удивление. Термин восходит к преданию, гласящему, что Пифагор, которому задали вопрос о том, к какому выводу он пришел в результате своих размышлений, ответил: «Medеn thaumazein» («Ничему не удивляться»).] – т. е. экзистенциальном удивлении, в том числе и перед самим собой, которое выливается в принципиальную склонность к вопрошанию и сомнению, в надежду и страх, поиски и отчаяние. Удивление – это своего рода делиберативное удержание себя в определенных границах. Это уже не заповедь и тем более не исповедь. Умный Августин Блаженный заметил: «Quaestio mihi factus sum» («Я стал вопросом для самого себя»). Наверно, один из самых знаменитых вопросов, трехчастный вопрос Канта, гласит: «Что я могу знать? Что я должен делать? На что я смею надеяться?» («Критика чистого разума»). Люди ищут, вопрошают и страдают, когда у них нет архимедовой точки опоры. Как мне кажется, Россия вопрошает и страдает совершенно своеобразно. Вплоть до сего дня.
О.Л. Это звучит прямо по Достоевскому. Уже в Евангелии задан вечный вопрос: «Что есть истина?» Разве библейские тексты не дают множества примеров сомнения? Библия была в России в XIX в. настольной книгой.
П.Т. Для меня сомнение – один из смысловых центров библейской мысли. Существует символика «чечевичной похлебки», отчаявшегося Иова, предателя Иуды и отступника Петра. Но самый страшный и мощный вопрос задает Иисус: «Боже Мой, Боже Мой! Для чего Ты меня оставил?» Библия, как и русская литература, учит нас, что мы в любую минуту можем остаться в одиночестве, но не должны отчаиваться. Испытание, искушение и сомнение могут быть преодолены только собственными усилиями и милосердной помощью. Фома неверующий спросил: «И как можем знать путь?», на что Иисус ответил: «Я есмь путь и истина и жизнь» (Ин. 14:5–6). Религия, даже в светском смысле, не что иное, как утешение. И «утешение книг» – это тоже своего рода религия. Кто не ищет и не вопрошает – безразлично, вовне или в глубинах своей души, – тот не найдет ответов. Нигде не найти более дразнящих вопросов и более надежных ответов, чем в русской литературе, несмотря на то или, может быть, благодаря тому, что она знает о самых темных безднах человеческой души и существования. Поэтому-то Томас Манн и назвал русскую литературу «святой».
О.Л. Тем не менее сегодня эта литература очень многим, главным образом молодым людям, кажется устаревшей, скучной или непонятной. Почему так?
П.Т. Это очень болезненный вопрос для всего мира. Все меньше тех, кто серьезно интересуется культурными традициями и классической литературой. Все слабее становится способность получать удовольствие от чтения и даже способность читать. Только в Германии насчитывается около 8 млн функционально безграмотных людей. И это в XXI в.! Нашу жизнь все больше и больше определяет поверхностное рассеяние и суетливость. Скоротечные впечатления и эмоции многим кажутся более важными, чем упорство и готовность к духовным усилиям. Плиний Младший некогда сказал: «Aiunt multum legendum esse, non multa» («Читать надо не многое, но лучшее»). Сегодня все, скорее, наоборот.
О.Л. Как Вы думаете, отчего это?
П.Т. Возможно, это связано с негативной стороной глобализации и влияния средств массовой информации. Мы живем в так называемом многовариантном обществе. Коммунистический манифест отпочковался от потребительского panem et circenses (хлеба и зрелищ). Все более очевидна доминанта визуальности, акустики, перформанса, лихорадочной деятельности и мультикультурности. Провозглашенный еще древними греками идеал paideia[33 - Пайдейя – категория древнегреческой философии, соответствующая современному понятию «образование», определенная модель воспитания; составная часть слов «энциклопедия», «педагогика» и т. д. Развивается в сочинениях Платона и Аристотеля.] все больше вырождается в сторону «педагогики переживания». Истинное же образование требует постоянства и концентрации на сущностном. В обществе, ориентированном на развлечения, утрачивается различие между важным и неважным. Образование – это нечто несравненно большее, чем просто коллекционирование разных компетенций. Оно не удовлетворяется быстрыми успехами. Уже Пушкин жаловался на «жизни мышью беготню». Индустрия культуры ничего общего с культурой не имеет.
О.Л. Фундамент культуры – это язык, родной или иностранный. Наблюдаете ли Вы регресс культурного и языкового сознания?
П.Т. Да, к сожалению. Во всем мире даже родной язык теряет свое былое достоинство. Монополия английского языка обходится нам слишком дорого. Почему даже в России нужно говорить англицизмами, такими как «грант», «ивент», «дизайн», «перформанс», «хэппенинг», «кэшбек», «селфи», «хакер», «ноу-хау» и проч.? Весь их смысл в том, что они суть зеркало свирепствующих во всем мире инфантилизма, нарциссизма и одичания общества – во всех странах. Это, конечно, не лучший аргумент, но мне кажется, что это результат целенаправленной кампании. У частного предприятия Фейсбук 3 млрд пользователей! В цифровом пространстве технологии могут быть очень современными, но они часто облекают вполне архаические смыслы – стадный инстинкт, корпоративную ненависть, безнаказанность анонимности и проч. Это попрание коренной основы демократии – упорядоченного разделения власти.
О.Л. Не значит ли это, что мы должны уделять больше внимания языковому сознанию и любви к чтению?
П.Т. Да, безусловно. Книгочей Тургенев воздал хвалу «великому, могучему, правдивому и свободному русскому языку». Энтузиаст чтения Набоков считал, что только перечитывание может быть творческим чтением. В одном из писем 1873 г. Тургенев заметил: «Je ne lis plus – je relis»[34 - «Я больше не читаю – я перечитываю» (фр.).]. А сегодня романы «Анна Каренина» и «Братья Карамазовы» предлагаются читателям в «сокращенном варианте». В Германии есть издания типа «Достоевский для торопливых». Классику читают мимоходом. Чахнущая способность к чтению – это ужасная утрата культуры. Старая пословица гласит: «Чем больше знаешь языков, тем больше проживаешь жизней».