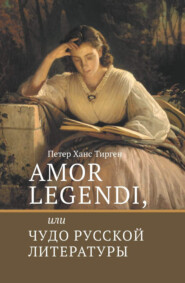скачать книгу бесплатно
К проблеме нигилизма в романе И.С. Тургенева «Отцы и дети»[188 - Пер. Г.А. Тиме.]
До сегодняшнего дня, вопреки историческим данным, во многих публикациях можно прочесть, что Тургенев не только распространил или же «провозгласил» понятие «нигилизм», но и «утвердил», даже «открыл» его. Согласно другим высказываниям, Тургенев первым в России ввел это слово в обращение.
Конечно, подобные утверждения можно возвести к словам самого писателя, который в статье «По поводу “Отцов и детей”» (1869) заявил, что он «выпустил» слово «нигилизм»[189 - Тургенев И.С. Полн. собр. соч. и писем: в 28 т. Соч.: в 15 т. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1967. Т. XVI. С. 105: «Выпущенным мною словом “нигилист” воспользовались тогда многие». Там же, с. 97 о Базарове: «В этом замечательном человеке воплотилось – на мои глаза – то едва народившееся, еще бродившее начало, которое потом получило название нигилизма». Далее ссылки на это издание приводятся в тексте с указанием аббревиатурами: С. – сочинения, П. – письма и номеров тома и страницы в скобках.]. Так, к примеру, Ина Фукс в своей в целом поучительной статье о проблеме нигилизма в «Бесах» Достоевского (1987) пишет: «Сначала это был Тургенев, который в романе “Отцы и дети”, появившемся в 1862 г., впервые употребил это слово, характеризуя героя романа Базарова как нигилиста»[190 - Fuchs I. Die Herausforderung des Nihilismus. Philosophische Analysen zu F.M. Dostojewskijs Werk «Die D?monen». Slavistische Beitr?ge. M?nchen, 1987. Bd. 211. S. 32.]. В.И. Кулешов заключил в 1971 г.: «Слова нигилизм и нигилисты очень многое характеризуют в образе Базарова. Эти термины ввел Тургенев, и во всех словарях он по справедливости считается их изобретателем»[191 - Кулешов В.И. Об одной ситуации в жизни И.С. Тургенева как ближайшем стимуле создания образа Базарова // Проблемы теории и истории литературы. Сб. ст., посвященный памяти проф. А.Н. Соколова. М., 1971. С. 331.]. В «Лексиконе русской истории» 1985 г. значится: «Нигилисты – это термин, который был утвержден Иваном Тургеневым (1818–1883)»[192 - Lexikon der Geschichte Ru?lands. Von den Anf?ngen bis zur Oktober-Revolution / Hg. H.J. Torke. M?nchen, 1985. S. 252.].
Заключения подобного рода наносят двойной вред: с одной стороны, они игнорируют результаты исследований, свидетельствующих об обратном (Алексеев, Чижевский, Козьмин, Батюто)[193 - См. прежде всего: Алексеев M.П. К истории слова «нигилизм» // Сб. ст. в честь академика А.И. Соболевского. Л., 1928. С. 413–417; Tschizewskij D. Zur Vorgeschichte des Wortes «nigilizm» // ZfslPh. 1942. Bd. 18. S. 383–384; Козьмин Б.П. Два слова о слове нигилизм // Козьмин Б.П. Литература и история. Сб. ст. М., 1969. С. 225–237; Козьмин Б.П. Еще о слове нигилизм // Там же. С. 238–242; Батюто А.И. Творчество И.С. Тургенева и критико-эстетическая мысль его времени. Л., 1990. С. 138, 193 (приведенные выдержки частично дополняют более ранние исследования Батюто). См. также: Данилевский Р.Ю. «Нигилизм» (К истории слова после Тургенева) // И.С. Тургенев. Вопросы биографии и творчества. Л., 1990. С. 150–156.], с другой – устраняют закономерный вопрос о том, не связано ли тургеневское понятие нигилизма с более старыми источниками.
А ведь даже беглый экскурс в область соответствующей лексики и тематики демонстрирует, что с конца XVIII в. прежде всего в немецкоязычных странах велась широкая дискуссия, которая базировалась на понятиях теологии, философии и эстетики и в которой кроме собственно термина «нигилизм» употреблялись такие его синонимы, как аннигиляция или нигильянизм[194 - См.: Riedei М. Nihilismus // Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland / Hg. O. Brunner et al. Bd. 4. Stuttgart, 1978. S. 371–411; Historisches W?rterbuch der Philosophie / Hg. J. Ritter, K. Gr?nder. Basel, 1984. Bd. 6. S. 806–836 (s.v. Nichts, Nichtseiendes); S. 846–854 (s.v. Nihilismus); Kohlschmidt W. Nihilismus der Romantik // Kohlschmidt W. Form und Innerlichkeit. Beitr?ge zur Geschichte und Wirkung der deutschen Klassik und Romantik. Bern; M?nchen, 1955. S. 157–176. (Переиздание в: Romantikforschung seit 1945 / Hg. K. Peter. K?nigstein/Ts., 1980. S. 53–66); Hof W. Pessimistisch-nihilistische Str?mungen in der deutschen Literatur vom Sturm und Drang bis zum Jungen Deutschland. T?bingen, 1970; Nihilismus. Die Anf?nge von Jacobi bis Nietzsche / Hg. D. Arendt. K?ln, 1970; Der «poetische Nihilismus» in der Romantik / Hg. D. Arendt. Bde. I–II. T?bingen, 1972; Der Nihilismus als Ph?nomen der Geistesgeshichte… / Hg. D. Arendt. Darmstadt, 1974. (Wege der Forschung. Bd. CCCLX); Denken im Schatten des Nihilismus. FS f?r W. Weischedel / Hg. A. Schwan. Darmstadt, 1975; Weier W. Nihilismus. Geschichte, System, Kritik. Paderborn; M?nchen; Wien; Z?rich, 1980; Der ?bermensch. Eine Diskussion / Hg. E. Benz. Z?rich, 1961; Westlicher und ?stlicher Nihilismus in christlicher Sicht / Hg. E. Benz. Stuttgart, S.a. (Evangelischer Schriftendienst. Heft 3); Kraus W. Nihilismus heute. Wien; Hamburg, 1983; Weischedel W. Der Gott der Philosophen. Grundlegung einer philosophischen Theologie im Zeitalter des Nihilismus. 2 Bd. in einem Band. Darmstadt, 1983 (zuerst 1971/72); Новиков А.И. Нигилизм и нигилисты. Опыт критической характеристики. Л., 1972; Кузнецов Ф.Ф. Нигилисты? Д.И. Писарев и журнал «Русское слово». 2-е изд. М., 1983.]. Этими терминами характеризовались такие разные феномены как атеизм, материализм или даже идеализм. Жан Поль в «Началах эстетики» (Vorschule der ?sthetik, 1804; 2-е изд. 1813) говорит даже о «поэтическом нигилизме» (1 отд., 1 прогр., § 2). Примечательно во всей этой предыстории, что термин везде имеет пейоративное значение.
Абсолютно верно заключение А.И. Батюто: «Итак, вопрос о конкретном подсказчике слова нигилизм Тургеневу неясен»[195 - Батюто А.И. Творчество И.С. Тургенева… С. 194.]. Конкретный источник до сих пор не установлен, так как изучение концентрировалось почти исключительно на относительно скудных фактах внутрирусского бытования этого термина. Такая односторонняя ориентация – довольно рискованное дело при обращении к «европейцу Тургеневу», который считал себя «коренным, неисправимым западником», а Германию – своей «второй родиной» (С., 14, 100; 15, 101)[196 - Ср. также высказывания Тургенева в письмах: я – «европеус»; русские принадлежат к «европейской семье» – «genus Europaeum» (П., V, 67 и 73; в частности, письма к Герцену от ноября 1862 г.).]. В настоящем исследовании мы покажем, что тургеневское понятие «нигилизм» может быть связано не только с русской, но и с немецкой литературой. Возможные источники находим, прежде всего, в острых дискуссиях вокруг Людвига Бюхнера, чье наследие явно играет в романе «Отцы и дети» программную роль.
Людвиг Бюхнер, наряду с Карлом Фогтом и Якобом Молешоттом, принадлежал к наиболее ярким и ведущим представителям мощно распространявшегося материализма середины XIX в. Его главное сочинение «Сила и материя» появилось в 1855 г. во Франкфурте-на-Майне и в короткий срок выдержало множество переизданий, так что даже считалось «библией материализма»[197 - B?cher die die Welt ver?ndern / Hg. J. Carter, P.H. Muir. Darmstadt, 1969. S. 614 и след.]. Среди авторов, наиболее усердно цитируемых Бюхнером, были Молешотт, Фогт, Либих и Вирхов.
Но если Фогт и Молешотт занимались в основном психологией, т. е. «учением о жизни» в ее связях с анатомией, химией и физикой[198 - См.: Rothschuh K.E. Geschichte der Physiologie. Berlin; G?ttingen; Heidelberg, 1953, где приведены многочисленные факты из истории психологии. К вопросу о духовной истории см. также: Ritter von Srbik H. Geist und Geschichte vom deutschen Humanismus bis zur Gegenwart. Bd II. M?nchen; Salzburg, 1951, 2., unver?nderte Aufl. 1964. S. 213 и след. (гл. «Naturalismus und Positivismus»).], то Бюхнер довел свои рассуждения до резких выпадов против спекулятивной философии. Его позицию можно охарактеризовать как радикально материалистическую. Вступление к первому изданию «Силы и материи» автор сопроводил эпиграфом: «Now what I want, is facts» («Все, что мне теперь требуется, это факты»).
Действительно, в жизненном процессе Бюхнер видит только эмпирические «факты» и «механические законы», причем не определенные «идеей творения». Любой «супернатурализм и идеализм» должен быть полностью отклонен, бытие постигается только через «наблюдение», «позитивное знание» и «неопровержимые законы индукции». Эта закономерность, по категорическому утверждению Бюхнера, действительна повсюду и «для всех». В литературе «времена романтизма» безвозвратно миновали, и вера в сверхчувственные явления – «полная бессмыслица». Вечные идеи или абсолютные понятия не существуют, и истинные знания можно получить, только изучая химию и физику. Прославляемая романтиками любовь в основе своей не что иное, как чисто физиологический процесс. Особенное возмущение вызывало заключение Бюхнера о том, что человеческий дух является лишь «продуктом обмена веществ» и каждое живое существо, прежде всего, «химическая лаборатория», поэтому «душа человека и животного в фундаментальном смысле одно и то же»[199 - B?chner L. Kraft und Stoff. Empirisch-naturphilosophische Studien // Allgemeinverst?ndlicher Darstellung, 5. Aufl. Frankfurt/M., 1858. S. 156 и 206. (Курсив оригинала. – П. Т.) См. об этом подробно: Thiergen P. Nachwort // Turgenjew I. V?ter und S?hne. Stuttgart: Recalm jun., 1989. Universal-bibliothek. Nr. 718. S. 296–299.]. Разумеется, Бюхнер склонялся к спорному изречению Молешотта: «Без фосфора нет мысли»[200 - B?chner L. Kraft und Stoff. S. 125. Ср. также высказывания в предисловии к 4-му немецкому изд. «Силы и материи». 9. Aufl. Leipzig, 1867. S. LIX и след.].
Венчает эти теории восторженная вера в познаваемость, закономерность и тем самым прогнозируемость всей человеческой жизни. Новые материалисты были убеждены в необходимости обладать истинными знаниями и шествовать во главе прогресса. Совершенно иначе, нежели Шопенгауэр и пессимистическая философия, проповедовали они оптимизм здешнего, земного мира. Якоб Молешотт писал в своей популярной в то время книге «Цикл жизни» («Kreislauf des Lebens»): «Со всеми ее несчастьями земля была и остается раем»[201 - Moleschott J. Der Kreislauf des Lebens. Physiologische Antworten auf Liebig’s Chemische Briefe. 2. Aufl. Mainz, 1855. S. 451. (Здесь и далее перевод цитат мой. В дальнейшем наиболее значительные по содержанию и объему цитаты из труднодоступных источников приводятся в немецком оригинале в соответствующих примечаниях. – Примеч. пер.)].
Очевидно, что наступление материализма на идеалистическую философию вело к полному отстранению от метафизики и тем самым провоцировало сомнение в правомерности как этического, так и эмоционально-психологического измерения человека. Снижение жизненных процессов до причинно-механических и по существу физико-химических реакций навлекло на Бюхнера и его соратников упрек в вульгарном материализме. Почитаемый Тургеневым Шопенгауэр также излил свою иронию на Бюхнера и его приверженцев, насмехаясь над ними как над невежественными «гуляками-цирюльниками», которые вышли из «химических трактиров», и добавляя, что «чистая химия годится для аптекаря, но не для философа»[202 - Schopenhauer A. S?mtliche Werke / Hg. W. Frhr. von L?hneysen. Bd. V. Darmstadt, 1968. S. 71. См. также антиматериалистические сочинения пропагандиста Шопенгауэра Юлиуса Фрауенштедта, например: Frauenst?dt J. Der Materialismus. Seine Wahrheit und sein Irrthum. Eine Erwiderung auf Dr. Luis Buchner’s «Kraft und Stoff». Leipzig, 1856. Тургенев познакомился с работами Фрауенштедта уже в 1840 г., ср.: П., XIII (2), 188, 453.].
Коротко обратимся к неоднозначному отклику, который нашли взгляды Бюхнера в России. Дискуссия начинается после 1855 г., во время реформенной эйфории и в ходе переориентации на позитивизм и естественные науки. Разность суждений издавна проводила разделительную черту между поколениями отцов и детей. По логике вещей, именно русские левые заинтересовались Бюхнером и рукоплескали ему. В особенности пропагандировали Бюхнера и вульгарный материализм сотрудники радикального журнала «Русское слово», в том числе пользовавшийся большим влиянием Писарев. Здесь они могли обратиться и к Людвигу Фейербаху, который в 1850 г. объявил в рецензии на труд Молешотта: естественные науки восторжествуют в конце концов над туманом христианства. Не случайно и Л.Н. Толстой в своей статье «Воспитание и образование» 1862 г. сетовал на то, что основное занятие русских студентов состоит в чтении «запрещенных» авторов – таких как Фейербах, Молешотт или Бюхнер[203 - Ср. немецкий текст, относящийся к сочинению Бюхнера (Op. cit. S. 49): Erziehung und Bildung // Tolstoj Leo N. Ausgew?hlte p?dagogische Schriften. Besorgt von Theodor Rutt. Paderborn, 1960. S. 28–63. См. также сообщение в воспоминаниях Б.Н. Чичерина о том, что «произведения Фейербаха, Бюхнера, Молешотта и всевозможные социалистические издания» в оригинале или в переводах «ходили беспрепятственно из рук в руки» в русских университетах. Цит. по: Революционная ситуация в России в середине XIX века / под ред. акад. М.В. Нечкиной. М., 1978. С. 64.]. П.Д. Боборыкин в бытность студентом в Дерпте тоже, как он позднее выразился, увлекся «немецким свободомыслием», прочел бюхнеровскую «Силу и материю», а также «Цикл жизни» Молешотта; вместе с В.И. Бакстом он перевел на русский язык работу нидерландского физиолога Франца Корнелиса Дондерса (1818–1889)[204 - Ср.: Боборыкин П.Д. Воспоминания: в 2 т. М., 1965. Т. 1. С. 273; Т. 2. С. 106, 436. Перевод появился в 1860 г. в Петербурге под названием «Физиология человека» (см.: Т. 2. С. 553). По поводу Дондерса см.: Rothschuh К.Е. Op. cit. S. 213 (а также в сноске 39 данной статьи).].
Совершенно иной была реакция официозной и консервативной сторон. Когда в 1860 г. впервые появилась книга Бюхнера «Сила и материя» в русском переводе, она была тотчас же запрещена на том основании, что содержит «экстремистское материалистическое и социалистическое учение». Уже годом ранее авторитетный в России «Философский лексикон» издательства Глазунова в Петербурге охарактеризовал Бюхнера как «представителя новейшего материализма», чье творчество хотя и широко распространено, но вместе с тем «исключительно поверхностно» и ненаучно. Аналогичные высказывания можно было прочесть и в русских журналах либерального и правого лагеря, упрекавших Бюхнера в низведении человека до «безжизненного скелета»[205 - Ср.: Философский лексикон. 2-е изд. СПб., 1859. Т. 1. С. 429. А также дополнительные материалы в: Thiergen P. Nachwort. S. 298.].
Таким образом, можно констатировать, что Людвиг Бюхнер еще задолго до появления «Отцов и детей» занимал прочное место в научных и политических спорах России и даже был их возбудителем. Он принадлежал к актуальной «жизненной реальности» Тургенева. Уже в 1857 г. критик Василий Боткин обратил его внимание на Бюхнера. В этот период Тургенев вел острые дискуссии с материалистическим учением Чернышевского, которое в 1855 г. было охарактеризовано им как «ложное, вредное», даже «мерзкое»[206 - Тургенев И.С. С., VIII, 614; П., II, 287 («мерзость и наглость неслыханная»); 293 («поганая мертвечина»); 296, 301.]. И до конца жизни Тургенев остается верен неприятию радикального материализма. В 1860 г. он назвал физиолога Карла Фогта expressis verbis (внятно, недвусмысленно) «гнусным материалистом» (П., IV, 83).
Попытаемся же, исходя из Бюхнера, дать интерпретацию романа «Отцы и дети» с его центральным героем Базаровым. Я намереваюсь продемонстрировать, что под крушением Базарова Тургенев подразумевал наглядное опровержение вульгарного материализма и нигилизма. Начало действия романа «Отцы и дети» обозначено точно: 20 мая 1859 г., что указывает на его злободневность. Сам Базаров, по словам Тургенева, «действительно герой нашего времени» и «выраженье новейшей нашей современности» (П., IV; 302–303).
* * *
В десятой главе Базаров и Аркадий Кирсанов как представители современного поколения «детей» ведут следующий разговор об отце Аркадия, представляющем старое поколение:
Третьего дня, я смотрю, он Пушкина читает, – продолжал между тем Базаров. – Растолкуй ему, пожалуйста, что это никуда не годится… И охота же быть романтиком в нынешнее время! Дай ему что-нибудь дельное почитать. – Что бы ему дать? – спросил Аркадий. – Да я думаю, Бюхнерово «Stoff und Kraft» на первый случай. – Я сам так думаю, – заметил одобрительно Аркадий, – «Stoff und Kraft» написано популярным языком… (С., VIII, 238–239)[207 - К проблеме варьирования заглавия «Сила и материя» и «Материя и сила» см.: Thiergen P. Nachwort. S. 258.].
В тот же день Николай Петрович получает «пресловутую брошюру» Бюхнера, причем в немецком издании (С., VIII, 239)[208 - Значение слова «пресловутый» явно претерпело некоторые изменения. В качестве немецкого эквивалента «Немецко-русский словарь» И.Я. Павловского дает лишь: hochber?hmt, r?hmlich, bekannt (в высшей степени известный, прославленный); современный «Русско-немецкий словарь», напротив, переводит это понятие как ber?chtigt или же sattsam bekannt (Bielfeldt, Leping и др.). В тургеневское время в семантике понятия явно преобладали одобрительные оттенки. В одной из дискуссий Николай Жекулин (Калгари) обратил мое внимание на то, что «дети» действительно должны были иметь брошюру Бюхнера при себе, иначе они не смогли бы так быстро передать ее Николаю Петровичу Кирсанову. Судя по этому, «Сила и материя» была для Базарова поистине «карманной книгой».]. Он сразу же комментирует прочитанное: «Либо я глуп, либо это все – вздор. Должно быть, я глуп» (240). Дальнейшее действие романа выносит свой вердикт: это «вздор».
Когда Базаров дает совет поколению «отцов» читать вместо Пушкина Бюхнера, то выражает тем самым свое материалистическое мировоззрение. Подобно Бюхнеру, Базаров – студент-медик, чьи основные интересы отданы физике. Он называет себя «физиологом» и считает предшествующих немецких натуралистов своими «учителями». Когда же его антагонист Павел Петрович Кирсанов пренебрежительно отзывается обо всех этих «химиках и материалистах», Базаров возражает изречением, которое стало знаменитым: «Порядочный химик в двадцать раз полезнее всякого поэта» (С., VIII, 219). Базаров отрицает не только искусство и идеалистическую философию, но и вообще все «загадочное» и «романтическое», все индивидуальное и эмоциональное. В «таинственные отношения» любви он не верит, о женщинах отзывается пренебрежительно. Природа для него лишь «мастерская», и, как и полагается физиологам, скальпель и микроскоп становятся символами его деятельности. Он режет лягушек, так как считает, что в конечном счете человек «та же лягушка» (С., VIII, 212). Он пользуется индуктивным методом, который позволяет утверждать, что знания одного «человеческого экземпляра» достаточно для суждения обо всех людях.
Наконец, когда Базаров провозглашает, что полагается на факты, а не на авторитеты, то он повторяет общее место тогдашних материалистов. Карл Фогт писал во вступлении к своим «Физиологическим письмам»: «Авторитеты не имеют больше того веса, что прежде; факт приобретает значение не потому, что он открыт тем или иным исследователем, но потому, что действительно существует»[209 - Vogt C. Physiologische Briefe f?r Gebildete aller St?nde. 2., vermehrte u. verbesserte Aufl. Gie?en, 1854. S. II: «Die Autorit?ten haben nicht mehr Gewicht wie fr?her; eine Thatsache gilt heut zu Tage nicht demnach, weil sie von diesem oder jenem Forscher ist aufgefunden worden, sondern darum weil sie wahr ist».]. С той же определенностью и Бюхнер высказывается о естественных науках, которым, слава Богу, чужды «любого рода веры в авторитеты» и которые, наконец, принуждают мысль подняться до действительности из «туманных и бесплодных религий спекулятивных мечтаний»[210 - B?chner L. Kraft und Stoff. 5. Aufl. S. X. (Из предисловия к 3-му изд. 1855 г.). В России проводниками «отрицания авторитетов» были среди прочих Чернышевский и Писарев. Ср.: Шаталов С.Е. Роман Тургенева «Отцы и дети» в литературно-общественном движении // Литературные произведения в движении эпох. М., 1979. С. 91. См. также: Тургенев. П., IV, 356.].
Отсюда можно заключить следующее: если собрать разрозненные высказывания Базарова в одно теоретическое целое, то получится явный концентрат вульгарно-материалистического учения. Эти соответствия касаются не только отдельных мыслей и концепции в целом – их можно проследить вплоть до словесных формулировок. Базаровское понимание мира, как и его понимание Бюхнером, Фогтом и Молешоттом, причинно-механистично, утилитарно и чисто функционально.
Правда, мы тотчас должны сделать существенную оговорку. Этот вывод касается лишь первой половины романа – только до его середины можно рассматривать Базарова как крайне радикального вульгарного материалиста. Все до сих пор цитированные изречения и поучения Базарова взяты из первых 16 глав произведения. Вторая его половина, напротив, согласуется с авторским намерением поставить под сомнение и, наконец, отклонить материалистическое понимание мира.
Такая перемена является следствием встречи Базарова с Анной Одинцовой, вторжения страсти в жизнь героя. Власть эмоционального и случайного перечеркивает его надменную самоуверенность, которая отрицала все романтическое и загадочное и желала бы свести любовное переживание к простому физиологическому процессу. В конце концов Базаров приходит к мнению, что каждый человек все-таки «загадка», что и в нем, Базарове, прячется «романтик» (гл. 17). С типологической точки зрения можно заключить: в базаровской картине мира теория Бюхнера сменяется философией Шопенгауэра.
Во второй части романа Базаров, несмотря на свое крушение, обретает известное величие. Уже сама способность к пересмотру ошибочных суждений выделяет его. Это ни в коей мере не второй Бюхнер, но искатель правды, который из самоуверенного зачинщика споров и конфликтов превращается в злобного скептика и, наконец, в смертельной борьбе – почти в мученика.
И конечно же, не случайно Тургенев обращается в связи с этим к образу поверженного гиганта. Когда в главе 27 Анна Одинцова в последний раз посещает умирающего Базарова, он говорит о себе следующим образом:
Вы посмотрите, что за безобразное зрелище: червяк полураздавленный, а еще топорщится. И ведь тоже думал: обломаю дел много, не умру, куда! задача есть, ведь я гигант! А теперь вся задача гиганта – как бы умереть прилично… (С., VIII, 396).
Подобно мифическому гиганту, Базаров сначала – борец против авторитетов и порядка и одновременно искатель знания, потом, в своей пошатнувшейся самоуверенности, – все-таки преступник, чья вина требует исправления и наказания.
В перспективе Базаров становится идолом для различных героев романа, что соответствует мифической стилизации его образа. Отец «обожествляет» его (гл. 21), другие молятся на него. В главе 19 Аркадий думает про себя над его словами: «Мы, стало быть, с тобой боги? то есть – ты бог, а олух уж не я ли?» (С., VIII, 304)[211 - Диалог героев звучит следующим образом: «Эге, ге!.. – подумал про себя Аркадий, и тут только открылась ему вся бездонная пропасть базаровского самолюбия. – Мы, стало быть, с тобой боги? то есть ты бог, а олух уж не я ли? – Да, – повторил угрюмо Базаров, – ты еще глуп».]. Судьба Базарова – это история высокомерия, которое приходит к падению. То обстоятельство, что крах происходит в момент, когда надменная самоуверенность героя начинает колебаться, означает трагический перелом.
С образом поверженного гиганта связаны особые ассоциации. Материалисты из окружения Бюхнера стремились изобразить свою полемику со спекулятивными науками как борьбу, которая ведется настоящими гигантами. Сочинения Людвига Фейербаха выразительно превозносились в качестве «Геркулесова деяния», а Бюхнер восхвалял своих коллег Фогга и Молешотта как «героев науки»[212 - Moleschott J. Der Kreislauf des Lebens. S. 373; B?chner L. Kraft und Stoff. 5. Aufl. S. XLIII. (Из предисловия к 4-му изд.).].
Противники материалистов не задержались с ответом. В 1855 г. критик и писатель Карл Гуцков заклеймил Бюхнера и его соратников ироническим определением «титанизм силы и материи», которое сразу же было подхвачено и пущено в оборот. Его распространению способствовал и сам Бюхнер, вступивший в предисловии к третьему изданию «Силы и материи» в подробную полемику с этой насмешливой формулировкой[213 - См.: Ibid. S. XVIII и след., LV и след.]. Годом позднее, в 1856 г., в Гисене появилась еще одна полемическая работа, направленная против Бюхнера, под названием «Новейшее обожествление материи». Ее автор, врач и натуралист Август Вебер, начал предисловие к своему труду следующими словами: «Мнимые успехи естественных наук служат некоторым новым писателям, “титанам силы и материи”, как их метко назвал Гуцков, основанием для провозглашения царства грубейшего материализма; перед их фанатичным неистовством беззащитно все идеальное в природе и человеческой жизни, даже сам Бог…»[214 - Weber A. Die neueste Verg?tterung des Stoffs. Ein Blick in das Leben der Natur und des Geistes, f?r denkende Leser. Gie?en, 1856. S. III: «Angebliche Fortschritte der Naturwissenschaft dienen einigen neueren Schriftstellern, den “Kraft-und Stoff-Titanen”, wie sie Gutzkow so treffend genannt hat, zum Vorwande, ein System des krassesten Materialismus zu verk?ndigen, vor dessen fanatischem Ungest?m aller ideale In-und Gehalt der Natur und des Menschenlebens, ja Gott selber nicht mehr Gnade findet». Август Вебер (1804–1857) был родом из Рейхельсхайма в Оденвальде, изучал в Гисене медицину и работал позднее в различных мелких гессенских городках физиотерапевтом. (За эти данные я приношу благодарность Гессенскому Государственному архиву в Дармштадте.)].
Вебер называет физиологов не иначе как «героями материи» или же «титанами силы и материи», чьи произведения – «уродливое порождение обезумевшего рассудка» – содержат чудовищные заблуждения[215 - Weber A. Die neueste Verg?tterung des Stoffs… S. VI, VIII.].
Таким образом, когда Тургенев изображает своего Базарова поверженным гигантом, он обращается к метафорическим средствам, которые уже получили распространение в немецких дискуссиях. Так как Тургенев с 1856 г. часто бывал в Германии и демонстрировал повышенный интерес к спорам вокруг материализма, можно предположить, что он знал выражение «титаны силы и материи». Это тем более вероятно, что произведение Августа Вебера вскоре получило освещение в уже упомянутом «Философском лексиконе» издательства Глазунова[216 - Философский лексикон. Т. 1. С. 439. В конце статьи «Bjuchner» (L. B?chner) указание «см. еще А. Вебер». Там же. С. 429: свидетельство того, что и такие публицисты, как Вебер, не остались в России без внимания. В связи с формулировкой «Kraft und Stoff» ср. также первоначальный эпиграф к «Отцам и детям» (об этом см.: Thiergen P. Nachwort. S. 249).]. Сам Бюхнер в предисловии к четвертому изданию «Силы и материи» (1856) разразился резкой тирадой против Вебера, чем невольно способствовал известности его сочинения[217 - Ср.: B?chner L. Kraft und Stoff. 9. Aufl. Leipzig, 1867. S. LXV и след.].
Однако обратимся непосредственно к проблеме нигилизма. Его наиболее часто цитируемое определение в главе 5 «Отцов и детей» гласит:
Нигилист – это человек, который не склоняется ни перед какими авторитетами, который не принимает ни одного принципа на веру, каким бы уважением ни был окружен этот принцип (С., VIII, 216).
Подобное сомнение в принципах и авторитетах понималось русской критикой и как полный отказ от любой традиционной иерархии ценностей. Тем более что Базаров признает безусловное отрицание как разрушение и категорически отрицает созидательную работу нигилистов (гл. 10). На упрек Николая Петровича: нельзя только «отрицать», нужно и строить, – он возражает: «Это уже не наше дело… Сперва нужно место расчистить» (С., VIII, 243).
К 1860 г. понятие «нигилизм» в России уже вошло в частое употребление (Жуковский, Надеждин, Пушкин, Белинский, Катков, Берви и др.)[218 - Особую ценность приобретает статья Н.И. Надеждина «Сонмище нигилистов» (1829), опубликованная им в «Вестнике Европы» в связи с резкими нападками на Пушкина и на русских байронистов («псевдоромантический деспотизм», «мрак ничто»). На этот текст ссылались потом среди прочих и Пушкин (его ответ был опубликован лишь в 1857 г. Ср.: Пушкин A.C. Полн. собр. соч.: в 10 т. М., 1958. Т. VII. С. 151, 680), и Чернышевский (см.: Батюто А.И. Творчество И.С. Тургенева… С. 194).]. Однако подробная история этого понятия и его рецепции отсутствует. В ней, наряду с названными авторами, особенную роль играл Добролюбов. Уже в 1858 г. в рецензии для «Современника» он не только пропагандирует эмпирические естественные науки вместо традиционных спекулятивных теорий, но и видит заслугу молодого поколения в том, чтобы не признавать «устаревших авторитетов» и вместо них читать таких авторов, как Фогт или Молешотт. По Добролюбову, это и есть новое достижение «скептиков», или же «нигилистов»[219 - Добролюбов H.A. Собр. соч.: в 9 т. М.; Л., 1962. Т. 2. С. 328. Добролюбов перенимает термин «нигилисты», вероятно, из рецензированной им брошюры В. Берви «Физиологическо-психологический сравнительный взгляд на начало и конец жизни» (Казань, 1858). В ней на с. 14 Берви пишет: «Позволяю себе думать, что эти нигилисты, будучи укушены собакой в ногу или порезавши себе палец, не примут боль, от этого происходящую, за призрак, а станут прибегать к вещественным средствам, чтобы избавиться от боли». Базаров заражается тифом, порезав себе палец. (Ср. его диалог с отцом в главе 27: «Нужно ‹…› ранку прижечь ‹…› Вот тут, на пальце ‹…› порезался». С. 8, 386.)].
Здесь следует вспомнить, что прежде всего выступления Добролюбова побудили Тургенева в 1860 г. к демонстративному разрыву с редакцией «Современника». Несмотря на попытки достичь какого-либо взаимопонимания, умеренный либерал Тургенев не мог согласиться с сугубо материалистической прогрессистской ориентацией Добролюбова и Чернышевского. Вскоре после этого разрыва в том же году Тургенев сделал первые наброски к роману «Отцы и дети».
Большой важностью для нашей темы обладает то обстоятельство, что Тургенев уже в самых первых черновых планах, относящихся к августу-октябрю 1860 г., с полной определенностью характеризует своего героя как натуралиста, а также «нигилиста» и «бесплоднейшего субъекта» без всякого энтузиазма и веры; кроме того, писатель в довершение указывает – одним из прототипов Базарова является Добролюбов[220 - Ср. замечание Патрика Ваддингтона: Waddington P. Turgenev’s sketches for Ottsy i deti (Fathers and Sons) // New Zealand Slavonic Journal. 1984. P. 66 и след. В связи с употребленной здесь характеристикой «бесплоднейший субъект» (p. 57) ср. также: Тургенев И.С. П., IV, 303 («пуст и бесплоден»).]. Аркадий же, друг Базарова, назван лишь «прогрессистом», а Одинцова получает ярлык «еmancipеe», эмансипированной женщины. Не менее показательно и то, что уже в черновых набросках «дети» рекомендуют читать вместо произведений Пушкина «Силу и материю» Бюхнера![221 - См.: Waddington P. Op. cit. P. 68, 71. Несмотря на многочисленные запросы, мне не удалось ознакомиться с хранящейся в Пушкинском доме в Петербурге рукописью «Отцов и детей». Текст ее уже потому чрезвычайно важен, что, по словам самого Тургенева, именно спор между Павлом Петровичем Кирсановым и Базаровым «совсем переделан и сокращен» (П., IV, 302).] Таким образом, очевидно – Тургенев и в самом начале работы над романом имел намерение связать нигилизм с вульгарным материализмом и обозначить оба направления как ложные.
Здесь представляется возможность подкрепить нашу аргументацию. Собственно говоря, исследователи обычно не обращали внимания на бросающиеся в глаза соответствия между тургеневской критикой нигилизма и немецкими дебатами вокруг «Молодой Германии» предмартовского периода и позднее вокруг Людвига Бюхнера в особенности. Так, уже упомянутый Карл Гуцков опубликовал в 1853 г. повесть под названием «Нигилисты», герой которой описывается как получивший естественно-научное образование скептик и демонический «ироник», поставивший, как там говорится, «свое дело на ничто». Его подруга, героиня романа, приверженка Фейербаха и проповедница эмансипации, постепенно приходит к выводу, что отречение, чувство долга и любовь важнее, нежели «свободное самоопределение». В предпоследней главе она признается: «Теперь я знаю его прекрасно, – это чванство нигилизма!»[222 - Gutzkows Werke. Auswahl in zw?lf Teilen. V Teil. Berlin; Leipzig; Wien; Stuttgart, s.a. S. 252. Тургенев знал имя Гуцкова с 1840-х годов. Ср.: П., I, 273, а также X, 120. Первое обращение к Гуцкову: Dobert Eitel W. Karl Gutzkow und seine Zeit. Bern; M?nchen, 1968.]. Согласно авторской концепции, роман Гуцкова – это опровержение материалистического и нигилистического жизненного выбора. Как мы видим, уже за 10 лет до появления романа «Отцы и дети» и сам термин, и содержание понятия «нигилизм» стали предметом рефлексии в художественной литературе. Так как Тургенев еще с 1840-х годов неоднократно обращался к Гуцкову, можно предположить, что роман «Нигилисты» не остался ему неизвестным[223 - Это предполагает и Чижевский: Tschizewskij D. Zur Vorgeschichte des Wortes «nigilizm». S. 384.], хотя, насколько я знаю, русский писатель нигде не упоминает об этом произведении. (Подробное изучение вопроса о Тургеневе и Гуцкове предполагается в другом исследовании.)
И еще одно, вероятно, самое значительное обстоятельство: в полемических сочинениях, направленных против «Силы и материи» Бюхнера, буквально дословно повторяются упреки в нигилизме. Уже цитированный Вебер сводит все учение так называемых титанов силы и материи к «евангелию грубейшего материализма», который проистекает не только из «интеллектуального», но и из «религиозного и морального нигилизма»[224 - Weber A. Die neueste Verg?tterung des Stoffs… S. 229 и след., 238, 240. (Курсив мой. – П. Т.)]. Уже в предисловии к своему сочинению Вебер говорит о «нравственном нигилизме некоторых незрелых умов»[225 - Ibid. S. XIII. (Курсив мой. – П. Т.)] и далее даже клеймит «нигилизм душевной силы». В противовес этому Вебер вступается за созидательную веру и «метафизический принцип» идеализма, к которому он причисляет бессознательное и страдание.
Упреки в нигилизме в адрес Фогта, Молешотта и Бюхнера находим также у других авторов 1850-х годов. Так, Вильгельм Шульц-Бодмер в 1856 г. насмехается над излюбленным у физиологов занятием – препарированием лягушек, обрушивается на «физиологических пророков современной лягушечьей морали» и на «нигилизм» вообще, констатируя: «Материализм и нигилизм ‹…› должны постоянно производить друг друга»[226 - Schulz-Bodmer W. Der Froschm?usekrieg zwischen den Pedanten des Glaubens und Unglaubens. Mit einer Zueignung an Professor Carl Vogt. Leipzig, 1856. S. 47 и след., 118 и след. Нечто подобное было известно и в России: ср. среди прочего пародийную поэму «Война мышей и лягушек» В.А. Жуковского, появившуюся в журнале «Европеец» за 1832 г. (Жуковский В.А. Сочинения: в 3 т. М., 1980. Т. III. С. 29, 557). Пародийный потенциал этого материала был известен Тургеневу.].
Итак, когда Тургенев сочетает своего препарирующего лягушек и читающего Бюхнера героя с образом гиганта и понятием нигилизма, он переносит в Россию определенный образ мыслей, который уже сформировался в дискуссиях вокруг «Молодой Германии» и Людвига Бюхнера. Более чем очевидно, что такой образ мыслей был ему знаком. Сюда добавляются и аналогичные русские споры, также, вероятно, имеющие немецкие истоки. Таким образом, нам приходится проститься с представлением о том, что Тургенев первым упрекнул вульгарных материалистов в нигилизме! Новое в романе «Отцы и дети» в большей степени заключается в том, что материалисты сами называют себя «нигилистами» и воспринимают эту самохарактеристику как похвальное и почетное звание.
Идентификация или по крайней мере соотнесение вульгарного материализма и нигилизма после «Отцов и детей» стали на повестку дня русской критики. В апреле 1862 г. Герцен после первого прочтения романа тотчас же предположил, что тургеневское негативное изображение Базарова связано с Бюхнером и его «Силой и материей»[227 - Ср.: Герцен А.И. Собр. соч.: в 30 т. М., 1963. Т. XXVII. Кн. 1. С. 217; Т. XXX. Кн. 2. С. 883. Заключение Герцена конца 1860 г.: «Книги Бюхнера, Молешотта и Фохта читаются русскою молодежью с жадностью. Все эти писатели – ученики Фейербаха, первого мыслителя нашей эпохи…» Признаки скрытой полемики с Герценом в «Отцах и детях», насколько мне известно, слишком мало обращали на себя внимание исследователей. Сочинение Герцена «С того берега» (1850–1855) в обращении «К сыну моему Александру» содержит примечательное высказывание: «Мы не строим, мы ломаем» (VI, 7). В спорах тургеневских «отцов» и «детей» эти слова снова возникают как ключевые. Николай Петрович Кирсанов раздумчиво замечает: «Вы все отрицаете… вы все разрушаете… Да ведь надобно же и строить» (С. 8, 243), на что Аркадий отвечает: «Мы ломаем, потому что мы сила» (С. 246). По поводу лейтмотивного употребления слова «ломать» в «Отцах и детях» см.: Thiergen P. Nachwort. S. 301.]. В статье конца 1860-х годов «Еще раз Базаров», которая в значительной мере посвящена проблеме русского нигилизма, он, ссылаясь на определение Д.И. Писарева «базаровщина», говорит о «болезни нашего времени»[228 - Герцен А.И. Указ. соч. Т. XX. Кн. 1. С. 335. Ср.: Писарев Д.И. Сочинения: в 4 т. М., 1955. Т. 2. С. 11. Повторяющиеся высказывания Писарева о Бюхнере см.: Т. 1. С. 283; Т. 2. С. 27; Т. 3. С. 34, 130 и др. О восприятии Писаревым Бюхнера ср.: Плоткин Л.А. Писарев и литературно-общественное движение шестидесятых годов. М.; Л., 1945. С. 218; Плоткин Л.А. О русской литературе. Л., 1986. С. 189.]. Издатель «Русского вестника» М.Н. Катков видит в Базарове разрушительную силу «отрицания для отрицания», воспитанного материалистами типа Фогта, Молешотта или Бюхнера[229 - Ср., прежде всего, статью М.Н. Каткова «О нашем нигилизме. По поводу романа Тургенева» (1862). См. также: Thiergen Р. Wilhelm Heinrich Riehl in Russland (1856–1886) // Studien zur russischen Publizistik und Geistesgeschichte der zweiten H?lfte des 19. Jahrhunderts. Giessen, 1978. (Bausteine zur Geschichte der Literatur bei den Slawen. Bd. 11). S. 142 и след.]. Славянофил Иван Аксаков с определенностью характеризует русский нигилизм как «бюхнеровщину»[230 - Ibid. S. 162.]. Позднее Достоевский в романе «Бесы» также связывает русских нигилистов с Бюхнером (ч. II, гл. 6, абз. 2; ч. III, гл. 1, абз. 4 и др.).
* * *
Коротко подведем итоги и свяжем их с некоторыми указаниями на предстоящие исследовательские задачи.
В романе Тургенева «Отцы и дети» следует видеть не только источник специфических споров о нигилизме после 1862 г., но и возвращение к определенным немецким дебатам 1840-х и, прежде всего, 1850-х годов. Отсюда вытекает и необходимость учитывать дискуссии, которые велись «Молодой Германией» вокруг проблемы поколений. Вместе с тем нужно учесть и русские материалы, на что обратил внимание в своей последней книге А.И. Батюто[231 - Батюто А.И. Творчество И.С. Тургенева… Прежде всего, это взгляд на мнения Надеждина, Белинского, Чернышевского и Добролюбова.]. К сложностям в разграничении рецепции и антиципации, конечно, следует подходить с осторожностью, однако они не должны устранять саму возможность новой постановки вопроса. Необходимо основательное изучение влияния вульгарных материалистов (и Дарвина) в России, где одинаково важны вопросы как эвидентной, так и латентной рецепции.
Кроме того, нужно принять во внимание, что тургеневское понятие нигилизма не является в первую очередь революционно-политическим, но обладает также познавательным философско-теоретическим импульсом[232 - Сосредоточенность на политической «взрывной» силе русского понятия «нигилизм» хотя и широко распространена, однако явно недостаточна. Формулировки вроде «Нигилизм – явление с крайними революционными убеждениями и выводами» (Краснов Г.В., Викторович В.А. Нигилист на рубеже 60-х годов как социальный и литературный тип // Революционная ситуация в России в середине XIX века: деятели и историки. М., 1986. С. 33) слишком односторонне освещают замысел Тургенева.]. Это отвечает стремлению Тургенева не быть политическим писателем, но тем не менее отражать «жизненную реальность своего времени». Не подлежит никакому сомнению, что Бюхнер и вульгарный материализм в 1850–1860-е годы как в Германии, так и в России оставили в этой реальности заметный отпечаток[233 - В том, что роман «Отцы и дети» подхватил актуальную «немецкую» тему, находим подтверждение высказыванию Томаса Манна: Тургенев «по своему духовному воспитанию был немец». Цит. по: Wenzel G. Ivan Sergeevic Turgenev in Aufzeichnungen Thomas Manns // Zeitschrift f?r Slawistik. 28. 1983. S. 889–914; цит.: S. 901.].
Aliis in serviendo consumor («Светя другим, сгораю сам»): эмблематическая символика и образный язык в романе И.С. Тургенева «Рудин»[234 - Пер. К.А. Ефименко, О.Б. Лебедевой.]
Предлагаемая статья выросла из размышлений о признании Тургенева, сделанном в «Предисловии [к собранию романов в издании 1880 г.]» (1879): «В деле искусства вопрос: как? – важнее вопроса: что?»[235 - Тургенев И.С. Полн. собр. соч. и писем: в 28 т. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1960–1968. Соч. Т. 12. С. 310. Далее тексты Тургенева приводятся по этому изданию с указанием аббревиатурами: С. – сочинения, П. – письма и номеров тома и страницы в скобках.Возможно, этой формулой Тургенев обязан трагедии Гёте «Фауст». Во второй части трагедии (действие II, сцена «Лаборатория в средневековом стиле») Гомункул дает следующую рекомендацию Вагнеру: «Обдумай “что”, реши задачу эту; // Вопросу “как” вниманья посвяти // Побольше…» (Гёте И.В. Фауст / пер. Н.А. Холодковского. СПб.: Азбука, 2000. С. 312). Ср. в оригинале: «Das was bedenke, mehr bedenke wie» («Обдумай, что, но как обдумай лучше»). В русском переводе статьи Р. Штайнера «Гёте как отец новой эстетики. По поводу второго издания» переводчик И.И. Маханьков цитирует этот стих в еще более близком переводе, возможно, его собственном: «Обдумай “что?”, но пуще думай “как?”» (Methodische Grundlagen der Antroposophie. Nr. 30. Методические основы антропософии (1884–1901). Сб. ст. по философии, естествознанию, эстетике и психологии). [Электронный ресурс]. URL: http://bdn-steiner.ru/modules.php?name=Ga_Book& Id=030&Bid=1. – Примеч. пер.], на которое до сих пор исследователи не обращали серьезного внимания. Можно сказать, что значительные успехи в изучении художественной техники Тургенева достигнуты лишь в области представлений о самых очевидных и наиболее доступных восприятию уровнях поэтики его произведений: прежде всего это словоупотребление, поэтика сравнений и природоописаний, характерология и типология художественной образности. Более скрытые, но особенно насыщенные смыслами структуры, такие как внутренняя архитектоника или символический потенциал образного языка, часто оставались вне поля зрения литературоведов, хотя сам Тургенев подчеркивал их важность.
Представляется, что ответственность за это пренебрежение в основном несет априорная уверенность в принадлежности творчества Тургенева реалистическому методу. Как правило, в Тургеневе видят не только поэта действительности, но и мастера реалистического стиля. Конечно, существуют веские причины считать его глубоким знатоком и главным летописцем 1840–1860-х годов. Никто не отразил так, как он, основные проблемы русской духовной истории этой эпохи: темы крепостного права, лишнего человека, распадающихся дворянских гнезд, славянофильства, нигилизма, и в целом возрастающей напряженности отношений между государством и обществом (вплоть до угрозы революции) исчерпывающе представлены в его творчестве.
У его литературных героев часто есть исторические прототипы: от Станкевича до Белинского и Бакунина. Тем не менее отсюда никак не следует необходимость eo ipso (безусловно) считать реалистами ни Тургенева, ни его современников, определявших своим творчеством направление литературного процесса 1850–1880-х годов, игнорируя при этом возможность наличия иных стилевых элементов в их методе. В случае с Тургеневым некоторые высказывания в его письмах уже с первого взгляда должны внушать некоторые подозрения на сей счет. Приведу лишь два примера подобных высказываний.
В 1856 г. в письме к Василию Боткину он признается в своей приверженности тезису «Придать действительному поэтический образ»[236 - Этот тезис Тургенев почерпнул из книги немецкого литературного критика, друга Гёте, Иоганна Генриха Мерка (1741–1791), личностью и трудами которого русский писатель увлекался начиная с 1845 г. В 1852 г. Тургенев хотел написать для «Современника» статью о Мерке (см. письмо к Н.А. Некрасову и И.И. Панаеву от 18 и 23 ноября – 30 ноября и 5 декабря 1852 г.). В письме В.П. Боткину из Парижа от 25 ноября (7 декабря) 1856 г. он приводит соответствующую цитату: «Я упомянул о Мерке. Я теперь много занимаюсь им и намерен познакомить с ним русскую публику. Это был величайший критик, которого можно сравнить разве с одним Лессингом. – Те, которые знают о нем (а таких очень мало) – думают, что Гёте с него списал Мефистофеля – и только. Отчасти это справедливо – и быть оригиналом такого типа уже очень почетно, – но в Мерке было более чем одно ироническое отрицание. Я достал, наконец, его «Избранные сочинения». Это небольшая книга в 350 стр. (с его биографией) – и нашел в ней множество превосходных вещей. Может ли, например, что-нибудь быть лучше следующего изречения: «Dein Bestreben, – сказал он однажды Гёте, – deine unablenkbare Richtung ist: dem Wirklichen eine poetische Gestalt zu geben; die Andern suchen das sogenannte Poetische, das Imaginative zu verwirklichen – und das gibt nichts wie dummes Zeug» («Твое стремление, твое неуклонное направление состоит в том, чтобы придать действительному поэтический образ; другие же пытаются превратить так называемое поэтическое, воображаемое в действительное, но из этого ничего, кроме глупости, не получается»). Тургенев И.С. Полн. собр. соч. и писем: в 30 т. Письма: в 18 т. М.: Наука, 1987. Т. 3. С. 153. Речь идет об изд.: Johann Heinrich Merck’s Ausgew?hlte Schriften zur sch?nen Literatur und Kunst. Ein Denkmal / Hg. A. Stahr. Oldenburg, 1840; это же высказывание Мерка приведено в предисловии к изд.: Briefe an J.H. Merck, von Goethe, Herder, Wieland und andern bedeutenden Zeitgenossen. Mit Merck’s biographischer Skizze herausgegeben von Dr. K. Wagner. Darmstadt, 1835. S. XVI. – Примеч. пер.] (П., III, 46); в 1863 г. в письме к тому же адресату находим лаконичное заявление: «Но один реализм губителен – правда, как ни сильна, не художество» (П., V, 159; ср. также письмо к Анненкову: П., XI, 53). Итак, возникает вопрос: в чем заключается сущность искусства для Тургенева, самодостаточен ли художественно-стилистический субстрат или он есть только дополнение к реализму. В любом случае, проблема реализма как элементарного отражения реальности или ее фотографического воспроизведения не является дискуссионной. Для ответа на этот вопрос обратимся к суждениям литературной критики XIX в.
Современные Тургеневу литературные критики, даже при том, что они не пользовались единой терминологией, хорошо чувствовали нежелание писателя изображать реальность в ее чистом жизнеподобном облике. Анненков и Боткин постоянно указывали на многозначность тургеневской детали, Салтыков-Щедрин восторгался его «прозрачными образами»[237 - Салтыков-Щедрин М.Е. Собр. соч.: в 20 т. М., 1975. Т. 18. С. 212.], Михайловский говорил об «акварельной манере» Тургенева и был убежден, что искусство Тургенева не может быть исчерпано «словом реализм»[238 - Михайловский Н.К. Сочинения: в 6 т. СПб., 1897. Т. 5. Стб. 810, 823.]. Мережковский, наконец, писал, что существует «другой» Тургенев – импрессионист, о котором «критики-реалисты» и приверженцы натурализма не имеют никакого понятия[239 - Мережковский Д.С. Полн. собр. соч.: в 24 т. М., 1914. Т. 18. С. 219, 229, 257.]. Последние произведения Тургенева он недвусмысленно считал символистскими[240 - Там же. С. 253.]. Примечательно, что эти суждения, кроме отзыва Щедрина, отсутствуют в антологии 1953 г. «Тургенев в русской критике»[241 - Ср. изд.: О Тургеневе. Русская и иностранная критика. М., 1918, в котором, напротив, представлены отзывы Михайловского и Мережковского.].
Тургеневская декларативно оформленная отстраненность от «голого реализма» и более или менее внятные высказывания некоторых его современников по поводу свойственной ему символико-импрессионистической манеры письма тоже не привлекали специального внимания литературоведов. Особняком стоит глава «Тургенев и символизм» в книге Сергея Родзевича 1918 г.[242 - Родзевич С.И. Тургенев. К 100-летию со дня рождения. 1818–1918. Киев, 1918. С. 115–138.], и только в 1973 г. Марина Ледковски стала упорно напоминать о существовании «другого Тургенева»[243 - The Other Turgenev: From Romanticism to Symbolism. Colloquium slavicum. Bd. 2. W?rzburg, 1973.]. Тем не менее оба исследователя, и Родзевич, и Ледковски, хорошо различая традиции романтизма и предчувствие символизма в тургеневском пристрастии ко всему загадочному и иррациональному, ограничиваются обращением к проблемно-тематическому уровню поэтики. Напротив, символический характер образного языка не становится объектом анализа, и, более того, романы Тургенева, особенно его ранние романы, остаются на периферии внимания тургеневедов.
Такой позиции нет оправдания. Отказ от анализа образного языка должен опираться на представление о том, что символизм может обойтись без символов – следовательно, он обессмысливает утверждаемый тезис о предвестиях символизма в творчестве Тургенева. В то же время нельзя не заметить, что именно с 1852 по 1856 г. Тургенев совершенно сознательно искал «новую манеру» – новый стиль, в котором он мог бы выйти из рамок эскизно-очерковой традиции «Записок охотника» и подняться над ней. В письме к Анненкову от ноября 1852 г. он писал: «Надобно пойти другой дорогой – надобно найти ее – и раскланяться навсегда с старой манерой» (П., II, 77). Здесь очень уместно вспомнить о том, что как раз в эти годы (1852–1856) Тургенев интенсивно занимался русской лирикой: отредактировал и издал сборники стихотворений Тютчева, Баратынского и Фета. Особо следует отметить, что именно благодаря размышлениям о лирике Тютчева он увидел задачу поэта в том, чтобы выразить мысль не умозрительно-риторически, а в едином комплексе художественных образов. Мысль и чувство должны воплощаться «единым образом» (С., V, 426)[244 - Статья «Несколько слов о стихотворениях Ф.И. Тютчева» впервые была напечатана в журнале «Современник» (1854. № 4. Апрель).]. Как будет показано ниже, именно это убеждение стимулировало тургеневские поиски «новой манеры» прозаического письма.
Первой кульминацией «новой манеры» стал небольшой роман «Рудин». Уже в самом начале романа Тургенев весьма многозначительно охарактеризовал особенности речи своего титульного героя: «Образы сменялись образами; сравнения, то неожиданно смелые, то поразительно верные, возникали за сравнениями» (С., VI, 269; ср. также: 290; 358). Исходя из этой характеристики, определяется первоочередная задача предлагаемой статьи: репрезентативное выявление символико-эмблематических и образно-символических комплексов в романе «Рудин» и анализ их смыслопорождающего потенциала с параллельным привлечением материала литературно-теоретических высказываний Тургенева о функциях образного языка и о стилистике реалистического нарратива.
Уже в первой главе романа мы видим проходной на первый взгляд диалог, который на деле чреват дальнейшим развертыванием заключенных в нем потенциальных смыслов: Александра Липина упрекает своего поклонника Михайлу Лежнева в том, что он делает ей комплименты с «вялой и холодной миной». Лежнев возражает на это:
С холодной миной… Вам все огня нужно; а огонь никуда не годится. Вспыхнет, надымит и погаснет.
– И согреет, – подхватила Александра Павловна.
– Да… и обожжет.
– Ну, что ж, что обожжет! И это не беда. Все же лучше, чем…
– А вот я посмотрю, то ли вы заговорите, когда хоть раз хорошенько обожжетесь, – перебил ее с досадой Михайло Михайлыч и хлопнул вожжой по лошади. – Прощайте! (С., VI, 240).
В этом диалоге сливаются воедино прямой и переносный смыслы. Образ огня в своем денотате предполагает возможность его реального появления, однако в своем метафорическом значении он может быть и покрывающим образом некой иной, нематериальной субстанции. Тем не менее скрытую в нем возможность ассоциативной отсылки читатель распознает не сразу, но лишь в поступательном движении действия по мере того, как Тургенев постепенно уточняет характеристику Рудина. Так происходит каждый раз, когда в повествовании возникает мотив огня применительно к психологической характеристике персонажа. В главе 6 Лежнев говорит о Рудине, что он «холоден, как лед». Липина негодующе возражает: «Он, эта пламенная душа, холоден!». И Лежнев утверждает снова: «Да, холоден, как лед, и знает это и прикидывается пламенным» (С., VI, 293).
Вскоре после этого Лежнев добавляет: «Рудин казался полным огня, смелости, жизни, а в душе был холоден…» (С., VI, 297). И завершается развитие этого образа в заключительной главе и в эпилоге романа, где развенчанный герой, потерпевший крушение Рудин идет навстречу своему концу. Лежнев, играющий в романе роль героя-резонера, подводит итог: несмотря на то, что Рудин от природы был, так сказать, бескровен и лишен созидательной энергии, он тем не менее мог бы оживить, согреть и подготовить к действию окружающий его мир своим неиссякаемым энтузиазмом. Своей речью он мог бы воодушевить молодежь и тем самым принести пользу: «Доброе слово – тоже дело» (С., VI, 348, 365). На это Рудин возражает ему:
Ты всегда был строг ко мне, ‹…› но не до строгости теперь, когда уже все кончено, и масла в лампаде нет, и сама лампада разбита, и вот-вот сейчас докурится фитиль… Смерть, брат, должна примирить наконец… (С., VI, 365).
Только здесь, в самом финале романа, сквозной образ огня обнаруживается как таковой и обретает свое завершение. Догорающая лампада – это сам Рудин; очевидно, что начальный образ воспламеняющегося, согревающего или сжигающего и скоро гаснущего огня обладает коннотативным смыслом и скрыто предваряет исход действия; в едином художественном образе сливаются реальность и творческое воображение.
Особенно важно отметить, что образ огня и гаснущей лампады в романе «Рудин» можно уверенно соотнести с определенной традицией изобразительного искусства, а именно с традицией символики и эмблематики. В антологиях эмблем всегда содержатся изображения горящих поленьев, зажженных свечей или ламп со следующими типичными девизами: «Dum nutrio consumor» («Питая, расточаюсь»); «Aliorum absumor in usus» («Истощаюсь к пользе других»); «Aliis in serviendo consumor» («Служа другим, расточаю себя»; канонический русский вариант перевода, в котором акцентирована тема огня, звучит так: «Светя другим, сгораю сам»)[245 - См.: Emblemata. Handbuch zur Sinnbildkunst des 16. und 17. Jahrhunderts / Hg. A. Henkel, A. Sch?ne. Stuttgart, 1967. Sp. 187, 1363.]. Общий смысл подписей к подобным эмблематическим изображениям может быть сформулирован так: «Я, бедное дерево, пожираю себя, питая пламя. Мой долг – самоистребление, лучшей участи не желаю»[246 - Ibid. Sp. 188. Ср. в немецком оригинале: «Ich armes Holz verzehre mich, indem ich die Flamme n?hre. Mein Dienst ist mein Verderben, mir n?tzt das Wohlgetane nicht».].
Соотношение и даже прямую связь между упомянутыми эмблемами и лейтмотивным образом огня в романе Тургенева можно дополнительно подкрепить тем, что символы горящих свечей или лампад в антологиях эмблем собраны в разделах, озаглавленных «Самопожертвование». Это слово – одно из ключевых понятий в тургеневском романе. В разговорах между Рудиным и Натальей понятия «самопожертвование» – и, как его антитеза, «самолюбие» и «себялюбие» – являются важнейшими словесно-образными концентратами содержания этих разговоров. Образ Рудина как оратора, истощившего свои силы в слове без действия, не может быть интерпретирован без учета его соотношения с символическим образом самоистребительного огня[247 - Ср. также эпизод смерти Базарова, в котором он сравнивает себя с потухающей лампадой (С., VIII, 396).].
Подобно горящей лампаде, Рудин дарит свет и энергию, он может пробуждать в других сознание и жажду действия, но в этом горении кроется перспектива бесполезного расточения сил для него самого и опасность поджога, т. е. подстрекательной риторики, для других; кроме того, он обречен на самоистребление подобно сгорающей дотла свече[248 - Ср. гоголевскую характеристику Белинского в одном из черновых вариантов его ответа на знаменитое зальцбруннское «Письмо Н.В. Гоголю» от 15 июля 1847 г.: «Зачем вам с вашей пылкою душою вдаваться в этот омут политический, в эти мутные события соврем<енности>, среди которой и твердая осмотрительная многосторонн<ость> теряется? Как же с вашим односторонним, пылким, как порох, умом, уже вспыхивающим прежде, чем еще успели узнать, что истина, как вам не потеряться? Вы сгорите, как свечка, и других сожжете». Гоголь Н.В. Полн. собр. соч.: в 14 т. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1937–1952. Т. XIII. С. 435.]. В этой особенности поэтики романа психологическая характеристика персонажа, тема романа и лейтмотивный символический образ сливаются в неразделимом единстве.
Письма и произведения Тургенева начиная с 1840-х годов убеждают нас в том, что он действительно знал антологии эмблем. Ранее на это уже обращалось внимание исследователей – впрочем, без далеко идущих последствий[249 - См.: Tschizewskij D. Emblematische Literatur bei den Slaven // Archiv f?r das Studium der neueren Sprachen u. Literaturen 201. 1965. S. 175 и след. См. также: П., I, 536; С., VII, 506 и след.]. Известно, что в библиотеке Тургенева был сборник «Symbola et Emblemata» («Символы и эмблемы»), составленный Яном Тесингом и Ильей Копиевским по указу российского царя Петра I на основе западноевропейских книг аналогичного содержания и напечатанный в 1705 г. в Амстердаме; в конце XVIII – начале XIX столетия он дважды переиздавался в обработке Н. Максимович-Амбодика[250 - В 1811 г. «Символы и эмблемы» были переизданы в третий раз под названием: Избранные емблемы и символы на российском, латинском, французском, немецком и английском языках объясненные, прежде в Амстердаме, а потом во граде Св. Петра 1788 года, с приумножением изданные Статским Советником Н.А. Максимовичем-Амбодиком. СПб., 1811.]. В нем содержалось более 800 гравированных рисунков эмблем с пояснительными подписями. Фолиант произвел на Тургенева-ребенка большое впечатление. При случае, в шутку, Тургенев и сам рисовал эмблемы: например, создавая эмблему скуки и бегущего времени («Tempus fugit»), он изобразил каплю воды, падающую в бочку (П., I, 200). Позже сборник «Символы и эмблемы» всплывет в романе «Дворянское гнездо», где эта «толстая книга, таинственная книга» поразит воображение маленького Феди Лаврецкого (гл. XI).
Обратимся к другому случаю возникновения эмблематической символики в романе. После того как отношения Рудина с Натальей потерпели крах из-за его слабоволия, он пишет ей прощальное письмо, исполненное горького самоанализа; среди прочего он замечает в этом письме:
Мне природа дала много ‹…›. Да, природа мне много дала; но я умру, не сделав ничего достойного сил моих, не оставив за собою никакого благородного следа. Все мое богатство пропадет даром: я не увижу плодов от семян своих. Мне недостает… я сам не могу сказать, чего именно недостает мне… ‹…›. Я кончу тем, что пожертвую собой за какой-нибудь вздор, в который даже верить не буду (С., VI, 337).
Этот пассаж отсылает к одному из предшествующих диалогов между Рудиным и Натальей, происходящему вслед за тем, как Тургенев описал восторг Натальи, пробужденный в ней речью Рудина, и по контрасту – недостаток энергии у Рудина. Диалог гласит:
«Посмотрите, – начал Рудин и указал ей рукой в окно, – видите вы эту яблоню: она сломилась от тяжести и множества своих собственных плодов. Верная эмблема гения…» – «Она сломилась оттого, что у ней не было подпоры», – возразила Наталья. – «Я вас понимаю, Наталья Алексеевна; но человеку не так легко сыскать ее, эту подпору» (С., VI, 290).
Прямое указание Тургенева на эмблематическую основу образа не случайно[251 - Эту отсылку к культуре эмблематики отмечает также Д. Чижевский. См.: Tschizewskij D. Op. cit. S. 176. Anm. 8.]. В антологиях символов приводятся многочисленные варианты эмблемы «Плодородное дерево», в том числе и дерево, ветви которого ломаются под тяжестью переполняющих их плодов. В пояснительных надписях к этим эмблемам находим следующие формулы: «Timenda nimia foecunditas» («Чрезмерное плодородие вредно») или «Nimio iacet obruta fructu» («Вот оно покоится, погребенное под избытком плодов») или же просто «Me copia perdit» («Меня губит избыток»)[252 - Ср.: Emblemata. Handbuch zur Sinnbildkunst. Sp. 170 и след.].
Мотив опоры тоже символичен. В антологиях эмблем часто встречаются рисунки, изображающие деревья, перегруженные ветви которых нуждаются в опоре. Их девиз гласит: «Fulcris stabilita manebit» («С опорой оно будет стоять прочнее»). Эти рисунки сопровождаются эпиграммой: «Это хрупкое дерево всюду увешено плодами, и его плодородие превышает его силу. Если груз слишком велик, оно несомненно сломается, не будучи быстро снабжено достаточно прочной опорой…»[253 - Ibid. Sp. 172.].
Связь между образом, характеристикой персонажей и темой романа очевидна вновь. Рудина можно сравнить с отягощенным плодами деревом, которое нуждается в опоре. Наталья готова была бы стать этой опорой, но поскольку Рудин не способен по достоинству оценить ее любовь, он теряет ее и ломается подобно дереву, плоды которого для него непосильны. Этот эффект был подготовлен Тургеневым уже в начале романа, где Рудин произносит следующие слова: «Себялюбивый человек засыхает словно одинокое, бесплодное дерево…» (С., VI, 267). Так же как эмблематический символ огня, образ дерева становится одновременно и символом, и психологической характеристикой героя[254 - Соотнесенный с Рудиным образ старого дуба с молодыми побегами (С., VI, 292, 305, 308, 320) тоже имеет эмблематический генезис.]. Реконструкция его контекстуальных связей – это ключ к пониманию героев романа: Тургенев систематически настраивает читателя на восприятие поэтики его художественных образов и их значения для понимания его проблематики.
Взаимосвязь эмблематических образов огня и отягощенного плодами дерева с темами самопожертвования и избытка, лишенного опоры, должна учитываться в традиционной интерпретации образа Рудина как «лишнего человека». Символические образы самоистребительного огня и обремененной плодами яблони обладают апологетической суггестивной силой. Устами Лежнева, говорящего Рудину: «Доброе слово – тоже дело», Тургенев привлекает к оправданию своего героя известное утверждение поэтов предшествующего поколения, резюмированное Пушкиным и Гоголем в афористической форме: «Слова поэта суть уже его дела»[255 - Гоголь Н.В. Указ. соч. Т. VIII. С. 229.], а также высказанное Генрихом Гейне в «Романтической школе»: «Дело есть дитя слова»[256 - Гейне Г. Собр. соч.: в 10 т. М.: ГИХЛ, 1958. Т. 6. С. 178.]. Упрек Натальи Рудину: «От слова до дела еще далеко» (С., VI, 324) не может рассматриваться как единственная характеристика Рудина и окончательный приговор, произнесенный над «лишним человеком».
Кроме вышеописанных эмблематико-символических образных комплексов и наряду с природоописаниями, важная роль в которых принадлежит садовым ландшафтам и символическим мотивам птиц, столь же значительным ассоциативным эмблематическим потенциалом обладают мотивы дороги и окна.
Прежде всего бросается в глаза, что Тургенев постоянно называет Рудина «путешествующим принцем», «бесприютным скитальцем» или «Вечным Жидом». Эти сравнения как будто просто подчеркивают обособленность и нестабильность Рудина. Однако на своем втором плане эти образные характеристики содержат мотив дороги и, следовательно, оказываются чреваты символикой жизненного пути, которая разворачивается в образном строе описания последней, решающей встречи между Рудиным и Натальей возле мрачного пруда. В то время как Наталья целеустремленно спешит через открытое поле навстречу объяснению, Рудин после разрыва с ней покидает место действия медленно и нерешительно, по «узкой, едва проторенной дорожке», с которой он потом сворачивает в сторону (С., VI, 320)[257 - Ср.: «Узкая, едва проторенная дорожка вилась в стороне» (С., VI, 320); «Он ходил по плотине, а Наталья спешила к нему прямо через поле ‹…›» (С., VI, 321); «А Рудин долго еще стоял на плотине. Наконец он встрепенулся, медленными шагами добрался до дорожки и тихо пошел по ней. Он был очень пристыжен… и огорчен» (С., VI, 326).]. Бездорожье широкого поля, через которое стремится Наталья, символизирует ее решимость, готовность рискнуть, вырваться на свободу и начать новую жизнь – те качества, которых нет в Рудине, не могущем предложить ей ничего равноценного. Его бытие, стиснутое постоянной рефлексией и страхом перед совершением поступка, так же узко и коротко, как уклоняющаяся в сторону обходная тропинка. Драматическая перипетия объяснения, приводящего к разрыву, демонстрирует слабость Рудина, и Наталья расстается с ним.
Мотиву окна Тургенев тоже придал ассоциативно-символический смысл. Пока отношения Рудина и Натальи складываются счастливо, герои часто изображаются у окна – как правило, у открытого окна. При этом они беседуют о юности, о будущем, о необходимости преодоления эгоизма и солипсистской замкнутости (С., VI, 247, 268, 290, 311)[258 - Мотив окна является очень значимым и в диалогах Рудина и Волынцева (гл. 8), Рудина и Лежнева (эпилог).]. Выше уже упоминалось, как однажды, повернувшись к Наталье, Рудин показал ей в окно яблоню без опоры. После катастрофы, т. е. после разрыва их отношений, картины меняются. Рудин запирается в комнате и, сидя перед окном, пишет ей прощальное письмо, которое Наталья потом в одиночестве читает в своей комнате, сжигает и из окна рассеивает его пепел. Финал романа увенчан безутешной сценой гибели Рудина, упавшего с баррикады и неопознанным трупом оставшегося лежать перед полуразрушенным домом с закрытыми ставнями окнами. Совершенно очевидно, что окно, закрытое или открытое, символизирует стремление человека к жизни в обществе, или, как в последнем случае, состояние одиночества, отчуждения и смерти. Позже, у Чехова и в еще большей мере у символистов, образ окна, возникающий в решительные моменты действия, тоже становится символом границы, перспективы, выхода в другой мир. Лозунг символистов гласил: «Видеть сквозь что-то одно нечто иное – значит быть символистом»[259 - О мотиве окна у символистов см.: Althaus-Sch?nbucher S. Konstantin D. Bal’mont – Parallelen zu Afanasij A. Fet. Symbolismus und Impressionismus // Slavica Helvetica. Bern; Frankfurt, 1975. Bd. 5. S. 32, 186.].
Теперь можно было бы возразить, что использование, даже нагромождение, символических отсылок в первом романе Тургенева имело случайный характер. Однако подобное возражение в корне не согласуется с представлением о свойственных его манере письма чрезвычайно упорядоченной технике композиции и отточенном стиле, равно как и с фактами, свидетельствующими о знакомстве Тургенева с антологией «Символы и эмблемы». Подобно символистам, Тургенев был в определенном смысле конструктором от поэтики. В письме к Сергею Аксакову от августа 1855 г. он сообщает о творческой истории романа «Рудин»:
Я воспользовался уединением и бездействием и написал большую повесть ‹…› я ни над одним моим произведением так не трудился и не хлопотал, как над этим; конечно, это еще не ручательство; но по крайней мере сам перед собою прав. Коли Пушкины и Гоголи трудились и переделывали десять раз свои вещи, так уж нам, маленьким людям, сам Бог велел (П., II, 304).
Этот отзыв вовсе не единственный. Тургенев постоянно утверждал, что писателю, наряду с творческим воображением, требуется, прежде всего, образование и начитанность, упражнения в технике ремесла и мастерство. Он многократно и открыто признавал: «Не обладая большою долею свободной изобретательности, я всегда нуждался в данной почве, по которой я бы мог твердо ступать ногами» (С., XIV, 97).
Несомненно, именно такая твердая почва лежит в основе тургеневской манеры художественного письма, ориентированного на образ и символ. В вышеупомянутой статье 1854 г. «Несколько слов о стихотворениях Ф.И. Тютчева» Тургенев определил задачу истинной поэзии: объединять мысль и чувство в едином образе, а не распространяться в абстрактно-претенциозной рефлексии[260 - Ср.: «…Поэту нужно высказать одну мысль, одно чувство, слитые вместе, и он большею частию высказывает их единым образом, именно потому, что ему нужно высказаться, потому что он не думает ни щеголять своим ощущением перед другими, ни играть с ним перед самим собой» (С., V, 426).]. Это мнение постоянно укрепляется, и в программном предисловии к собранию романов 1879 г. оно отливается в афористически точной формуле: «Всем известно изречение: поэт мыслит образами; это изречение совершенно неоспоримо и верно» (С., XII, 310. Курсив Тургенева. – П. Т.). Далее, через несколько фраз, следует процитированная выше декларация приоритета «как» перед «что» в искусстве.
Формула «мышление в образах» как предмет литературно-теоретической рефлексии – конечно, предполагающая нечто большее, чем символ, который тем не менее всегда является ее центральным элементом – разумеется, не была изобретена Тургеневым: до него русская критика, и прежде всего Белинский, активно пользовалась ею. Эта формула пришла в Россию из эстетики немецкого романтизма и идеализма, где ее различные варианты – от эстетической концепции Шлегелей и далее – через Шеллинга вплоть до Гёте и гегельянцев – легли в основу символистской концепции искусства[261 - Ср. Август Вильгельм Шлегель: «Художественное творчество ‹…› есть не иное что, как вечное творение символов ‹…› любое искусство должно быть символично, т. е. оно должно создавать многосмысленные образы» («Dichten ‹…› ist nichts andres als ein ewiges symbolisiren ‹…› alle Kunst soll sinnbildlich sein, d.h. sie soll bedeutsame Bilder aufstellen»). Allegorie und Symbol-Texte zur Theorie des dichterischen Bildes im 18. und fr?hen 19. Jahrhundert / Hg. B.A. S?rensen // Ars poetica. Texte. Frankfurt, 1972. Bd. 16. S. 169, 174. Ср. также критические высказывания по поводу «инфляции понятия “символ”»: Reiss G. «Allegorisierung» und moderne Erz?hlkunst. M?nchen, 1970. S. 11 и след.]. В России же эстетическая программа и творческая практика Тургенева стали одним из важнейших переходных звеньев от романтизма к символизму. Однако это утверждение можно будет счесть полностью обоснованным, только когда репрезентативная совокупность конкретных проявлений тургеневского «мышления в образах» будет продемонстрирована в анализе имманентной структуры текстов писателя, а специфическая образность его художественного языка, эволюционирующего от эмблематического символа к лейтмотивной функции отдельных слов-сигналов, найдет свое убедительное истолкование.
В предлагаемой статье была сделана попытка показать это на отдельном примере. Тургенев очень сознательно сделал основой текстовой структуры своего первого романа именно символические образы с глубоким ассоциативным потенциалом. Символическая релевантность конкретных подробностей и отдельных образов овладевает воображением читателя гораздо надежнее, чем хорошо известный тургеневский лиризм. Этот эффект многократно усилен лейтмотивными повторами и вариациями функциональных деталей и насыщенных ассоциативным потенциалом образов. На их основе зиждется «тайная психология» тургеневской характеристики персонажа и проблематика его романов. В своем символическом значении словесно-образные лейтмотивы Тургенева плодотворны и осмысленны, и именно в тургеневской эмблематичной символике укоренена мотивная структура европейской повествовательной прозы от Чехова до символистов и новеллистики Кэтрин Мэнсфилд[262 - О преемственной цепочке Тургенев – Чехов – Мэнсфилд см.: Halter P. Katherine Mansfield und die Kurzgeschichte. Zur Entwicklung und Struktur einer Erz?hlform // Schweizer Anglistische Arbeiten. Bern, 1972. Bd. 71. S. 34–55.]. Единство формы и содержания обретает свое классическое подтверждение, и если мы по праву говорим об экономности окутанного «дымкой недоговоренности» тургеневского стиля, в котором доминирует намек, то это только потому, что писатель всюду пользуется языком ассоциативно насыщенных символических образов[263 - Ценные наблюдения над этой особенностью поэтики Тургенева, выгодно отличающиеся от жесткой приверженности советского тургеневедения концепции реализма писателя, см. в: Курляндская Г.Б. Метод и стиль Тургенева-романиста. Тула, 1967.].
При этом комплексы подобных образов отмечены не столько эзотерической энигматичностью и изысканностью, сколько прозрачностью и легкостью, что как раз и является характерным свойством литературной эмблемы[264 - О распространении метафоры «погасшее светило» (родственной эмблеме гаснущей лампады) см., например: Алексеев М.П. Стихотворение Пушкина «Я памятник себе воздвиг…». Л., 1967. С. 104 и след. О традиции эмблематики и аллегории в XIX в. см.: H?nnighausen L. Pr?raphaeliten und Fin de Si?cle. Symbolistische Tendenzen in der englischen Sp?tromantik. M?nchen, 1971. S. 76 и след., 85 и след.; Hess G. Allegorie und Historismus. Zum, Bildged?chtnis’ des sp?ten 19. Jahrhunderts // Verbum et Signum. Bd. 1. M?nchen, 1975. S. 555–591. О культуре литературной эмблематки см.: Link J. Die Struktur des literarischen Symbols // Kritische Information. M?nchen, 1975. Bd. 24. S. 8 и след.]. Рождающая напряжение загадочность образа и его последующее узнавание находятся в тесном соседстве – и это есть отличительный признак реалистической символики. Таким образом, не отрицая реалистической природы тургеневского образного языка, можно существенно уточнить дефинитивный и однозначный эпитет «реалистический». Определение реализма, предложенное Якобсоном и Чижевским и основанное на утверждении метонимической (не метафорической) основы реалистической стилистики[265 - См.: Чижевский Д. Что такое реализм? // Новый журнал. 1964. № 75. С. 131–147. См. также: Tschizewskij D. Russische Literaturgeschichte des 19. Jahrhunderts. Bd. 2 (Der Realismus). M?nchen, 1967. S. 11, 41 и след.], может быть применено к методу Тургенева лишь частично: не будучи символистом, Тургенев шел по пути, ведущему к символизму. Это направление тургеневского творчества понял уже современник русского писателя, высоко ценимый Тургеневым[266 - В письме Э. Беере от 8 января 1873 г. Тургенев назвал Юлиана Шмидта «общепризнанно первым критиком Германии, всегда так благосклонно отзывавшимся о моих вещах» («den anerkannt ersten Kritiker Deutschlands, der sich immer so g?nstig ?ber meine Sachen ausgesprochen hat»). Jahrb?cher f?r Geschichte Osteuropas. NF. 1970. Nr. 18. S. 561.], ведущий немецкий литературный критик Юлиан Шмидт (1818–1886), написавший в 1868 г. в «Прусском альманахе»: «[Тургенев] почти боязливо сторонится всяческой рефлексии, он знает только образы, и что он думает, можно понять только по тому, какие образы он выбирает»[267 - Preu?ische Jahrb?cher. 1868. Nr. 22. S. 447.].
Роман и драма: теория и практика жанрового синтеза в ранних романах И.С. Тургенева[268 - Пер. И.О. Волкова, О.Б. Лебедевой.]
Кому нужен роман в европейском значении слова, тому я не нужен.
И.С. Тургенев И.А. Гончарову 9 апреля 1859 г.
Под впечатлением от перечитывания произведений Тургенева Гюстав Флобер летом 1869 г. написал своему русскому коллеге следующие слова похвалы: «Sans chercher les coups de thе?tre, vous obtenez par le seul fini de la composition des effets tragiques»[269 - «Не ища ложной театральности, вы добиваетесь трагического эффекта только за счет совершенства композиции». Flaubert G. Cuvres compl?tes. Correspondance. Nouvelle еd. augmentеe. Sixi?me Sеrie (1869–1872). Paris, 1930. P. 47.]. Это было мнение знатока. Флобер принадлежит к тем автором, которые в теории и на практике уделяли много внимания проблемам литературной композиции; для него «прекрасное» было высокой целью искусства[270 - См.: Bart B.F. Flauberts Romanbegriff // Der franz?sische Roman im 19. Jahrhundert / Hg. W. Engler. Darmstadt, 1976. S. 325–338.].
Флобер не одинок в своем наблюдении. Литературная критика XIX в. и тургеневедение XX в. всегда настойчиво подчеркивали «трагические эффекты» в прозе Тургенева. Театрально-драматургический терминологический аппарат является традиционным инструментарием в интерпретации творчества Тургенева. «Потрясающая драма», «драматическая коллизия», «драматические точки», «внутренний драматизм романа», «действенная драматизация», «драматическая плотность сюжета», «трагическая судьба», «трагизм», «волнующая интрига», «интрига романа», «драматические перипетии», «theatrical construction» («театральная структура») – таковы или приблизительно таковы формулы, описывающие судьбу человека и развитие действия в прозе Тургенева. Некоторые исследователи пишут о «сценичности» структуры романных эпизодов[271 - Freeborn R. Turgenev: The Novelist’s Novelist. A Study. Oxford, 1960. P. 54 («…each episode in the action is like one scene upon a stage…»; перевод: «…каждый сюжетный эпизод подобен действию, разворачивающемуся на сценических подмостках…»); Петров С.М. И.С. Тургенев. Творческий путь. M., 1961. С. 217; Курляндская Г.Б. Метод и стиль Тургенева-романиста. Тула, 1967. С. 208.] и ссылаются на следы драматического жанра, оставленные в первых романах писателя его ранним и основательным опытом драматурга[272 - Цейтлин А.Г. Мастерство Тургенева-романиста. M., 1958. С. 74; Freeborn R. Op. cit. P. 33, 53; Петров С.М. Указ. соч. С. 217; Ozdrovsky M. The Plays of Turgenev in Relation to Nineteenth Century European and Russian Drama. PhD., Columbia Univ., 1972. P. 170.]. В очевидном усилении динамики повествования и драматизации композиции прозы Тургенева, начиная с «Записок охотника», Л.П. Гроссман увидел все более сознательное стремление к ее (прозы) структурированию[273 - Гроссман Л.П. Тургенев. Этюды о Тургеневе: театр Тургенева. М., 1928. С. 51–63.]. Р. Фриборн уверенно отметил: «Театральная аналогия, следовательно, дает ключ к внутренней структуре романа Тургенева»[274 - Freeborn R. Op. cit. P. 55.].
Однако эти в целом верные наблюдения не выходят за рамки простой констатации факта. Как само понятие «драматического романа», так и утверждение, что романы Тургенева «драматичны», не поддержаны конкретным анализом текста и не имеют под собой теоретической базы. Явная аналогия прозы Тургенева с драмой не продемонстрирована в сравнительном анализе, а современная писателю дискуссия о романе – и в частности, о драматическом потенциале жанра – остается вне целостного видения проблемы. Это утверждение актуально и для тех исследований, которые специально посвящены своеобразию жанра и композиции романов Тургенева[275 - Гиппиус В.В. О композиции тургеневских романов // Венок Тургеневу. 1818–1819. Сб. ст. Одесса, 1919. С. 25–54; Цейтлин М.А. Развитие жанра в романах Тургенева: Рудин и Дворянское гнездо // Ученые записки Мос. обл. пед. ин-та. М., 1960. Т. 85. С. 205–240; Батюто А.И. Структурно-жанровое своеобразие романов Тургенева 50-х – начала 60-х годов // Проблемы реализма русской литературы XIX века. Сб. работ. М.; Л., 1961. С. 133–161; Батюто А.И. Тургенев-романист. Л., 1972. С. 240–283; Артемьева Т.В. К вопросу о структурном развитии русского романа середины XIX века // Проблемы русского романтизма и реализма. Сб. ст. Кемерово, 1973. С. 79–98; Dudek G. Zur Genrespezifik der Romane I.S. Turgenevs // Zeitschrift f?r Slawistik. 22. Berlin, 1977. Heft 1. S. 88–94; Баевский В.С. Рудин И.С. Тургенева (к вопросу о жанре) // Вопросы литературы. М., 1958. № 2. С. 134–138; Герасименко Л.А. О жанровой специфике романов И.С. Тургенева 50-х годов (к вопросу о характере «новой манеры») // Четвертый межвузовский тургеневский сборник. Орел, 1975. С. 68–81.]. Как справедливо заметил еще в 1961 г. А.И. Батюто, вопрос о структуре и жанровых особенностях этих произведений вряд ли можно считать решенным[276 - Батюто А.И. Структурно-жанровое своеобразие романов Тургенева… С. 133.]. Предлагаемая статья преследует три цели: во-первых, это анализ тургеневской эстетики композиции; во-вторых, описание драматической структуры его ранних романов; и в-третьих, обзор материалов дискуссий о жанре романа в России и Германии.
I
Классики русского романа всегда справедливо славились как прозорливые летописцы-психологи, наблюдательность которых подобна чувствительности сейсмографа. Однако наряду с этим признанием временами в их адрес возникали упреки в несовершенстве формы и недостатке композиционной стройности. Еще недавно Абрам Терц-Синявский с сожалением отмечал, что русской художественной литературе свойственны «…вечные нелады со строгими литературными рамками, неразвитость новеллы и фабулы, аморфность прозы и драмы – духовное переполнение речи»[277 - Терц А. Голос из хора. Лондон, 1973. С. 248.]. Подобная критика в XIX в. была направлена в основном против Достоевского – он сам упрекал себя в недостатке художественности и погрешностях против меры и гармонии[278 - См.: Чулков Г.И. Как работал Достоевский. М., 1939.], – но в Германии такие упреки звучали и в адрес Тургенева[279 - Hock E. Turgenev und die deutsche Literatur. Phil. Diss. G?ttingen, 1953. С. 172.]. С другой стороны, Толстой обвинял Тургенева в страсти к затейливой форме и манерным конструкциям. Более детально эти упреки, как правило, не обосновывались.
Обратимся, однако, к мнениям и намерениям самого Тургенева. Уже в 1840-е годы он неоднократно требовал от художественного произведения «обдуманности»[280 - Тургенев И.С. Полн. собр. соч. и писем: в 28 т. М.; Л., 1960–1968. Соч. Т. 1. С. 205. Далее все тексты Тургенева приводятся по этому изданию с указанием аббревиатуры: С. – сочинения, П. – письма и номеров тома и страницы в скобках.], «округленности» (С., I, 227) и «непосредственного единства» (С., I, 234). В 1846 г. он писал:
Мы более всего ценим в таланте единство и округленность: не тот мастер, кому многое дано, да он с своим же добром сладить не может, но тот, у кого все свое под рукой (С., I, 298).
Творчество в наитии слепого воодушевления или просто в порыве вдохновения уже тогда внушало ему недоверие – как признак недостатка вкуса. Из его первых рецензий очевидно, что своим литературным мастерством он обязан школе Лессинга и немецкой классики (прежде всего, Шиллеру).