 Полная версия
Полная версияПоследний луч солнца
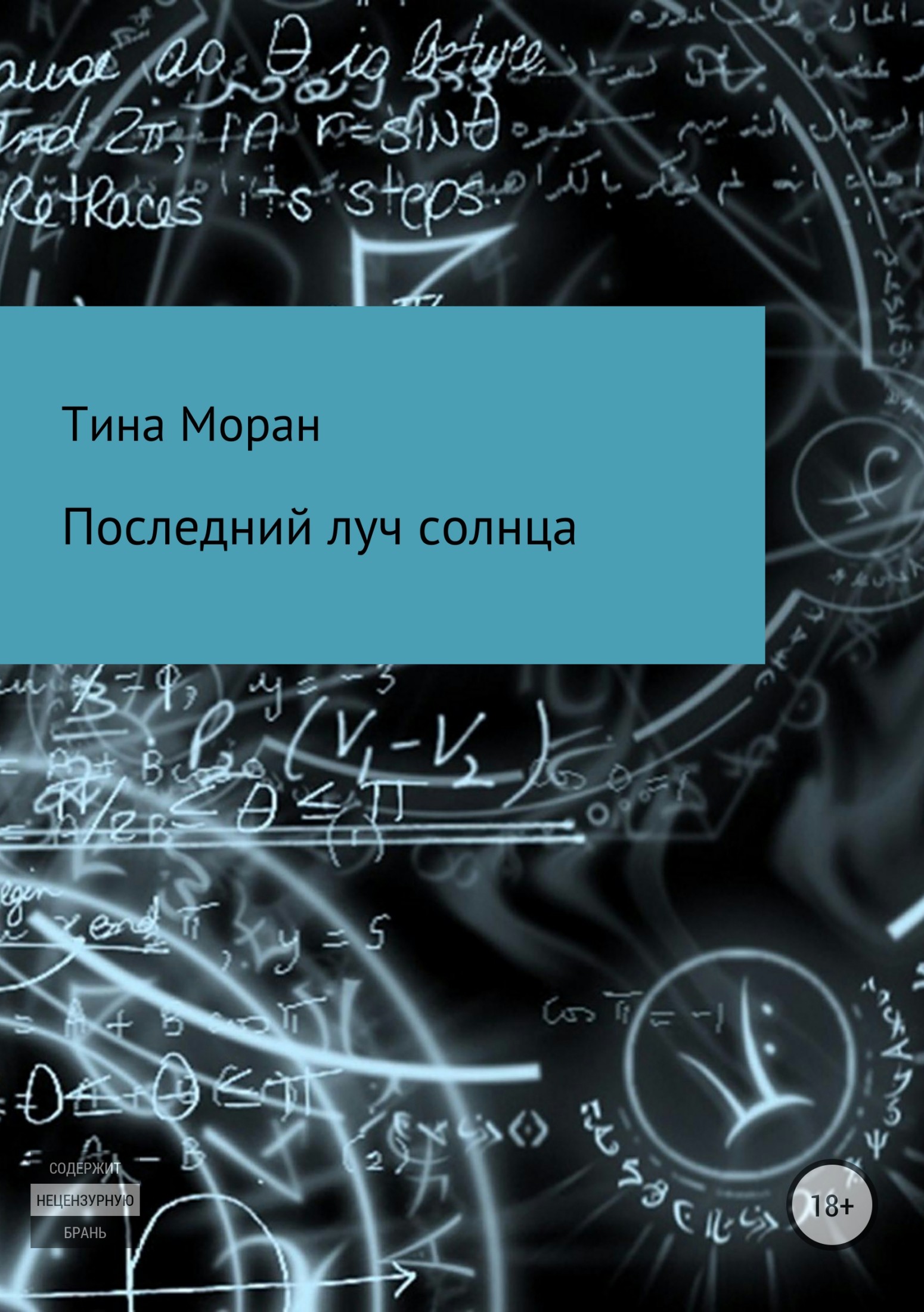
Это был трёхэтажный дом в два этажа. Крышу как будто сорвал гнев божий, а остатки последнего этажа разметал демонический ветер. Дом этот – одно из немногих явлений, к созданию которых причастны и Господь, и нечистый.
В страдающий от предрассветной неги час, когда солнце безрассудно поднимается из чрева земли, на северной стене второго этажа ненадолго обнажается человеческий силуэт, будто выжженный в странно яркой штукатурке. В католической общине поговаривали, что в доме водятся злые духи, и запрещали детям ходить туда. Историю дома доподлинно знали старожилы-протестанты, уже седые и тучные, или же тощие как горбыль и такие же сгорбленные древние люди. Именно их предки обвинили в ужасном преступлении священника-католика, отца Генри Макферсона.
В этом районе, как и во всех подобных захолустных, безрадостных уголках города, пропажа людей была делом обыденным. Сбегали из дому подростки, увлечённые друг другом, обозлённые родительским непониманием, уничтоженные жестокостью сверстников. Тайно уезжали неверные жёны, без единого слова уходили мужья, осознав, что ненавидят свою семью и презирают себя за то, что добровольно надели на шею ярмо. Тихо угасали в своих ободранных халупках позабытые всеми старики, страшась забвения и желая его.
Пропавшие дети обнаруживались почти сразу же: у друзей, в соседнем дворе, в подвале, на дереве или чердаке, занятые очень важными детскими делами. Но сыну бакалейщика, белокурому Марку Уизерсу, смышлёному мальчику и достойному продолжателю славного дела своей семьи, не было дело до подобных глупостей. В последний раз ребёнка видели проходящим мимо церкви. Туда и пришла наспех собранная поисковая группа. Громче всех вопил и потрясал кулаками Крис Фарнелл, бездельник и выпивоха. Взращённый в семье протестантов, католиков он, ясное дело, презирал. А тут ещё кто-то припомнил, будто бы видел выходящим из церкви своего троюродного малолетнего брата, и Фарнелл вскипел как сердитый чайник.
– За мной! Я покажу ему, как лапать наших детей!
Люди засомневались, зашумели. Они, простые рабочие, учителя и продавцы, чтили всё божественное, что было в их жизни и боялись последствий своего непослушания как геенны огненной, пусть и принадлежали другой конфессии. Да и оратор из Фарнелла был некудышный. Так что вскоре перед одноэтажной церковью остался лишь Фарнелл, а вместе с ним большие приятели Морган и Дрейк, и его девушка Сьюзи.
Отец Макферсон, как простой прихожанин, сидел на скамье и отдыхал. Он был уже немолод, организм всячески об этом напоминал. Ноющей спиной укорил его за собственноручно подметённый пол, тупой иглой в виске – за ненужное ночное бдение. Всё чаще и чаще Макферсон задумывался о приближении старости и венца её, смерти. Хоть слово Божие и гласило, что праведники после смерти вознесутся на небеса, отец Макферсон слишком привык к существованию в качестве души, прочно соединённой с телом, и не желал изменения привычного состояния. Уже давно он сомневался в деяниях Господа и только недавно нашёл силы признаться себе в этом. Знание пугало и угнетало.
Высокие своды огласились воплями, отрывая от тягостных размышлений. Отец Макферсон встал во весь рост и попытался урезонить вломившихся в его обитель шумных людей, но Морган и Дрейк выволокли упирающегося священника из осиротевшей церкви и потащили прочь. Фарнелл шёл впереди, гордый предводитель паствы, свергнувшей лже-пророка. Встреченные на пути полисмены отводили глаза и отходили в сторону, жалея, что не могут приложить руку к линчеванию педофила.
Духовный сан не помог отцу встретить жестокость со смиренным достоинством. Его рвали в разные стороны, трясли, требовали сказать, куда спрятал ребёнка, а он, после крепкой оплеухи растерявший всё красноречие, и думать не смел о том, чтобы увещевать агрессивно настроенных чужеверцев.
Не спасут.
Молитвы священника были обращены не Господу, он молился, чтобы неравнодушные к чужой беде люди спасли его. Но район был маленький, и все те, кто встретился на пути, уже заклеймили его извращенцем.
Не спастись.
Разнузданная процессия уже вывалилась на окраину, где, окруженное средней надёжности забором, доживало свой долгий кирпичный век здание старой католической школы. Фарнеллу показалось забавным такое родство, алкоголь в крови заставлял его дрожать от нетерпения.
А вот отцу Макферсону пришлась не по нраву новая обитель, изгаженная, пропахшая нечистотами и отсыревшей штукатуркой. Морган вытряс из него протестующий возглас, толкнув к Дрейку. Сьюзи подгоняла сзади, немного смущаясь того, что мужчина, годившийся ей в отцы, позволяет ей это.
Только чудом святой отец не слетел с лестницы, потерявшей перила наверное ещё в годы молодости прабабки Макферсон. Как агнца на заклание его тащили вперёд, и он шёл за пошатывающимся идолом тех троих, что истязали его плоть и личность.
Это был храм граффити и фекалий, последнее пристанище избитой мебели со сломанными конечностями и вывернутыми внутренностями. Мир бездомных, их съестных запасов, которые уже начали протухать.
«Почему здесь, о Господи!» – вопрошал отец Макферсон мысленно и не слышал ответа.
Его швырнули на стену, растянули за руки, отдав на растерзание Фарнеллу беззащитное мягкое пузико. Сорванное с шеи распятие было попрано грязными подошвами тяжёлых рабочих ботинок.
Крису Фарнеллу не терпелось разобраться с гнусным извращенцем. Сьюзи, тогда ещё Ричардсон, в замешательстве отошла к разбитом окну и обзывала себя последними словами за то, что вступила в очередное затеянное Крисом дерьмо. Морган и Дрейк, удерживающие святого отца за руки, таскали его то влево, то вправо, улюлюкали. Происходящее уже было далеко от изначальных намерений компании: припугнуть педофила и вытрясти с него информацию о пропавшем ребёнке, однако отрывать Криса от его добычи было сумасшествием. Это знали все, а особенно – его друзья и близкие, и спешили показать ему свою покорность.
Отец Макферсон мыслями уже был на небе. Отчего-то он был уверен, что это конец, он хотел жить, но боялся бороться с мучителями. На уме была только Книга бытия и почему-то рецепт куриных котлет, которые он готовил для матушки после воскресной мессы в те дни, когда она ещё была жива. Он ужасно тосковал по этим временам. Кулак Фарнелла, обжигающе врезавшийся в левую щёку, вернул его на бренную землю.
Боль диктовала свои условия, кровь, пятнавшая колоратку, была подобна огненной реке из адских глубин. Отец Макферсон наяву чувствовал запах серы и понимал, куда ведут его недавние богохульные мысли.
Прямиком в ад. И даже участь мученика не спасёт его.
Тело посылало сигналы усталому мозгу, желудок был готов исторгнуть свое содержимое на мучителей. Кровь всё текла и текла, нескончаемый поток обжигающей лавы, один глаз не видел от потрясения. Преподобный сдерживался как мог, но после удара в живот скудный обед оказался на руках Моргана и на его новом твидовом пиджаке.
– Фу-у-у! – Сьюзи не удержалась от возгласа отвращения. – Да он тебя всего заблевал!
Возмездие настигло священника, едва живого от боли и страха за свою душу, не от рук Моргана. Фарнелл. Священник со своим дряблым скорбным лицом, дрожащими губами, слезящимися от боли глазами был представителем ненавистного ему типа мужчин, которые своей слабостью и неприятием противостояний любого рода сами напрашивались на взбучку. Он уже не хотел спрашивать про Марка, крови было мало: Фарнелл жаждал переломанных костей.
Приказав крепко держать этот мешок с дерьмом и толкнув для верности Моргана в плечо, Фарнелл присел на корточки и сунул руку в карман. Перед окровавленным лицом отца Макферсона скрежетнула зажигалка. Сьюзи недоверчиво и предостерегающе выругалась, священник вызывал у неё смесь жалости и отвращения. Крис часто перегибал палку, особенно когда дело касалось применения силы, по поводу и без. Пора было вмешаться и отойти от спасительного окна. Сьюзи загордилась своей решительностью, но едва она задёргала Фарнелла за рукав, как оказалась на полу, правой рукой угодив в гниющие остатки чьего-то несостоявшегося ужина. И впервые подумала, что выбрала в спутники жизни не того человека.
– Держите его, держите крепко! – велел Фарнелл своим приятелям и поднёс зажигалку к острому, как у воробья, носу священника.
Предостерегающий жар не произвел на отца Макферсона ожидаемого эффекта. Он уже видел свет, божественно восхитительный мягкий свет омывал его старые кости и израненную душу. Он не слышал обращенных к нему слов, не разбирал произнесённых имен, чистым счастьем сочилась для него каждая секунда.
– Господи, как ты велик!
Под ошеломлёнными взглядами священник вспыхнул как просушенная деревяшка, столь же покорный и безмолвный. Морган и Дрейк не успели отдёрнуть рук, однако пламя было холодным и не нанесло им увечий. Тело священника мокрым жирным пеплом рассыпалось на загаженный пол.
Отец Макферсон соединился с божественной силой, однако вовсе не с той, которой служил. Под полными благоговейного ужаса взглядами, под грязные ругательства испуганных подростков душа его воспарила к потолку и ушла в стену. На испещрённой надписями стене остался нечёткий угольный силуэт.
Компания медленно спустилась по разбитой лестнице и вышла во двор. Сьюзи шла твёрдым шагом, губы её были поджаты, а грязное личико залито слезами. Она не замечала, что к носу её модной остроносой туфли прилипло дерьмо. Морган, Дрейк то и дело осматривали руки, которые сжимали воспламенившегося человека и не находили слов. За всех них сказал Крис Фарнелл.
– Ничего не было! – произнёс он самым зловещим своим голосом.– Никто ничего не видел.
Никто и правда ничего не видел. Священник Макферсон просто исчез из своей церкви одним теплым весенним вечером.
И все бы вздохнули с облегчением, если бы несколько дней спустя достопочтенный сэр Броуди, школьный учитель, не был застигнут со спущенными штанами рядом с оцепеневшим от ужаса племянником Криса Фарнелла.
Симоне был уже достаточно взрослым, чтобы зайти в бар как полноправный гость, а не как мнущийся мальчик на побегушках. Главным его недостатком было отсутствие любопытства, однако это же стало достоинством в некотором роде и послужило неплохим источником дохода. Тёмные личности, прозябающие в полутьме «Рэнди» за стаканом алкоголя разной степени паршивости, заприметили мальчугана без единого проблеска интереса или жадности во взгляде и предложили стать курьером. Переправлять, знаете, такие маленькие записочки от одного к другому. Симоне воспринял это как должное, не как свою личную победу или, упаси Господь, избранность. Он просто делал то, что говорили, не ощущая ни радости, ни благословления, хотя другие мальчишки то и дело болтали о то, что вот-вот войдут в банду полноправными угрюмыми членами.
– Вот увидишь, – говорил Курт и сплёвывал сквозь зубы на мягкий от жары асфальт. – Буду таким же крутым ублюдком, как Джимми Ганс, буду носить за пазухой пушку, а в голенище нож.
От подобных разговоров у Симоне начинало горчить в горле. Рассуждения казались ему полным сумасбродством, почище чтения записок, которые они доставляли порой на другой конец города в руки ребят, оказавшихся на земле не иначе как по ошибке в небесной канцелярии. Курту пора снять идиотские чёрные очки, которые он напяливал, чтобы показаться крутым, и взглянуть на мир при солнечном свете. Увидел бы много впечатляющего. Но нет, придурок видел только то, что хотелось, и исключительно в полутьме. Сумрак для него тоже был чем-то вроде крутого аксессуара.
Стоит ли говорить, что Курт с таким отношением к жизни и делу не достиг вожделенных верхов. Он лишь едва приподнялся над трущобами, да так и раскорячился, крепко застряв где-то посередине. Толкался локтями в узкой клетке собственного ограниченного упрямства, как будто не понимая, что сам же и мешает своему продвижению.
Даже его труп шёл на дно нехотя, сопротивляясь толще кипящей от дождевых струй воды. Симоне упрашивал его скрыться уже с глаз и дать ему жить дальше. Присутствовать при разгуле решительно настроенной стихии сверх положенного не хотелось.
А Курту не хотелось исчезать. Он обвинительно колыхался на поверхности реки, напоминая о своей кровавой смерти, о сломанных руках и перерезанном горле. Симоне обвёл виноватый взгляд и понял, что тело уже давно опустилось на дно. Перед глазами стоял фантом, мёртвый и реалистичный. И очень мокрый.
Но кто виноват, что Симоне оказался на складе именно в тот самый момент, когда Джимми Ганс, тот самый Джимми Ганс, которым так восхищался Курт, убирал во внутренний карман куртки складной нож, а вместе с ним – приличный такой свёрток с кокаином, который Курт не доставил заказчику, решив, что никто не заметит. Глупец. Пытаться обскакать Джимми Ганса – всё равно что лезть грязными руками под балахон старухи с косой.
– Полагаю, ты-то нам не подосрёшь? – спросил Джимми.
Они стояли на пирсе, старые добрые знакомцы, одного поля маки, пыль одной улицы, ныне до трусов мокрая. – Я лично буду наблюдать за тобой, парень. А теперь отнеси-ка вот это к Рэнди. Он знает, что делать.
В свете фар своего камаро Джимми смотрелся глубоким стариком. Он не был поклонником трезвого образа жизни, не практиковал сексуальное воздержание, однако игра теней была слишком уж строга к его и без того резким чертам и трёхдневной небритости.
«Мудрый дьявол, – подумал Симоне и внутренне перекрестился. – Как уж от такого ждать милости и снисхождения?»
– Дорогу знаешь. От Линкольна направо. Не заглядывай внутрь.
Бесполезное предупреждение. Будто бы Симоне только и делал, что читал чужие записки. Однако на этот раз свёрток был куда больше и увесистей, чем простой клочок бумаги. Кривая полуулыбка Джимми умоляла его ослушаться.
С каждым шагом Симоне сомневался в выбранном пути всё больше и больше. Возле дома старого Порека, добродушного мясника и поставщика необходимых ингредиентов для плодотворной и бесперебойной работы опиумных клубов, он остановился и целых пять минут размышлял, а не развернуться ли и не направить ли стопы до своей берлоги, где его поджидают пять кусков зелёных, зашитых в престарелый матрас, и не слинять ли с ними куда-нибудь в Перу. Конечно же, он этого никогда не сделает, не оставит родителей отдуваться за выбранную им жизнь.
Воровато прошмыгнувшая в приоткрытое окно кошка привлекла его внимание. Стоило бы и далее идти по маршруту, навязанному волей других, но отчего-то сегодня любознательность решила пробудиться и показать Симоне то, что он видеть не желал.
В лавке Порека на выскобленном прилавке, в окружении благодарной публики – колбас и вяленых деликатесов, исполнял нерешительное танго одинокий огонёк. Сначала Симоне подумал, что кто-то прикуривает, или, чёрт возьми, просто держит зажигалку над деревянной поверхностью. Однако глаза его не обманывали: там никого не было. Странно было и то, что крохотный язычок пламени, вопреки всем законам природы и здравого смысла, не спешил становиться несущим смерть исполином и сожрать всё мясное изобилие в один присест. Гибкий стан был тонким как перышко, он сладострастно изгибался, раздваивался языком дьявола и снова сливался в единую яркую, весьма легкомысленную сущность. Симоне в изумлении прилип к стеклу, огонёк моргнул, словно подмигивая, и снова заплясал.
– Пресвятая матерь божья!
Симоне попятился, споткнулся о негодующе мяукнувшую кошку и уселся прямо на мокрый асфальт. В голове возник светлый образ Девы Марии, сложенные вместе дрожащие пальцы коснулись лба, а затем и сердца. Он нескоро нашел в себе силы вновь заглянуть в окно, однако огненный смутьян исчез. Погруженная в темноту лавка безмятежно спала.
Его окликнул полисмен, и Симоне юркнул в проем между домами и выскочил уже на другой улице. Несмотря на довольно грузное телосложение, двигался он быстро и бесшумно, ещё одно полезная особенность, за которую его ценили. Он знал множество тайных местечек по всему городу, знал, как за несколько минут добраться до нужного места.
Бар, намертво зажатый между почтой и мрачного вида столовой, мигал подслеповатой вывеской. Внутри было малолюдно. Полуночные пьяницы картинно вздыхали над своими напитками, не понимая, как их занесло в эту дыру. Едва слышно играл тягучий блюз. Хранил настороженное молчание новый, незнакомый бармен. Но Симоне пришёл не ради них и даже не ради хорошей порции чёрного рома, который, как он надеялся, поможет ему забыть странное происшествие с малышом огоньком.
Ром дарил блаженство, хоть и был младшим братом огня. По крайней мере, обжигал горло не хуже. Симоне сглотнул вязкую, наполненную алкоголем слюну и сделал ещё один глоток. Рэнди подождёт.
– Давай-ка ещё один, – сказал он бармену. – И мяты положи.
За столом в дальнем углу бара было много незнакомых лиц. Компания лениво перебрасывалась в кости и курила, подошедшему Симоне уделили внимание не больше чем сигаретному дыму в воздухе. Только человек, сидящий напротив Рэнди, повернул своё узкое рябое лицо. Лучше бы он не смотрел: слишком мало эмоций в коротком взгляде. Сам Рэнди сегодня был малоузнаваем: серый костюм с иголочки и влажные от бурбона глаза. Церемонно предложенную записку он брал уже под пристальным вниманием, такой жест не мог быть проигнорирован. Можно было даже не гадать: за столом собрались важные шишки с разных районов города. Настолько разных, что собрать их за одним столом – как пауков в банку натолкать. Рэнди не только удалось свести паучков друг с другом, но и заставить их держать лапки при себе. Назревали перемены. И дело было не только в смерти Курта.
Прочитав записку, Рэнди важно кивнул и протянул руку. Хватка оказалась такой же невыразительной, как и он сам.
– Теперь ты с нами целиком и полностью. Не разочаруешь папочку?
У папочки был препоганый смех, гнусавый, с истеричными всхлипами. Однако рожи паучков были куда хуже.
Все эти телодвижения означали одно: Симоне повысили за счёт неудачника Курта. Ирландский придурок был излишне деятельным и не в том направлении, в котором разрешено, а уж тем более новичкам.
Ощущая на своей ладони пот Рэнди, Симоне огляделся. Несмотря на смерть Курта, это место продолжало жить и спаивать всех желающих. На своём привычном месте, сбоку барной стойки, сидела Сэнди, уже не такая изящная и аппетитная, как шесть лет назад. Она в одиночестве курила за стойкой свои любимые тонкие сигареты. Всё здесь было привычным, и даже огонь в камине выглядел мирным: укрощённый хищник, куда больше того нахального детёныша в лавке мясника и такой послушный. Симоне усмехнулся, вспоминая охвативший его иррациональный ужас при созерцании необъяснимого поведения огня. Здесь, в окружении людей, он посмеялся над своими суеверными страхами.
Быть может, в рай он не попадёт, но вполне может на него заработать здесь, в этой жизни. Особенно если будет покладистым малым с быстрыми ногами, внимательными ушами и ртом на замке. И не будет отвлекаться на глупости вроде игр испуганно разума.
Симоне тряхнул головой, и с чёрных волос брызнули капли дождя. Курт постоянно носил идиотскую шапку, даже на дно залива в ней отправился. И как только она не сползала с его лысой головы? Впрочем, Сэнди нравилось. Сэнди нравилось всё, лишь бы платили.
У Симоне денег было достаточно. Он заказал кофейный шот, выпил уверенно и направился к Сэнди. Раз уж он взрослый – пора и вести себя по-взрослому.
Проблем с деньгами Симоне никогда не знал: родители, держащие цветочный магазин, давали единственному отпрыску всё необходимое и даже сверх того. Так что связь с преступным миром была для него сродни связи любовной: бесполезной, грязной и потому ужасно притягательной, долгосрочное вложение с хорошими процентами. Симоне брал выше, нежели незамысловатый парень Курт из неблагополучной семьи, он метил в самое средоточие организма, нередко именуемого на тонкой газетной бумаге преступной организацией. Сила и власть влекли его, как влекли любого мужчину, однако то грубое, почти животное могущество, которое олицетворял Ганс, было ему чуждо. Симоне ценил утончённого лорда или дона, чинно сидящего за столом и решающего проблемы посредством переговоров. Так он видел в кино, голову их банды видеть не доводилось.
Пример хорошего руководителя, не гнушающегося работы руками, был у него перед глазами всю жизнь. Это сейчас старческие суставы Винсенто уже не выдерживали многочасовой возни с цветами и вёдрами. Он подолгу отдыхал в подсобном помещении и всё равно выходил к покупателям с хрупкой улыбкой на потемневшем лице, пусть она и норовила треснуть и явить миру искривлённый судорогой рот.
Глубокое уважение к отцу, к семье текло в крови каждого выходца с итальянской земли. Так что помимо делишек с Рэнди Симоне ежедневно помогал Винсенто в магазине, осторожно подводя его к тому, что следовало бы подумать о помощнике, молодом и сильном.
То же самое твердила и мать, Роза-Луиза. Всю жизнь они с Винсенто уважали друг друга, и вдруг на старости лет начали ссориться по любому, даже смехотворному поводу. А уж магазин, источник дохода и семейное дело на протяжении пятидесяти безоблачных лет стал просто золотоносной жилой разногласий и скандалов.
– Ты не так поставил треклятый букет! Ты не добавил мирты к лилиям! – горячилась Роза-Луиза. – Ты не поздоровался с покупателем!
– Уймись! – отвечал ворчливо Винсенто, натирая до блеска витрину дрожащими руками. – Поди на кухню! Отстань! Симоне, проводи матушку наверх!
Приходилось вмешиваться, умасливать разошедшуюся мать и провожать до дивана в тесной гостиной, где торжественно обещать донести до отца её правоту. В который уже раз.
Сегодняшним утром они не поделили обязанности и переругивались так ожесточённо, что разбудили Симоне, отсыпающегося после бурной и не совсем невинной ночи. Господь не осчастливил Розу-Луизу вторым ребёнком, поэтому небольшая семья решила не отделять работу от дома и не съезжать со второго этажа.
Лежа в постели, Симоне почёсывал густо волосатую грудь и разглядывал запылённые бурые шторы. Надо сказать матери, чтобы выстирала их. С улицы доносился привычный шум будней: симбиоз людей, машин и изредка – животных. От резкого сигнального гудка Симоне подскочил на постели и грязно выругался.
Возгласы внизу стихли. И слава богу: после вчерашних обильных возлияний Симоне не готов был к звукам громче жужжания холодильника. Ужасно хотелось пить. Он оделся и прошел на кухню, где долго глотал холодную воду прямо из крана и радовался зубной боли как благословению. Зато горло теперь не напоминает иссохшую кишку: соответствующий привкус во рту притупился.
– Нет! – услышал он отцовский голос. – Проваливай, пока я не вызвал полицию.
Симоне спустился, когда посетитель уже уходил. Рожу посетителя он видел за столом Рэнди в памятный момент своего становления. Или обладателя рожи не предупредили, что этот магазин – запретная территория, или его посещение было согласованным. Со всеми, кроме Симоне. Кто спросит мелкую сошку?
Кряхтя, Винсенто поведал, что обладатель рожи предложил за магазин хороший барыш, а он, конечно же, категорично и гордо отверг все его посулы. Симоне не мог винить отца в излишней резкости, он и сам до сих пор питал искреннюю привязанность к этому месту. Однако знал по опыту, что подобные люди всегда добиваются своего. Впрочем, как и он сам.
Однако Рэнди только руками развёл.
– Как я буду указывать моему благодетелю, что ему делать? – вопрошал он с фальшивыми слезами на глазах. – Увы, парень, в этом случае каждый сам за себя. Нужны будут деньги, или пушка, или ещё какое средство – обращайся, но не проси меня осадить Ларри Махогана.
От осознания того, что его связи с темной стороной города настолько непрочные, у Симоне началась мигрень. Он снова и снова перебирал в уме способы воздействия на людей и понимал, что ни одним из них Махогана не пронять. Тот твердо вознамерился заполучить старинное здание в личное пользование, и мешал ему только «Флориссимо».
Симоне копал, но с каждым новым фактом понимал, что дело проигрышное. Покуда он собирал драгоценные крупицы сведений, раздавал мелочь уличным оборванцам и снабжал купюрами более крупную рыбёшку, уже усатых, но всё ещё по-мальчишечьи юрких детей улиц, пытался разговорить всех, кто так или иначе соприкасался с преступным миром города, Махоган начал действовать.
Первый раз с ним просто поговорили, Симоне весь день ощущал себя распоследним слюнтяем. Потом ему пришлось объяснять встревоженной матери, что большие мальчики иногда доказывают свою правоту кулаками, но не всегда это удаётся.
Симоне старательно исполнял любую прихоть Рэнди, он всё же надеялся, что тот образумится, что заступится за своего подопечного, и между ними снова всё будет хорошо и гладко. А Рэнди гонял его по пустякам, как будто вновь вернулись старые времена, когда Симоне делал первые робкие шаги в преступном мире. Принеси, отнеси, забери, выбей, сломай. Задания стали жёстче, вторую неделю Симоне навещал должников и как заведённый твердил: долг, уплата, побои. Менялись только суммы: тысяча баксов, пятьсот, восемьсот. Менялись лица, но неизменным оставались эмоции. Испуг. Паника. Отрешённость. Пуще всех прочих Симоне покоробили слёзы пожилой вдовы Эллиота, ростовщика, который задолжал Рэнди такую сумму, что даже продажа его бизнеса и вполовину не покрывала долг. Сын Эллиота, военный, погиб где-то на границе с Северной Ирландией, подорвался на бомбе в стычке с повстанцами, и Симоне был тем, кто сказал бедной женщине, чтобы она освободила дом. Это была просто работа.

