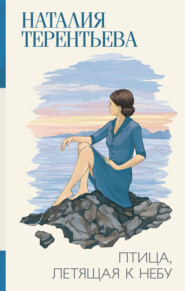скачать книгу бесплатно
Птица, летящая к небу
Наталия Михайловна Терентьева
Золотые небеса
Есть ошибки, искуплением которых может быть только любовь. Судьба Тине, четырнадцатилетней девочке из обычной московской семьи, посылает сложное испытание. Больше нет вчерашних друзей, привычных радостей, любимого театра. Но неожиданно в ее жизни появляется что-то, что затмевает ей всё – и семью, и школу и заставляет забыть обо всех невзгодах. Это любовь, которая побуждает забыть обо всем, всё рушит и всё меняет в жизни…
Наталия Терентьева
Птица, летящая к небу
© Н. Терентьева, 2022
© ООО «Издательство АСТ», 2022
* * *
Вот, Я посылаю вас, как овец среди волков:
итак будьте мудры, как змии, и просты, как голуби.
Евангелие от Матфея, 10:16
Глава первая
Минуты тянулись длинной нескончаемой вереницей, застывали и никак не складывались в часы.
– Тина, Тина! Эй, Кулебяка! Кри-и-ис! – Плужин безуспешно пытался привлечь мое внимание разными способами. Шипел, свистел, звал на разные лады, шептал ерунду, бросал в меня ластиком, карандашом.
– Плужин, ты успокоишься? – Нина Ивановна, печатавшая нам тест, подняла голову от ксерокса. – Что ты хочешь? Тебя выключить?
– Себя выключи… – негромко, но внятно проговорил с последней парты Сомов, человек неуправляемый и опасный.
Нина Ивановна пропустила его замечание мимо ушей. Как и большинство учителей, она старается вообще не обращать на него внимания. Себе дороже.
Плужин наконец попал мне в голову карандашом, мне пришлось обернуться.
– У тебя тапки разные! – прошептал он.
– Плужин! – повысила голос Нина Ивановна. – Сейчас есть шанс повторить три последние темы, на которые будет контрольная. А ты чем занят? Что ты не успокоишься никак?
– Это… у Кулебяки… у Кулебиной ботинки разные, гы-гы-гы… – Плужин стал смеяться, оглядываясь, призывая и остальных к веселью.
Кто-то из мальчиков, не вдаваясь, в чем дело, тут же заржал. Сомов лениво выматерился, и почему-то в общем шуме его липкий бессмысленный мат был очень хорошо слышен.
Нина Ивановна цыкнула на всех сразу и, продолжая быстро раскладывать тесты по вариантам, мельком взглянула на него, на меня, перевела взгляд на мои ноги, я задвинула их как можно дальше под стул.
– Кулебина, помоги-ка мне тесты разложить. И посчитай народ, сколько на втором варианте сидит? Не пересаживаться! – прикрикнула она на девочек, которые, пользуясь заминкой, пытались быстро поменяться, пересесть так, чтобы оказаться в одном варианте с нашей отличницей, крупной, тяжелой Норой Иванян, единственным человеком, с которым я пока поделилась своими странными новостями.
Поделилась и жалею, потому что Нора, человек большой и добрый, но очень необычный, всё время смотрит теперь на меня долгим взглядом, в котором много жалости, печали, понимания, в общем, всего, отчего мне хочется свернуться в клубочек, закатиться под стул и совсем исчезнуть. Чтобы возродиться в новой жизни кем-нибудь другим. Не Тиной Кулебиной, у которой одна нога к четырнадцати годам оказалась короче другой. Или так – одна нога длиннее другой. Так позитивнее, мне пытался объяснить врач, который определил это и выписал мне носить особый ботинок, удлиняющий ногу и заставляющий своей тяжестью ее расти.
Мама моя пока просто отчаивается, плачет и ничего не объясняет. Папа же только повторяет: «Я в шоке, я в шоке», – и легко матерится. Папа всегда от слабости матерится, так говорит мама.
Мама моя человек верующий, а папа – нет. Маме ее вера не разрешает плакать и убиваться, потому что всё, что происходит на земле, даже самое плохое, это от нашего Бога, который лучше знает, кому что нужно, и за всем следит. Но мама всё равно плачет, потому что не может пережить мое неожиданное уродство.
Мама плачет и молится, просит прощения у Бога за слезы и недостаточную веру, а также просит за меня, чтобы у меня поскорее выросла вторая нога, если Бог сочтет это нужным, папа вздыхает и разводит руками, а Вова, мой старший брат, смеется. И мне советует смеяться, потому что это смешно, когда ты смотришь на свои ноги, а они разные.
Однажды в аэропорту, когда мы летели на Черное море, я видела женщину, у которой глаза были на разном уровне. Это было страшно. Я смотрела на нее, пока мама насильно не повернула меня к себе и не сказала: «Прекрати пялиться! Всё от Бога!» А я смотрела, потому что это было необычно, странно, страшно, и еще потому, что рядом с этой женщиной был ее муж, а сама она ждала ребенка, у нее был уже довольно большой живот. И я поняла, что, наверное, мама права.
Отношения с Богом и к Богу у меня очень сложные, потому что я нахожусь между двух враждующих и одновременно любящих друг друга сторон. Одна сторона – мама, главная в нашей семье. Другая сторона – папа с Вовой. Папа – тоже главный, но не во всем. Он тоже может заорать в ответ и часто не соглашается с мамой, но последнее слово – всегда за ней. И не потому, что она кричит громче папы – это на самом деле так, у мамы сильный звонкий голос, но это не самое важное. У мамы – твердые аргументы. А у папы только эмоции. Когда у мамы кончаются аргументы, она выкладывает козырь. Мамин главный и последний аргумент – это Бог. И с этим не поспоришь, потому что доказать, что Бога нет, папа не может. А мама встает на защиту Бога, как скала. И стоит до победы. Победа иногда наступает под утро.
Всю ночь мои родители ругаются, у них хватает сил и задора. Мы с Вовой десять раз засыпаем и просыпаемся – я не так крепко сплю, как Вова, поэтому просыпаюсь чаще и засыпаю труднее, а родители все ругаются. Потому что для папы все мамины аргументы – не аргументы. А для мамы – Бог во всем, и он для нее важнее всего.
Вот так они и живут. Сбоку – Вова, он умудряется не попадать под огонь, а посередине – я. Между Богом и землей, как я для себя это однажды определила. Потому что мама – с Богом, а папа – на земле. А я люблю обоих и, когда слушаю папу, верю ему, а когда слушаю маму – то ей. Папа знает всё или почти всё об устройстве нашего мира. Он учился на инженера и должен был прокладывать трубы, но работает водителем в какой-то фирме, развозит товары по магазинам и еще на огромном бензовозе, там работа не каждый день, но зато хорошо платят. Папа понимает, почему перышко медленно летит к земле, а камень быстро, знает все законы физики, астрономии, механики и всегда с удовольствием объясняет, если его спросишь. Мама лишь пожимает плечами, слушая наши разговоры, хотя сама она тоже когда-то училась на инженера, причем вместе с папой. Но ее знания утонули под огромной верой, спасающей ее в любой ситуации.
Моя мама не ходит в длинных платьях, не прячет волосы, не носит платков – только в церковь. Но строго соблюдает все посты и заставляет соблюдать меня, поскольку больше никого не заставишь. Раньше она заставляла и Вову, но, когда у него стали расти усы, он посты соблюдать перестал. Мама так и говорит: «Пока ты не закобелился, мне было с тобой проще». А Вова молчит и усмехается, нашел для себя удобную позицию – он просто молчит. Если я молчу, мама упорно добивается от меня ответа, а Вове дает подзатыльник и… оставляет в покое. Не знаю почему, может быть, больше его любит.
– Кулебина, а ты что расселась? Я же тебя позвала! – Нина Ивановна подняла на меня глаза, и в этих глазах было всё. И усталость от нас всех, и раздражение, и еще что-то, из-за чего я подальше задвинула ноги под стул и даже взялась руками за стол, интуитивно, конечно. Чтобы меня никто с моего места не сдвинул. Потому что аттракцион был обеспечен. Ведь Плужин уже всё проорал. Не все услышали, но некоторые очень заинтересовались.
Я молча смотрела на Нину Ивановну, хоть это было и непросто. Проще было бы сейчас раствориться, исчезнуть, стать маленькой и вылететь в окно. Или спрятаться в своем собственном кармане. Пиджак бы мой синий остался, а меня в нем нет, точнее, я сижу у себя в кармане, и меня никто не видит, никто надо мной не смеется, никто с любопытством не разглядывает мои ботинки. Один нормальный, обычный, черный, похожий на мужской, никакой, средний. А второй – огромный, на увеличенной подошве. Как будто обычный ботинок взяли и раздули во все стороны. И надели мне на правую ногу.
Я хорошо танцую. И я хорошо пою. Я занимаюсь в детском музыкальном театре. Я играю Герду в спектакле «Снежная королева». Точнее, нет. Танцевала. Пела. Занималась. Играла Герду. Позавчера мама долго разговаривала с нашим худруком и объясняла ему, почему я не могу заниматься. Я умоляла маму не говорить правду. Сначала она не соглашалась, говорила, что Бог все равно всё знает. Но я ей пыталась объяснить, что Бог – это одно, а наши – это совсем другое. Я так и не поняла, сказала ли мама Валерию Викторовичу правду. Мама отводит глаза, из чего я делаю вывод, что сказала.
Валерий Викторович может заставить сказать правду, потому что он учился на актера и может сыграть вообще всё, что угодно. И Герду, и Кая, и королеву, и зайчика, и разбойницу – всё. А уж вытянуть из моей мамы правду он наверняка смог. Главное, чтобы он теперь не рассказал это всем. Скажем, в назидание. Например, кто-то будет отвлекаться, болтать, сидеть в телефоне на репетиции, а он возьмет и скажет: «Что, захотел, чтобы у тебя ноги были разные, как у нашей звезды? Вот звездила, и теперь где она? Дома кукует!» Он за словом в карман не полезет, он сам так всегда говорит.
Я, конечно, никакая не звезда и никогда не «звездила», но не все были рады, что во втором спектакле подряд я играю главную роль. На каждую главную роль в спектакле Валерий Викторович устраивает «кастинги», мы целый месяц «пробуемся» на роли. Он снимает это на пленку, потом смотрит дома и еще вместе с нами. Смотреть это так смешно, что педагог из соседнего кабинета приходит к нам с возмущенным лицом и строгим выговором, а Валерий Викторович обнимает ее и, что-то нашептывая, уводит обратно к ней в кабинет. Он довольно симпатичный, хоть и немолодой человек, ему точно есть сорок лет. И некоторые наши самые старшие девочки пытаются с ним переписываться «ВКонтакте», хотя видят его на занятиях четыре раза в неделю.
Мы с нашими спектаклями ездили и в Тамбов, и в Тулу, и уже два лета подряд собираемся поехать в Париж. В прошлом году опять чуть не поехали, но продолжилась эпидемия, и наши гастроли отменили. А так бы мы обязательно поехали. Мой папа говорит, что он не уверен, что нас кто-нибудь ждет в Париже с нашими двумя новогодними спектаклями, а мама одергивает его, напоминая, что все равно билеты на самолет такие дорогие, что вряд ли я поеду. Но это всё теперь в прошлом.
– Кулебина? – Нина Ивановна отложила тесты и смотрела на меня. Брови ее, как в цирковом номере у клоуна, ползли и ползли наверх и никак не останавливались.
Я закрыла глаза и представила, что я – в далекой-далекой стране, где все умеют летать. И я сейчас лечу – над морем, легкая, воздушная. Я еще закрыла руками уши, чтобы ничего не слышать.
Я почувствовала, как кто-то толкнул меня в плечо, и открыла глаза. Нина Ивановна подошла ко мне и встала близко. Это такой прием. Трудно не подчиниться, когда учитель стоит рядом и нависает над тобой. Понятно, что он тебя не ударит по-настоящему, не раздавит, не сметет со стула мощной звуковой волной… Хотя – как сказать… Именно Нина Ивановна может и очень громкие звуки издавать, у нее мощный низкий голос. Но сейчас она, пихнув меня, заставив открыть глаза, сказала тихо и вкрадчиво:
– Что с тобой? Тебя отвести к врачу?
Нормальный человек на такой вопрос скажет «нет», потому что никакого врача у нас нет, есть фельдшер, человек, которого боятся все. Просто так от него не выйдешь. Он заставит любого раздеться до трусов, чтобы убедиться, что на теле нет сыпи и пятен, говорящих об остром инфекционном заболевании. Если пятен нет, а ты жалуешься на что-то, он заставит выпить большую белую таблетку, которую невозможно проглотить целиком, и прожевать тоже невозможно, она не раскусывается. Никто не знает, что это за таблетка, но давились ею многие.
Еще ходит много разных слухов: кому-то он якобы ставит клизму, – кладет человека на кушетку, говорит: «Ну-ка, перевернись на живот, нет ли у тебя высыпаний на спине?» и – р-раз! – ставит огромную клизму… Что происходит с человеком дальше – можно спросить у наших мальчиков, они это точно знают, расписывают в деталях, наверное, кто-то из них точно попадал в такую ситуацию. Но кроме огромной клизмы есть и другие страшные вещи. Кому-то он делает укол в плечо, рука синеет или даже чернеет, и потом невозможно неделю поднять руку, кого-то заставляет пить воду, похожую на ту, что из луж пьют бродячие собаки и кошки, вроде как это вода с размешанным углем, а вроде и грязь…
Я была у него только один раз и убежала. У меня в прошлом году заболела голова, я пожаловалась на уроке английского, а учительница возьми и отведи меня к фельдшеру, потому что в тот день все подряд врали про голову, и ей это надоело.
Я к тому времени про фельдшера уже всё знала. Но когда оказалась вблизи, почувствовала густой запах лекарств, увидела его странное, темно-желтое лицо с большим количеством выбоин и пятен, как будто на его лице пробовали разные техники грима (я видела такие фотографии в Сети), услышала хриплый булькающий голос, то нервы мои сдали.
Он сказал: «Раздевайся!» Я кивнула, наклонилась, как будто чтобы снять туфли. Он стоял рядом, не отходил. Тогда я на самом деле сняла туфли, стала копаться, расстегивать блузку. А он, убедившись, что всё в порядке, отошел к столику, чтобы взять какие-то инструменты – загремел чем-то, залязгал… Зачем нормальному врачу лязгающие инструменты, если ты жалуешься на боль в висках? А я подхватила туфли и рванулась к двери. Конечно, он бросился за мной. Но шансов у него не было, я оказалась гораздо проворнее.
Мы часто в театре делаем такие упражнения – бегаем по нашему залу и ловим друг друга. Валерий Викторович говорит, что это развивает внимание и чувство партнера и что все великие актеры так начинали свою карьеру – часами ловили друг друга на занятиях по актерскому мастерству, вырабатывали «чувство локтя». Фельдшер булькал и хрипел мне вслед, но я, не оборачиваясь, понеслась по коридору, и поймать он меня не смог. Тогда я еще могла нестись как ветер. А теперь – только представлять, что я перышко и лечу.
Поэтому на вопрос Нины Ивановны, не отвести ли меня к врачу, я помотала головой.
– Не понимаю языка глухонемых, – четко отрезала Нина Ивановна.
– Нет, – ответила я как можно более нормально, чтобы она перестала думать, что со мной что-то не в порядке.
– Хорошо, – кивнула Нина Ивановна.
На мое счастье, она решила провести на этом уроке тест, а тест – это святое, она сама всегда так говорит. Тест отменяет все войны, скандалы, разбирательства. Тест на время примиряет врагов, потому что у Нины Ивановны пересдать нельзя. По всем предметам можно, а по русскому – нельзя. А у нас есть люди, которые и сами убьются за свои пятерки, и других убьют. Как будто от их пятерки зависит будущее планеты, так говорит мой папа. Мы с Вовой учимся на двоих на четыре с плюсом. Когда Вова еще учился в школе, он маме на вопрос «Как оценки?» всегда отвечал: «Три-и-и… четы-ы-ре… пять!!!» И мама смеялась. У Вовы в школе пять было только по физкультуре. А у меня – по математике, несмотря на мое увлечение театром, и еще по литературе, потому что я обычно читаю сами произведения, а не краткое содержание, и Нина Ивановна это ценит.
Мама не очень переживает о наших пятерках, особенно о моих, ее больше волнует, чтобы Вова удержался в своем «универе». Он не смог поступить на бюджет, потому что экзамены в школе сдал плохо. Но нашел «универ», где был совсем низкий проходной балл и небольшая оплата. Туда ездить неудобно и нет общежития, но ему и не надо. Зато есть военная кафедра для тех, кто сможет на нее поступить – пробежит на время, отожмется. Вова собирается следующим летом начать тренироваться. Иначе его после учебы заберут в армию. А Вова, по мнению мамы, совершенно не готов взять в руки оружие. Это тоже старый спор мамы с папой.
Папа настаивает, что Вова должен «стать мужиком», послужить, помаяться в казарме. Сам папа служил, причем в морской пехоте, и забыть этого не может. У нас висит папина фотография в форме и раз в год он встречается с товарищами, чтобы «вспомнить, вздрогнуть и обмыть», как выражается папа. Но мама говорит, что времена другие, что всё очень страшно и что папа ради красного словца готов рисковать сыном.
Я понимаю, что истина, как обычно, в их спорах где-то посередине, но середину эту определить не могу. Я знаю, что когда я найду, пойму и сформулирую середину в родительских спорах, я стану взрослой. И тогда уже никто мне не сможет сказать: «Сядь и сиди молча!» или «У нас вообще-то пост, не надо пялиться на мясо!.. Ты забыла, что сегодня среда? Какой еще омлет? Постный день!», или: «Я решила Валерию Викторовичу сказать правду о твоей ноге, зачем лгать хорошему человеку!» Может показаться, что я всё время спорю именно с мамой. Или это так и есть? С папой легче, потому что папа проще относится ко многим вещам и не вникает так глубоко, как мама.
Когда я была младше, некоторые родственники и знакомые родителей постоянно задавали мне два вопроса: кем я хочу быть и кого больше люблю, маму или папу. Наверное, они просто не знали, о чем еще спросить. До какого-то времени я пыталась отвечать, хотя оба эти вопроса очень сложные и очень странные. А потом перестала. Вдруг поняла, что не важно, кем я хочу стать. Вряд ли меня спросят об этом, когда надо будет поступать. И ответить честно, кого я люблю больше, я тоже не могу. Потому что иногда я больше люблю маму, когда меня отсылали летом в лагерь, или родители уезжают на выходные на дачу, оставляют нас с Вовой одних, я с самого первого дня начинаю скучать почему-то именно о маме. А когда я дома, то, конечно, я больше люблю папу, потому что он меня не пилит, не ругает, не заставляет поститься, молиться, не подходит сзади с внезапными проверками и не отнимает телефон на два дня, застав меня с ним в неположенное время, когда я должна делать уроки.
Хотя у меня в телефоне даже нет Интернета, я могу лишь писать смс Норе Иванян и читать ее длинные, путаные ответы, в которых она рассказывает о своей непростой жизни отличницы и дает мне советы. Я знаю, что она всегда относилась ко мне искренне, когда я всё свободное время проводила в нашем театре и училась так себе, и сейчас, когда я вдруг стала пугалом для наших мальчиков и кошмаром для самой себя, она наверняка будет на моей стороне.
После русского, который закончился как-то неожиданно (почти никто не успел доделать тест, и Нина Ивановна, заранее отругав нас за неисправляемые двойки, которые снизят ей самой зарплату, собрала листочки и выгнала нас из своего класса), ко мне вразвалочку подвалил Сомов.
– Чё это у тебя? – ухмыляясь, спросил он, затянулся, выпустил облачко вонючего, почти бесцветного дымка из айкоса и поддал носком своей бело-голубой спортивной кроссовки по моему большому черному ботинку.
Я постаралась молча проскользнуть мимо него. Не знаю как, рядом оказался и Плужин.
– Гы-гы-гы! – стал он ржать и показывать на мой ботинок другим мальчикам, как будто на экскурсии. – Зырьте, пацаны!
Их смёл поток старшеклассников, которые стали выходить из соседнего кабинета, а я, подхватив рюкзак, юркнула на лестницу и побежала вниз – насколько я могу теперь бегать в этом уродском ботинке. В уродском, проклятом, чудовищном ботинке, из-за которого я теперь – изгой. Ведь пока ботинка не было, никто ничего не знал. Никто не замечал моего прихрамывания, и оно мне почти не мешало. Так, чуть-чуть – я стала очень быстро уставать – от бега, от танца, просто от жизни. Прошла по улице до школы – устала, взбежала по лестнице – устала… Но всё равно это было гораздо лучше, чем сейчас.
До конца учебного дня оставалось два урока – география и физкультура, от которой я теперь освобождена. Я понимала, что надо развернуться и пойти обратно. Потому что прогулять географию – себе дороже. С нашей географичкой шутки плохи. Один раз в чем-то провинишься – наживешь себе врага надолго. Причем я знаю, что некоторые девочки умудряются как-то с ней дружить. Шепчутся с ней, переглядываются, улыбаются со значением, когда географичка рассказывает какие-то школьные истории – она обычно всё обо всех знает. Я же не знаю, как к ней подойти, и, наверное, не очень хочу знать, иначе давно бы научилась.
Таисья Матвеевна, наша географичка, – странный человек. Однажды мне приснилось, что она выкалывает мне глаза. И это было не просто так. Таисья может взглядом остановить драку в коридоре или одним словом или вопросом так тебя хлестнуть, что ты долго будешь снова возвращать свое обычное самочувствие и место в классе. Мне пока не доставалось. Иногда она выбирает себе неожиданную жертву. Я пытаюсь понять ее логику – кого же именно она уничтожает и за что. И это не всегда очевидно. За грубость и мат? За «расхлебанный» вид, как она сама выражается? За неподчинение? За нелюбовь к предмету? Но вот Сомова, к примеру, она не трогает. А Сомов откровенно презирает и ее, и ее предмет, и всех учителей вообще.
И при этом Таисья Матвеевна мне нравится. Как это может быть? Я ее боюсь, и она мне нравится. Чем? Я пыталась это понять. Силой, наверное. Она идет по коридору, и от нее во все стороны расходится особое силовое поле. Можно тихо ржать, и строить рожи за ее спиной, и показывать неприличные жесты – так делают некоторые мальчики, чтобы доказать, что они ее не боятся. И всё равно они тоже попадают в ее поле. И оно их меняет. Шепотом материться и трусливо показывать средний палец, пока Таисья движется по этажу, окидывая зорким взглядом всё вокруг, – это еще не победа. Победа – это выдержать ее взгляд. А взгляда Таисьи выдержать не может никто.
Я встала в углу на первом этаже между поворотом в маленькую учительскую раздевалку и кабинетом ОБЖ, где было тихо, и пыталась убедить себя, что мне нужно пойти наверх и высидеть географию. А что, если Плужин продолжит тему моей ноги и ботинка, и Таисья услышит, заинтересуется? Я не могу сказать, что она меня очень не любит, это будет неправда. Скорее, не выделяет. И это самое прекрасное, что может быть во взаимоотношениях с нашей географичкой. Пришел, посидел, получил свою четверку и ушел. Ее глаза тебя не испепелили, слово не уничтожило. Да и вообще. География – интереснейший предмет. И я иногда думаю – не стать ли мне географом. Не знаю точно, что делают сейчас географы, когда открыты все острова на Земле. Но ведь тайн всё равно очень много. Про океан и его глубины, к примеру, мы по-прежнему мало знаем. И мало знаем про те места, где нет исторических достопримечательностей или хороших пляжей, где просто живут люди, у которых другой язык, другие песни, другая еда, другие боги. Таисья часто нам говорит, что интересно может быть везде, главное, смотреть на мир, а не в свой собственный пупок.
Мои размышления прервал Константин Игоревич, учитель ОБЖ, который подкрался незаметно и дунул мне в ухо. Два или три года назад он окончил нашу школу, поступил в институт и сразу вернулся уже учителем.
– Ты что здесь прячешься? А?
Я молча проскользнула мимо него. У нас ОБЖ первый год, все считают, что это самый глупый предмет, но зато преподаватель отличный, потому что молодой и веселый. Я решила сейчас ничего ему не говорить. Я видела, так иногда делают некоторые старшие девочки. Молча улыбаются, накручивают волосы на палец. Молчать и улыбаться – это ведь не хамство? Может, человек не знает, что сказать.
Константин Игоревич не стал за мной гнаться, два раза крикнул вслед: «Как фамилия? Как фамилия?» Все говорят, что, как только он окончит институт, он станет завучем, наверное, потому что он всегда участвует во всех школьных конфликтах и разбирательствах. Мою фамилию он сейчас почему-то забыл, хотя на прошлом уроке смеялся, что мне с такой фамилией нужно обязательно изобрести вечный двигатель или хотя бы вечный самокат, чтобы у него не отлетали колеса на второй день. Я не стала его поправлять, что у меня «е», а у изобретателя «и» в фамилии, потому что учителей вообще лучше никогда не поправлять, если не хочешь нажить себе врага. Это нам объяснила еще в пятом классе Нина Ивановна, когда Нора Иванян подняла руку и сказала, что ее полное имя не Элеонора, а Нора. И ее назвали в честь героини какой-то знаменитой пьесы. А Нина Ивановна засмеялась, сказала: «У-у-умная…» и невзлюбила ее.
Я стала подниматься по лестнице, увидела в пролете между вторым и третьим этажом Плужина. И он меня увидел. Я поняла, что на сегодняшний день – я самая лучшая приманка для Плужина. Ему нужно во что-то играть, и сегодня он играет в то, что смеется надо мной.
Я только что читала книгу о норвежской девочке, которая потеряла один глаз и всю семью, у нее осталась лишь собака. Девочку почему-то не забрали в приют или в другую семью, она жила одна, собака везде с ней ходила, даже в школу, терпеливо ждала ее у дверей весь день. И над той девочкой смеялись и травили ее, старались подходить с той стороны, где у нее нет глаза, и строить рожи, показывать неприличные жесты.
Когда я читала это, я еще не знала о своем собственном уродстве. И я думала, что наши так никогда себя вести не будут, не знаю почему. У нас вообще-то веселый и довольно дружный класс. Портит всё Сомов, сидит на последней парте и портит. И потихоньку начали портиться и другие мальчики.
Вот, например, Плужин. Он недавно стал расти вверх и очень меняться. Раньше он иногда приходил к нам во двор со своей таксой, и мы вместе гуляли. Мне даже казалось, что я ему нравлюсь. Он посылал мне всякие картинки «ВКонтакте» – это было счастливое время, у меня был старый Вовин телефон, в котором был Интернет, и я могла общаться со всеми друзьями. Однажды Плужин пришел на спектакль со своей младшей сестрой, где я играла. И потом тоже посылал мне большие пальцы и мишек с сердечками. Кто бы мог подумать, что именно Плужин будет сейчас доводить меня и смеяться над моим ботинком.
Я в нерешительности стояла в гардеробе. Уйти? Остаться? Как уйти? Если уходить, то прямо сейчас. Пальто у меня серое, скромное, это важно, в нем легче незаметно проскользнуть мимо охранницы вместе с пяти- и шестиклассниками, у которых уже закончились уроки. Старших она всех останавливает и спрашивает, куда они, собственно, идут. Ни одного не пропустила. Вот только что на моих глазах остановила двух высоких парней. Остановит меня – начнется всеобщее веселье. Уж охранница точно разглядит мои ботинки и начнет привязываться.
Я увидела в углу валяющиеся черные балетки, старые, поношенные. Вряд ли их выбросили. Кто-то принес на дополнительные занятия и потерял. Не слишком раздумывая, я быстро взяла эти балетки. Через урок верну их обратно, на это же место. Всё равно все дополнительные – вечером. Это же не воровство? Думаю, что нет.
Врач сказал никогда не менять ботинки, я и на улице, и в школе должна в них ходить, у меня пока всего одна пара, внесезонная, а мне заказали еще одну, летнюю, которую я буду носить и дома. А пока, приходя домой, я три дня уже как тщательно мою подошву и снова надеваю эти проклятые ботинки, из-за которых у меня теперь жизни в школе не будет. Интересно, а зимой как? Не хочу даже думать пока про зиму. Но ведь сплю я без ботинок? Значит, их все-таки можно снимать. Врач сказал: «Если будешь снимать – всё!» Что – всё? Я так поняла, что моя маленькая нога расти не будет, а будет расти только большая, и разница между ними станет всё больше и больше. Но за сорок пять минут ничего не изменится, можно просто представить, что я сплю.
Балетки пришлись мне впору, легко налезли. Свои ботинки я сунула в какой-то полупустой мешок и повесила на крючок. Всё, теперь пусть Плужин и Сомов попробуют мне что-то сказать.
Перемена закончилась быстрее, чем я рассчитывала. Пока я раздумывала, шла по лестнице вниз, разговаривала с учителем ОБЖ, меняла ботинки на чьи-то балетки, пятнадцать минут и пролетели. Звонок зазвенел, когда я была между первым и вторым этажом. Я попробовала припуститься бегом, но то ли балетки были слишком маленькие, то ли я так привыкла к новому тяжелому ботинку, то ли у меня вообще что-то ужасное произошло с ногами, но полететь наверх я не смогла.
Таисья недавно рассказывала нам о том, что есть такие школы, за границей и в Москве тоже, где и звонков не бывает, и ты можешь ходить в школу в чем хочешь, в любом виде, кроме голого, и на уроке можно спать или заниматься своими делами, если тебе не интересно.
Таисья рассказывала это с возмущением и назиданием, но чем больше она говорила, тем мне было непонятнее – что же ее так возмущает? А главное, зачем она это рассказывает нам, потому что любой согласился бы учиться в такой школе, где на уроке можно лечь на пол, начать рисовать прямо на полу или на стене или взять и выйти в коридор, если ты считаешь, что тебе неинтересно, какие именно обезьяны живут в Конго – с длинными хвостами или совершенно бесхвостые, и когда они потеряли эти хвосты – не тогда же ведь, когда и мы?
Плужин с Сомовым как будто ждали меня у входа в класс географии. Увидев меня издалека, они заорали, заулюлюкали, стали прыгать на месте, привлекая общее внимание. Сомов что-то выкрикивал, я никак не могла разобрать что, какое-то одно слово. Потом поняла, он кричал «урод».
Я в нерешительности замерла, потому что к ним как-то подозрительно стали присоединяться еще и другие мальчики.
Неожиданно дверь класса открылась – Таисья, оказывается, была внутри, просто запиралась, наверное, пила кофе с конфетами, и теперь в классе будет приятный томительный запах кофе и шоколада. И она, может быть, еще кого-то угостит шоколадными конфетами – кто будет лучше всех, по ее мнению, одет или готов к сегодняшнему уроку. Например, принесет особую линейку для измерения углов на карте, тонко отточенный карандаш, мягкий ластик, обернет тетрадь, атлас, контурные карты и учебник в новенькую обложку и аккуратно сложит это на парте, десять сантиметров от края и семь сантиметров от верха. Таисья подойдет, померит расстояние, подмигнет, всплеснет руками и громко, нараспев скажет: «Во-о-от! Человек готов! Человек готов меняться и постепенно превращаться из обезьяны в разумное существо! Потому что – когда оно слезло с дерева? Когда ему захотелось выглядеть как английский денди и поменять все свои драные обложки на тетрадях!»
Загадочный «английский денди» не дает покоя Таисье, и она приводит его в пример к месту и не к месту. Я, естественно, после самого первого урока географии в шестом классе прочитала вечером, кто такой денди, и не поняла, при чем тут мы. Но Таисья его очень любит и во всем на него равняется.
Денди никогда не опаздывает на урок, денди не носит грязные носки, в которых он много раз пропотел, денди не прикрепляет к парте жвачку, денди, само собой, матом не орет и даже не шепчет, денди умеет разговаривать с Таисьей, не косит в угол, как будто у него все в роду косые до седьмого колена, не шепелявит, как будто у него молочные выпали, а коренные он потерял в боях за чужую котлету в нашей столовке, денди не курит вейп, денди вообще ничего не курит, бросил или не начинал, бережет легкие и зубы, в которых он не ковыряется на уроке, денди, разумеется, знает все реки, столицы мира, самые высокие вершины и залежи полезных ископаемых. Денди тоже восьмиклассник, но он не любит разглядывать чужие задницы в телефоне и абсолютно не озабочен процессом размножения.
– О чем орём? – поинтересовалась, посмеиваясь, Таисья, внимательно всматриваясь в наши лица. Дверь она открыла так резко, что две девочки, прислонившиеся к двери, упали. – На полу не лежим, встаем и заходим в класс! Кто так накурился, что за мерзкий запах опять, что вы курите? Проходим, проходим, не стесняемся! Плужин, что с лицом? Лицо попроще сделай и в класс заходи.
Сомову, который стоял рядом с Плужиным с совершенно гадостной ухмылочкой, она ничего не сказала. Наверное, учителя его боятся. Потому что если Сомов ответит им матом, они ничего не смогут сделать. А мат у Сомова особый, какой-то мерзкий, от которого хочется долго отмываться с мылом, потом закрыться подушкой и не слышать некоторое время больше ничего.
Папа вчера зачитывал нам вслух статью какой-то преподавательницы, доктора наук, которая занимается изучением матерной лексики и пишет разные статьи на тему сохранения мата, как ценной составляющей русского языка. Мама громко возмущалась, требовала, чтобы папа прекратил читать вредоносную статью, которую нашел на каком-то «левом» сайте, а папа читал и читал, дразня маму, пока та не стала отбирать у него телефон и они не поссорились всерьез. Иногда я смотрю на своих родителей и думаю, что я никогда не выйду замуж. Я рожу ребенка, может быть, двух, но жить с мужем в одной квартире не буду никогда. Буду раз в неделю с ним встречаться, показывать ему детей – и всё.
У меня есть одна подружка, Ангелина, в нашем театре. Сейчас она как раз будет играть все мои роли, она мне вчера уже написала об этом с плачущими смайликами. Плачут они из-за того, что им очень меня жалко. У Ангелины самый любимый смайлик – розовый пушистый котенок. И он плачет всегда, когда Ангелине кого-то жалко, или стыдно за что-то, или она хочет о чем-то меня попросить. Она почему-то выбирает именно эту эмоцию.
Ангелина живет с мамой, раньше у них была еще бабушка, спала в одной комнате с Ангелиной. Но потом бабушка умерла, и теперь Ангелина с мамой живут вдвоем в такой же двухкомнатной квартире, как и мы. Если бы мне предложили вернуться в какой-то исторический момент и там что-то изменить, и надо было бы выбрать только один-единственный момент, я бы растерялась. Может быть, выбрала бы тот момент, когда на Земле построили первый многоэтажный дом. И люди стали жить в крохотных тесных помещениях, друг над другом. И все теснее и теснее, больше и больше людей вместе, всё ближе и ближе друг к другу, сбиваясь в большой запутанный комок из несчастных душ. И всё в мире с тех пор пошло не так. В нашем мире вообще очень многое не так, мы часто говорим об этом на уроках с Таисьей. Убийства, голод, куча страшного оружия, мусора, болезни, страх… Но в какую точку нашей истории надо вернуться, чтобы всего этого не было? В самое далекое прошлое, где мы еще, по мнению Таисьи, спали на деревьях, обмотав свой тонкий хвост об ветку, чтобы случайно не свалиться во сне и не достаться голодному саблезубому тигру, подстерегающему нас внизу?
У Ангелины есть отец, но они никогда не были женаты с ее мамой. И при этом у них очень хорошие отношения. Отец часто приходит к Ангелине, раз в неделю уж точно, приносит ей подарки, водит в театр, ресторан, покупает одежду. Они никогда не ругаются с Ангелининой мамой, наоборот, дружат, так говорит Ангелина. Наверное, это правда.
Однажды мы видели их в нашем парке в субботу. Они шли втроем, весело смеялись, родители подмигивали друг другу, а Ангелина крепко держала за руку обоих. А мои, как назло, именно в этот момент начали ругаться. У мамы даже есть специальное название для таких ссор – «прогулочная драка». Мои родители не дерутся, точнее, не дерутся на улице, могут только слегка подраться дома – не страшно, просто кинуть что-то друг в друга, толкнуть, может быть, пару раз ударить. Они довольно быстро мирятся после этого. Но я каждый раз боюсь, что, как это было однажды, маленькая ссора превратится в огромный страшный скандал.
Мне было шесть или семь лет, и так сильно родители больше никогда не ссорились. Я помню, из-за чего это было. Тогда я не очень поняла, в чем дело, но я услышала, что папа обижает маминого Бога, потому что Бог – мамин. У папы Бога нет, он в него не верит. И мама стала защищать Бога, а папа смеялся. И тогда мама толкнула папу, а он – ее. Мама отлетела в сторону, полежала немножко, а потом вскочила и стала бросать в папу всё, что было под рукой, – мои игрушки, Вовины тетради, разрывая их зачем-то напополам, чашки, ножи – мы как раз обедали в комнате, потому что все вместе в кухне мы можем только перекусить, и в выходные или вечером мы обычно едим в большой комнате, где ночью спят родители. Папа схватил маму, скрутил ей сзади руки.
Тогда я думала, что он хочет ее убить. Но теперь я думаю, что, наверное, он хотел, чтобы она успокоилась. Потому что он часто ее спрашивает: «Тебя скрутить или сама успокоишься?» Мама отвечает: «Попробуй, увидишь, что будет!» При этом они могут смеяться и продолжать как ни в чем не бывало разговаривать, но я всегда боюсь.
И я бы не отказалась быть на месте Ангелины. Чтобы мои родители не ругались с утра до вечера. Они тоже иногда ходят вечером вместе гулять, вдвоем, вокруг нашей пятиэтажки. Но бывает, что выйдут веселые, а вернутся злые и разобиженные друг на друга. Как-то я слышала, что мама объясняла своей подруге, что у них с папой такая форма существования – в вечной борьбе. Но мне не кажется, что им самим это нравится.
– Оригинальненько… – Я не поняла сначала, что Таисья смотрит на меня. Она возвышалась посреди класса, покручивая свои крупные желтые бусы, похожие на медовые сливы, у которых тонкая упругая кожица и сладкая мякоть, сочная, тут же стекающая по подбородку, по рукам густым липким соком. – Ну, Кулебина, поделись лайфхаком – чё, модно нынче в разных балетках ходить?
Я замерла. В смысле – в «разных»? Так я же вроде надела чьи-то балетки… Она и говорит «в балетках»… А почему – в разных? Они же обе черные…