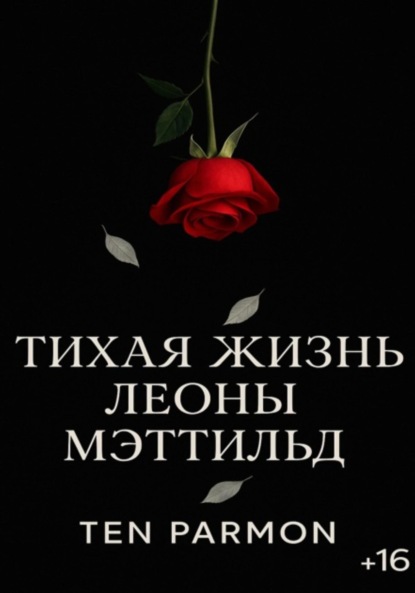
Полная версия:
Тихая Жизнь Леоны Мэттильд
– Я не просил, чтобы кто-то за мной ухаживал, – сказал он с порога.
– А я не просила, чтобы меня сюда посылали, – ответила Леона, глядя прямо. Он посмотрел на неё с удивлением.
– Ладно. Если уж пришла – делай дело. Она мыла кухню. Он читал. Она
вытирала пыль – он делал вид, что её нет. И только когда она уже прощалась, он сказал:
– У тебя стальные глаза.
– Что?
– Как у людей, которые падали. Но не разбивались. Вечером, лёжа в своей комнате, Леона долго смотрела в потолок. День был насыщенным, но внутри – удивительное чувство: будто она стала ближе к себе. Не просто выжила, а начала собираться воедино – по кусочкам, по встречам, по людям. И хотя в этом городе было много серого, она впервые почувствовала: в ней что-то светится. Не ярко, но – не гаснет. Город был серым, ветреным, с разбитыми тротуарами и выкриками уличных торговцев. Но он больше не казался ей враждебным. Напротив – он начал отзываться чем-то родным. Бейфорд, казалось, знал, что значит терять. Его улицы говорили об этом облупившейся штукатуркой, старушками на лавках, чьё молчание весило больше, чем слова. И это было честно. Леона чувствовала: ей нужен был не глянец, а правда. Даже если та была серой. На следующее утро, проснувшись раньше обычного, Леона услышала, как внизу хлопнула дверь. Часы показывали 6:14. Внизу кто-то шагал туда-сюда, и голос миссис Уэллс звучал напряжённо, будто спорила с кем-то по телефону. Через десять минут она постучала в дверь Леоны. – Извини, что беспокою. Там кое-что случилось. Моя подруга – сестра в приюте святой Агнессы. У них недостача персонала. Я… Я назвала твоё имя. Ты не обязана, но они очень просят помощи. Не навсегда – всего на неделю. Просто пока они не найдут кого-то постоянного. Леона смотрела в
лицо женщины – усталое, взволнованное, но с тем самым выражением, которое появляется, когда кто-то в беде.
– Я пойду, – тихо сказала она.
Приют святой Агнессы стоял на окраине города. Кирпичное здание с выцветшей табличкой и широким двором, где в утреннем тумане мелькали силуэты – дети. Кто-то бегал, кто-то сидел на ступеньках с книгой, кто-то плакал, свернувшись на лавке. Старшая медсестра – энергичная женщина по имени Глэдис – ввела Леону в курс дела: завтрак,
распределение детей, занятия, дневной сон, уборка, душ, вечерние разговоры.
– Самое главное – быть рядом. Иногда это больше, чем еда и лекарства, – добавила она.
– У нас дети, которых били, бросали, предавали. Они умеют чувствовать ложь и боятся правды. Найди середину. В первый день Леону прикрепили к девочке по имени Лили – худенькая, бледная, с растрёпанными волосами и привычкой прижимать к груди старую плюшевую панду.
– Она никому не отвечает, – предупредила Глэдис.
– Просто молчи рядом. Этого достаточно. Леона молчала. Сидела, когда Лили играла одна. Ставила кружку какао и не спрашивала, хочет ли та
пить. Завязывала ей шнурки. Расправляла одеяло. И только на третий день услышала:
– Твоя мама тоже кричала? Леона вздрогнула.
– Иногда. Когда не знала, что сказать.
– Моя кричала, даже когда спала. Я слышала. Леона кивнула, не говоря ни слова. И Лили впервые посмотрела ей в глаза. Долго. Внимательно. И отодвинулась чуть ближе. Неделя в приюте прошла как в тумане – в трудах, запахе пластилина, влажных полотенец и детских слёз. Но когда пришло время уходить, Глэдис сказала: – У тебя есть дар. Ты ничего не навязываешь. Просто остаёшься. Иногда это – всё, что им нужно. Вечером, возвращаясь домой, Леона шла пешком. Город был серым, ветреным, с разбитыми тротуарами и выкриками уличных торговцев. Но он больше не казался ей враждебным. В его уродстве она начала видеть настоящее.И когда она подошла к дому, Доминик уже ждал на крыльце.
– Как ты?
– Не знаю, – сказала она.
– Как будто всё болит. Но внутри – тише стало.
Он протянул ей бумажный пакет.
– Я испёк пирог.
– Серьёзно?
– Нет. Купил. Но главное – подано с искренностью. Они сидели на ступеньках, ели пирог прямо из коробки, молчали. И Леона подумала, что иногда – именно молчание делает людей ближе. И в этот вечер она уснула впервые без тревоги. Ни прошлое, ни будущее не кричали. Было просто сейчас. И жизнь, которую она строила – не потому что должна, а потому что, возможно, впервые этого хочет.
ГЛАВА 5
Тени в полдень.
Солнце в Бейфорде было редким гостем. Оно появлялось робко – будто извиняясь за визит – и исчезало, не обещая вернуться. В те дни, когда небо прояснялось, люди замечали друг друга чаще. На лавках сидели дольше, окна открывались, и дети выбегали во двор, крича громче обычного, как будто отвыкли слышать собственные голоса на свободе. Леона проснулась в такое утро – светлое, обманчиво тёплое. В доме пахло поджаренным хлебом, сырой древесиной и старой газетой – миссис Уэллс сушила что-то на батарее. Было воскресенье, а значит – ни работы, ни приюта, ни ожиданий. Но именно в такие дни одиночество проступало резче. Она вышла в парк. Дорожки были усыпаны гравием, по периметру стояли чёрные скамейки, облупленные урны, и одинокая карусель, которую больше не чинили. Но люди приходили. Сидели, как на перроне,
– не в ожидании, а чтобы почувствовать, что поезд всё же может быть.
– Всё ещё не уехала? – спросил голос сбоку. Доминик. В чёрной куртке, с
чашкой кофе и влажной книгой на коленях.
– Нет. Ты тоже нет, – отозвалась она.
– Я родился здесь. И всё ещё не понимаю, зачем. Они посмеялись. Не
потому что было смешно, а потому что надо было как-то заполнить паузу между фразами.
– Пойдём, – сказал он. – Я покажу тебе то, чего здесь нет на картах. Они шли по краю города, туда, где улицы заканчивались и начинались поля. Здешний пригород не был красивым – заборы из сетки, дома без штукатурки, запах сырой земли и битого шифера. Но там была тишина. Не та, что пугает, а та, в которой человек слышит себя.
– Здесь раньше была мельница.
– Доминик указал на развалины. – Моя бабушка работала в ней. Когда всё
закрылось, она сказала, что город начал выдыхаться. Что больше никто не месит тесто с молитвой.
– А ты?
– Я не молюсь. Но иногда смотрю на руки и думаю – может, и правда, есть в них что-то большее, чем кости. Леона не ответила. Она вспомнила, как в детстве мама мыла пол, стоя на коленях, шепча что-то под нос.
Тогда ей казалось, что это заклинание. Позже – что это проклятие. А теперь – что это была попытка не исчезнуть. Они остановились у пруда. Вода была чёрной, застойной, с бледными бликами на поверхности. Но вокруг – ни души. Только камыши и ветер. – Иногда мне кажется, – сказал Доминик, – что мы оба сюда попали не случайно. Ты ведь могла уехать?
– Могла, – тихо сказала Леона. – Но, наверное, мне нужно было место, где никто не будет спрашивать, кем я была. Только кто я сейчас. Он посмотрел на неё. И в его взгляде не было ни жалости, ни интереса. Только принятие. Спокойное, тёплое. Как кружка в руках в холодный вечер. Дома она записала в блокнот: «Некоторые города не принимают. Но Бейфорд – он не прогоняет. Он просто остаётся рядом, даже если ты молчишь». На следующий день она вернулась в приют. Лили сидела в углу, рисуя чёрной ручкой. На листе – фигура без лица. Руки длинные, ноги вросшие в землю.
Леона села рядом, не спрашивая.
– Это ты? – наконец произнесла.
– Нет, – сказала Лили. – Это – когда меня не было.
– А теперь ты где? Лили помолчала, потом дотронулась до её руки.
– Тут.
Когда Леона возвращалась домой, на лестнице она встретила соседа – старика с третьего этажа, который всегда подбирал свои шаги, как слова. Он протянул ей бумажный свёрток. – Это… так. Просто за хорошее утро. Внутри был пирог. Домашний. С яблоками. Она развернула его и вдохнула запах. И вдруг – в самый неожиданный момент – заплакала. Не от горя. От того, что кто-то вспомнил её без просьбы. И это стало началом. Не новым. Но честным. Ночью Леона не спала. Шторы дрожали от ветра, стены дышали старостью, а за окном кто-то кричал – может, кошка, может, пьяница. Но всё это звучало далеко, как будто от жизни, к которой она больше не принадлежит. Она встала с кровати, набросила свитер, подошла к окну и медленно опустилась на колени. Сложила руки, потом разомкнула их, подняла ладони вверх. Слов не было. Только дыхание. И тишина между ним. Но спустя мгновение шёпот всё же появился – тихий, почти неслышимый: – Прости меня… За то, что молчала, когда нужно было кричать. За то, что закрывала глаза, когда нужно было смотреть. За то, что верила не туда, куда вело сердце. И если можно… если Ты слышишь… сделай так, чтобы я осталась человеком. Чтобы во мне не угасло то, что способно любить. Не дай мне ожесточиться.
Слёзы текли без рыданий. Чистые. Как будто через них выходило всё то, что держалось внутри слишком долго. – Благослови маму… где бы она ни была. Доминика – за доброту. Лили – за то, что ещё не поздно. И меня… не за что-то. Просто – потому что я жива. Она ещё долго стояла в этой тишине. А потом поднялась, вытерла лицо и легла. Утро пришло, как всегда. Но внутри стало будто светлее. И это было новым началом.
ГЛАВА 6
Когда слова молчат.
Леона проснулась среди ночи, словно кто-то дотронулся до её плеча. Комната была тёмной, за окном слышался гул далёкой трассы, и только часы на стене мерцали красным циферблатом, отсчитывая каждую секунду бессонницы. Она встала, надела тёплый кардиган, тихо прошла на кухню и налила себе воды. Из-под двери слышался глухой кашель – это миссис Уэллс опять заснула с включённым телевизором. В такие минуты всё вспоминалось обострённо. Дом, в котором никто не говорил правду. Комнаты, в которых молчание звенело сильнее крика. И руки матери, поднятые к небу – не от молитвы, а от отчаяния. Леона боялась повторить её судьбу. Стать женщиной, у которой внутри – пустота, забитая долгом. Она открыла блокнот и нацарапала наугад: «Никто не обязан спасать. Но если однажды ты всё же решишься остаться рядом – делай это не из жалости, а потому что сердце шепчет: здесь – твоя битва». На следующий день в приют пришёл новый ребёнок – мальчик лет восьми, с тонкой шеей и взглядом, который будто не доверял ни одному предмету в комнате. Звали его Эйден. Он сидел, не двигаясь, пока вокруг играли и смеялись, будто всё это – спектакль, в котором он не участвует.
– Привет, – сказала Леона, присаживаясь рядом. – Я Леона. Он не
ответил.
– Тебе тут не нравится? Он лишь пожал плечами.
– Я знаю, что это не дом. И здесь чужие стены. Но они не кусаются. Я
проверяла. Она подмигнула. Эйден чуть заметно дёрнул уголком рта – почти улыбка. Почти.
– Можешь просто сидеть. Я буду рядом. И она осталась с ним до самого обеда, не говоря лишнего. Только присутствуя. И впервые за долгое время Леона почувствовала – это тоже может быть заботой. Не говорить, не
исправлять, не давить. Просто – быть. Вечером Доминик снова появился у порога. Он принёс коробку с книгами.
– Я подумал, ты любишь запах старой бумаги. Это библиотека моего детства.
– А тебе они не нужны?
– Мне нужны – ты. А книги… они только мост. Они устроились в углу кухни, на полу, окружённые стопками. Он читал вслух старые абзацы, вставлял свои комментарии, подражал голосам героев. Леона смеялась так, как давно не смеялась – без защиты, без подозрения, что сейчас за этим последует что-то плохое. Когда он ушёл, она не плакала. Просто долго
смотрела на закрытую дверь. И впервые за много лет не чувствовала, что за ней – угроза.
Поздней ночью, снова не в силах уснуть, она вышла во двор. Небо было ясным, звёзды рассыпались над городом, как будто кто-то нарочно растряс их над Бейфордом в этот час. Леона подняла лицо к небу, всматриваясь в высоту. Затем, медленно, сдерживая дрожь, подняла руки вверх. Ладони – открытые, как страницы. Шёпот родился где-то внутри, без принуждения:
– Я не знаю, что делать. Но если Ты ведёшь – не дай мне свернуть. Если я – на распутье, направь туда, где не будет лжи. Дай мне силы быть человеком, когда так хочется исчезнуть. Прости… если не всегда была благодарной. И благослови тех, кто рядом. Пусть даже ненадолго. Ветер тронул её волосы, словно подтверждая услышанное. И на мгновение – очень короткое, почти неуловимое – в груди стало так спокойно, как будто всё, что было болью, улеглось, будто устало. И дало место новой надежде. На следующее утро в приюте её ждал рисунок. Эйден оставил его на столе. На листе – две фигуры, держащиеся за руки. Подписано: «Ты не чужая». Она сжала бумагу в ладони и прошептала: – И ты – не один. Когда она вернулась домой с рисунком Эйдена в кармане, улицы Бейфорда уже начали заполняться вечерним дымом: запах мяса из дешёвого кафе, сигареты из-под подъезда, мокрый бетон после дневного ливня. Всё это было чужим, и всё же становилось её частью – как будто город не отталкивал, а медленно, терпеливо врастал в её жизнь.В комнате было душно. Леона приоткрыла окно, села на кровать и достала старый альбом. Между страницами – засушенный клевер, фотография из детства, письмо от матери, написанное за два месяца до её смерти. Она редко его перечитывала, потому что в этих строчках было слишком много правды, от которой не спастись даже во сне. «Леона, ты не обязана быть сильной всегда. Ты имеешь право упасть, имеешь право злиться. Но если в тебе когда-нибудь загорится свет – не туши его только потому, что кому-то он мешает спать…» С этими словами она легла. И впервые не закрыла глаза от страха, а просто – уснула.
Через несколько дней Доминик снова позвал её в старую часть города. Там стоял полуразваленный театр, давно не работающий. Внутри пахло пылью, гниющим деревом, но на стенах ещё висели афиши, а на сцене – облупленные кулисы, как смятая ткань чужого прошлого. – Я сюда прихожу, когда хочу напомнить себе: всё разрушается, но что-то
– остаётся, – сказал он.
– Даже если на это никто больше не смотрит?
– Даже если. Они сели на балкон, где раньше сидели зрители. И молчали. Иногда молчание говорит больше любых признаний. Леона вдруг почувствовала: она не обязана рассказывать всё, чтобы быть понятой. Бывают люди, которым достаточно – присутствовать. Возвращаясь в приют, она услышала крик. Лили сидела на полу и дрожала. Порез на руке, кровь на футболке. Вокруг паника – воспитательница звонит в скорую,
дети замерли. Леона подбежала, опустилась рядом и обняла девочку, несмотря на кровь.
– Всё хорошо. Слышишь? Я здесь. – Я не хотела… просто… – задыхалась Лили.
– Оно внутри. Я не могу выключить.
– Не надо выключать. Надо – выговорить. Или просто – быть. Дыши со мной. Они сидели, пока не приехала машина. Леона поехала с Лили в больницу, держала за руку, пока ей зашивали порез. Потом – сидела рядом, когда та уснула. Она не задавала вопросов. Потому что слишком хорошо знала: иногда вопросы – это насилие. А молчание, разделённое на двоих, – путь к исцелению. Поздно ночью, уже дома, она снова вышла во двор. Воздух был холодным, но не злым. Леона села на ступеньки и подняла голову к небу. Молиться она не собиралась. Но слова сами нашли её: – Если Ты всё ещё рядом… не дай мне сдаться. Если есть хоть один ребёнок, которому я могу быть светом – пусть он меня найдёт. А если я – заблуждаюсь… дай мне хотя бы честь пройти это до конца, не потеряв себя. И когда она закрыла глаза – не в поисках ответа, а в тишине – ей вдруг показалось: кто-то всё же слушает. Даже если молчит.
ГЛАВА 7
Место, где гаснут крики.
Утро в приюте началось с запаха разогретых сосисок и скрежета вилок по пластиковым тарелкам. Леона привыкла к этим звукам – они не были добрыми, но и не были жестокими. Это был фон, с которым теперь жила.
Но в тот день что-то изменилось: в столовой царила странная тишина. Дети переглядывались, словно случилось что-то, о чём нельзя было говорить вслух. – Что-то не так? – спросила она у Греты, одной из старших девочек. Та молча кивнула в сторону окна. У крыльца стояла женщина с чемоданом и ребёнком. Ребёнок – лет шести, с чёрными кудрями и заплаканными глазами – вцепился в юбку матери. – Это кто? – прошептала Леона. – Новый. Её сын. Она оставляет его. Леона почувствовала, как что-то холодное проходит по спине. Ещё один. Ещё один маленький человек, которому объяснили: любовь – это не обязательство. Она вышла на улицу. – Здравствуйте. Я могу помочь? Женщина, не глядя, протянула бумаги. – Я не справляюсь. У меня другой мужчина. Ему… не нужен чужой. Эти слова резанули больнее, чем она
ожидала. Леона посмотрела на мальчика. Он стоял, будто не слышал. Но его руки дрожали.
– Как его зовут?
– Нико.
– Нико… хочешь, я покажу тебе, где можно рисовать? Он не ответил. Но, когда она протянула ему руку, не отдёрнул. А это было уже началом. Вечером Леона осталась одна в классе. Нико не разговаривал. Он рисовал. Тонкие, нервные линии, однотипные лица. Всё – без глаз. – Почему у них нет глаз? – мягко спросила она. – Потому что они не видят, – ответил он вдруг. Его голос был тонким, как у тех, кто давно не говорил. – Они только делают вид. Эта фраза пронзила её. Леона молча присела рядом. И сказала: – Иногда люди не смотрят в глаза, потому что боятся увидеть правду. – Я тоже боюсь. Но всё равно рисую. Она кивнула. И в душе ощутила странное тепло: этот ребёнок – зеркало. Он не знал её, но отражал всё то, что в ней до сих пор болело. Доминик пригласил её в парк за чертой города. Там почти никто не гулял – озеро, три скамейки и старая часовня, давно закрытая.
Они сели у воды, наблюдая, как птицы осторожно садятся на гладь.
– Почему ты всё это делаешь? – спросила она.
– Что именно?
– Всё. Приносишь книги, привозишь еду в приют, находишь время просто молчать рядом… Он не ответил сразу.
– Потому что я знаю, каково это – когда никто не остаётся. Когда ты не нужен не потому, что плохой, а потому что кто-то решил: ты – ошибка.
– Ты был в приюте?
– Нет. Но я был рядом с ним. Всю жизнь. В своём доме. Он посмотрел на неё с такой открытостью, что Леона отвернулась. Не потому что испугалась. А потому что в его взгляде – не было жалости. А это ранило больше всего. В ту же ночь, когда она закрыла глаза, ей приснился сон: она стояла в пустом классе, и на доске кто-то написал красной краской – «Ты не виновата». И всё, что было подавлено, всколыхнулось. Она проснулась в слезах, но впервые – не от страха, а от облегчения. Она встала, прошла на кухню, достала блокнот и написала: «Если кто-то в этом мире остаётся – я тоже останусь. Даже если больно. Даже если страшно. Потому что кто-то,
однажды, останется для меня». Утром она пришла в кабинет заведующей и сказала:
– Я хочу взять одного из детей под опеку. Не формально. Просто – быть
рядом.
– Леона…
– Я не прошу зарплаты. Я прошу – разрешения быть нужной. Молчание длилось долго. Потом последовал только кивок. И этого было достаточно. В тот же день, когда она произнесла эти слова, в приюте случилось нечто странное: Нико, тот самый мальчик, которого оставили у ворот, вдруг сам подошёл к ней и сел рядом. Не проронив ни слова, он просто положил
голову на её колени. Леона замерла. В этом молчаливом жесте было больше доверия, чем в любой исповеди.
Она гладила его по волосам, и в голове звучало только одно: «Если он останется – я не уйду». Доминик написал ближе к вечеру. Короткое сообщение: «Если сегодня будет тяжело – просто позвони. Не ради меня. Ради себя.» Она не ответила. Не потому что не хотела – а потому что боялась, что скажет слишком много. Всё в ней сейчас было хрупким: как снежинка, упавшая на ладонь. Одно дыхание – и растает. Поздно ночью, уже дома, она обнаружила у двери свёрток. Там был плед и открытка. Без подписи. Только строчка от руки: «Если в тебе огонь – не туши его дождём чужих сомнений.» Она прижала ткань к груди. И – впервые за долгое время – уснула, не дождавшись рассвета. На следующий день в приюте устроили занятие по сказкам. Леона попросила каждого ребёнка придумать героя, которого нет в книжках, но который помогал бы тем, кого не слышат. Дети начали рисовать. Нико нарисовал птицу с глазами на крыльях. – А почему так? – спросила она. – Чтобы она видела, когда летит. Даже если глаза закрыты. Он всё чаще говорил с ней. Всё чаще – смотрел в глаза. А однажды вдруг спросил: – А ты кого потеряла? Её горло сжалось. – Маму. И кое-что в себе.
– А нашла?
– Пытаюсь. Он кивнул. И сказал почти по-взрослому: – Тогда, наверное, тебе не надо быть птицей. Тебе надо быть гнездом. Она не ответила. Потому что не могла. Потому что слова – вдруг стали слишком громкими, а чувства – слишком настоящими. Вечером Доминик снова появился. Принёс чай и мяту. – Я научился не бояться, – сказал он, садясь напротив. – Но я всё ещё учусь доверять. – Я боюсь. И не умею доверять. – Тогда давай учиться вместе. И в тот вечер, впервые, она позволила себе не быть сильной. Не потому, что устала. А потому, что рядом – оказался человек, который не просит силы, а принимает слабость. Перед сном Леона снова вышла на улицу. И, глядя на звёзды, сказала полушёпотом: – Если всё, что со мной происходит – не случайно, тогда я принимаю. Не как наказание, а как путь. Только дай мне сердце, которое не закроется, даже если снова будет больно. А внутри, в груди, на самой глубокой глубине – что-то ответило. Не голосом. Не знаком. Просто – присутствием. Тихим, но живым.
ГЛАВА 8
Те, кто остаются
Утро было серым и плоским, как выстиранная простыня на верёвке. Не было ни ветра, ни солнца – лишь равнодушное небо и вялое движение на улицах Бейфорда. Леона смотрела из окна приюта, держа в руках чашку с уже остывшим кофе. Всё вокруг будто замерло. И в этом замирании – она почувствовала: приближается что-то важное, хоть и неясное. Дети просыпались медленно. Лили вышла в коридор босиком, потянулась,
как кошка, и устало посмотрела на Леону:
– Можно сегодня не идти на занятия? Просто – остаться?
– Можно, – кивнула та. – Мы никуда не торопимся.
В том и была правда: приют не имел расписания, как школа, и не гнался за результатами, как терапевт. Это было место, где нужно было просто дышать – пока не начнёшь чувствовать себя живым. В середине дня приехала комиссия. Молодая женщина с папкой, мужчина в очках, третий
– равнодушный, с тембром голоса, будто он читал счета, а не смотрел на судьбы.
– Нам нужно посмотреть помещения, поговорить с детьми.
– Конечно, – ответила заведующая и позвала Леону:
– Проведёшь их? Леона внутренне напряглась, но кивнула. Она повела их по коридорам, рассказывала о быте, показывала спальные, учебную комнату, столовую. Всё было чисто, но по-бедному. Краска местами облупилась, столы скрипели, книги на полках были из другой эпохи. Когда они вошли в комнату Лили, девочка встала и, не дожидаясь вопросов, сказала: – Здесь лучше, чем дома. Здесь – не кричат.
Сотрудники переглянулись. Кто-то сделал пометку. А Леона почувствовала, как в ней сжалось что-то тёплое. Не от страха – от гордости. Кто-то, наконец, сказал вслух то, что она боялась признать: в приюте было лучше, чем в мире, где эти дети родились. После визита комиссия уехала. Заведующая покачала головой: – Не знаю, что они решат. Возможно, сократят финансирование. – Но дети ведь остаются?
– Конечно. Пока я здесь – никто не уйдёт.
Леона вышла на улицу. Осень вступала в свои права. Листья шуршали под ногами, и даже воздух стал пахнуть иначе – печально, но по-домашнему. На скамейке у ворот сидел Доминик. Он держал в руках коробку с вареньем и старую книгу. – Принёс для вашей кухни, – сказал он, – и вот… нашёл в
подвале. «Притчи о любви и боли». Странная штука. Но, думаю, тебе понравится. Она села рядом. – Ты всегда знаешь, что мне нужно?
– Нет. Просто наблюдаю. А когда видишь человека по-настоящему —
знаешь, что принести.
– А если я не хочу, чтобы меня видели?
– Тогда я просто рядом. Они замолчали. Лист упал ей на плечо. Она не смахнула его.
Вечером в приюте устроили небольшую «тихую ночь». Без музыки, без игр – просто чтение книг, тёплое молоко и свечи. У кого-то дрожали руки, кто-то засыпал у стены, кто-то смотрел в пламя, будто в нём можно было
прочесть ответ. Нико тихо подошёл к Леоне и сказал: – Я запомнил твой запах. Он как дом.
Она сдержала слёзы. Потому что не хотела испугать его.
– А ты – как огонёк, Нико. Маленький, но настоящий.
Он кивнул и сел рядом. Ночью она снова вышла во двор. Ветер был сырой, но не злобный. Леона прижала к груди книгу, подаренную Домиником, и
прочитала наугад: «Иногда дом – это не стены. Это человек, который не
уходит, когда ты разрушаешься.»
Она закрыла глаза и прошептала: – Я останусь. Ради них. Ради себя. Даже если всё вокруг сгорит – я стану пеплом, который согреет. Впервые за долгое время ей не хотелось бежать. На следующее утро в приюте появился человек, которого никто не ждал. Мужчина в дорогом пальто, с лицом, которое будто не умело выражать эмоции, с портфелем и



