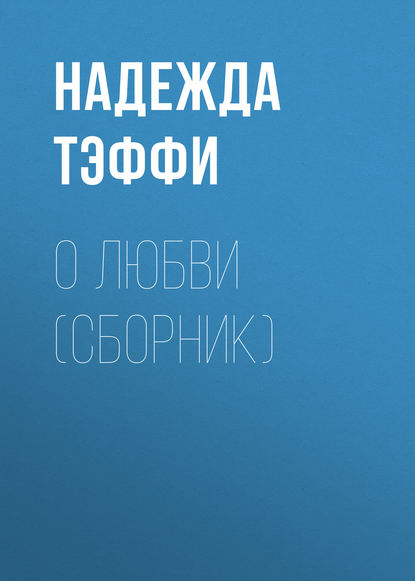 Полная версия
Полная версияО любви (сборник)
Послали за бельем к прачке, купили на дорогу клетчатую кепку, пошли купаться. Но Гастон не смог войти в воду.
– Мне холодно, – сказал он.
Он был как больной. Вечером он сказал Наташе:
– Я рассчитываю вернуться дней через шесть. Но если и придется задержаться немножко – ты не беспокойся.
И знай, что я заплатил за комнату вперед за две недели.
Наташа не почувствовала благодарности за его милую заботу. Она почувствовала только тревогу от слов «две недели». Значит, может случиться, что разлука растянется на две недели.
– Ты хочешь, чтобы я писала тебе?
– Ну конечно. Пиши до востребования на буквы Л. Д.
– Л. Д.?
– Да, да. Л. Д. Я тоже буду писать.
Вечером Наташа отказалась идти в ресторан «на работу». Побродили по берегу.
Вечер был неизъяснимо тоскливый. Маяк бросал таинственные сигналы кому-то в далекие туманы. Два коротких луча, один долгий. И опять – два коротких, один долгий. Настойчиво, упорно. И не ждал ответа…
– Значит, ты будешь писать мне? – снова спрашивала Наташа.
В береговом кафе играл оркестр. Колыхались несколько пар.
Гастон и Наташа, не сговариваясь, пошли на свет и музыку.
Сели за столик.
– Хочешь? – спросил Гастон и привстал. Он звал ее танцевать.
Немного удивленная, она положила руку ему на плечо.
«Как он изумительно танцует! Точно профессионал», – вспомнила она свое первое впечатление.
Лицо у него было очень бледное, как, впрочем, и весь этот день, с той минуты, как он прочел письмо. Глаза полузакрыты, губы чуть-чуть шевелились, точно он говорил что-то.
«Он не со мной танцует, не со мной, не со мной!»
Наташа улыбалась и двигалась как автомат.
«Как все это странно! – думала она. – Почему я не могу спросить у него, о ком он думает? Он, конечно, не ответит, но с моей стороны гораздо естественнее спросить, чем делать вид, что считаю все благополучным и верю ему. Точно меня нанял кто-то роль разыгрывать».
Ночью она не спала.
Под утро увидела мутное море и джентльмена-рыбу, который, вытянув обе руки вбок и почтительно склонив свою плоскую голову, делал пригласительный жест.
Русские мальчики приплясывали на берегу и поддразнивали Наташу, напевая:
Полюбила рыбу-судачину,Принимала рыбу за мужчину.И, проснувшись, она все еще как будто слышала их голоса и смех.
Сон дурацкий и, пожалуй, даже веселый, а потянулась от него тоска, как туман, на все утро.
Гастон быстро уложил вещи, отвез их на вокзал и, вернувшись снова, долго шептался с кассиршей.
«Не обокрал бы он ее на прощанье», – спокойно подумала Наташа.
Такая мутная боль наполняла всю ее душу, что эта безобразная мысль была даже приятна. Ведь это было нечто простое, бытовое, реальное. Люди живут во всякой жизни. Счастливые в хорошей, несчастные – в дурной. Но в подозрениях, догадках, трепетах и снах, когда они составляют весь быт и уклад, жить нельзя.
Гастон предложил позавтракать в каком-нибудь ресторанчике, а потом он один пойдет на пристань. Наташа не должна его провожать. Он этого не любит.
– Хорошо, – покорно согласилась Наташа. – Я буду с пляжа смотреть на твой пароход.
Завтрак прошел напряженно и скучно. Гастон был рассеян. Наташа все складывала в уме разные фразы, которые произнести не решалась.
Наконец она сама сказала:
– Надо торопиться, мальчик, ты опоздаешь.
Тогда он встал, поцеловал ей руку, потом, точно вспомнив что-то, поцеловал в губы.
– Ну вот. Я пойду. Не скучай, ведь это ненадолго. Пиши мне в Копенгаген, до востребования, Р. Т.
– Р. Т.? – удивилась Наташа. – Ведь ты вчера сказал, что на Л. Д.!
– Ну да, на Л. Д., – ответил он рассеянно.
И она поняла, что ее письма ему не нужны.
Они вышли вместе.
– Можно мне проводить тебя до угла?
– Хорошо.
На углу он остановился, снова поцеловал ей руку и, сделав приветственный жест, совсем чужой, быстро, не оборачиваясь, пошел вдоль улицы.
21
Elle commenςait de savoir que les absents sont toujours raison.
Fr. Mauriac[61]Поэты, писатели, психиатры и многие прочие знатоки человеческой души убеждены и других убеждают, что для тяжелого настроения и даже для глубокого горя лучшим средством, утишающим страдания, является природа.
Природа говорит о вечности. А мысль о вечности (так считают эти знатоки) очень приятна для скорбной души. Поэтому, например, принято скучающего миллионера отправлять в далекие путешествия, конечно в сопровождении врача, снабженного термометром и машинкой для измерения давления крови.
Миллионер долгие дни смотрит на беспредельное море и долгие ночи созерцает безначальность и бесконечность небесного свода, и окрашивается его тоска этой жестокой даже для здоровой души ужасающей и неприемлемой вечностью.
Обыкновенно миллионер путешествия своего до конца не доводит. «Обманув бдительность врача», он бросается в море.
Еще считается полезным указать страдающему на то обстоятельство, что и он и его горе в сравнении со страданиями всего человечества – ничтожество и мелочь.
Унизить человека это, конечно, может. Но почему могло бы успокоить?
Или, может быть, раздавливая каблуком таракана, было бы гуманно объяснить ему, что слону в его положении приходится гораздо тяжелее?..
* * *День был мутный.
Тусклое море дымно сливалось с небом, и долго две серые продолговатые соринки стояли недвижно не то на море, не то на небе. И которая из них была пароходом, увозившим Гастона, Наташа не знала.
Потом она повернулась и пошла домой.
Без Гастона комната стала большой, пустой и странно тихой. Наташа огляделась, точно видела эту комнату в первый раз. Выдвинула ящик стола. Пусто. Там долго валялась его сломанная запонка. Теперь она исчезла.
Наташа быстро оглянула стену у кровати: неделю тому назад она пришпилила туда портрет Гастона. Фотограф на пляже прищелкнул их вместе «кодаком», когда они выходили из моря. Наташи почти не было видно, но Гастон вышел хорошо. Карточка эта висела еще вчера. Сейчас ее не было.
Впрочем, он ведь всегда исчезал так. Бесследно. И это не мешало ему возвращаться.
Целый день пролежала Наташа в постели, почти не меняя позы.
«Он был во всем прав, – думала она. – Нужно удивляться, что он меня не бросил. А он не бросил, потому что даже заплатил из своих денег вперед за комнату. Это мило, это нежно и деликатно. Но ему скучна жизнь со мной. Он – это ясно – искатель приключений. Он звал меня с собой в свою интересную, пеструю жизнь. И так осторожно звал, ни к чему не принуждал… Я мокрая курица. Кислятина. Русская растяпа. Размазня… Как он оживился, когда я согласилась подурить с этим рыбьим голландцем! И чего, в сущности, я хочу? Чтобы Гастон поступил на место, скажем, рассыльного у Манель?.. На тысячу франков жалованья? Стал бы маленьким приказчиком?.. Какая ерунда!»
И она представила себе жизнь, ту, на которую Гастон звал ее. Уголовный фильм, авантюрный роман. Она его спасает… ночью подплывает на лодке… они ползут по крыше… она его, раненного, мчит в автомобиле… Они танцуют на пышном балу, все любуются ею, и он гордится… А под утро она подает сигнал… Добыча – два миллиона. Переодетые странствующими музыкантами, они переходят границу…
Она так и пролежала до утра, не раздеваясь, сжавшись комком, в снах, полуснах.
Утром встала рано и пошла, но не к морю, только не к морю, не к безднам, не к ангельски розовым зорям. Нет, инстинкт еще вел ее к жизни, и она пошла бродить по улицам курортного городка, смотреть на витрины магазинов, разглядывать ерунду: бусы из горного хрусталя, перстенечки из кровавика, сережки из какого-то мутного камня, неделикатно положенные рядом с огромной подставкой под чернильницу из того же материала, что явно свидетельствовало о его нередкости и недрагоценности.
Рассматривала вязаные кофточки, купальные костюмы и шапочки, все грубое и некрасивое и, на ее изысканный вкус парижского манекена, даже смешное…
В ресторан «Pavilion» ей идти не хотелось. Она чувствовала себя усталой и увядшей. Надо сначала хорошенько отдохнуть.
Гастон вернется в худшем случае через две недели, потому что заплатил за две недели вперед. Ну а за эти две недели голландец будет уже привязан на веревочку. Только сначала надо отдохнуть.
Вернувшись домой, увидела подсунутое под дверь письмо. Сердце так стукнуло, что она не сразу нагнулась поднять.
Но конверт был незапечатан и заключал в себе просто отельный счет.
– Это они для порядка. Немецкая аккуратность.
Проходя мимо конторки, старалась не глядеть на фрау Фрош. Но чувствовала на своей спине ее острые злые глаза. Жаль, что здесь заплачено вперед, а то она могла бы переехать в другой отель. Но с другой стороны, эта жаба Оттилия, наверное, скрыла бы ее адрес от Гастона.
Прошел день. Прошли дни.
Она ходила на почту. Спрашивала письма на свои буквы и на свое имя.
Чиновник перебирал нетолстую пачку.
Она уже знала это синее письмо, которое никто не требует, повестку, газету, бандероль…
– Nichts[62].
Как-то, подходя к почте, увидела фрау Фрош. Она как раз выходила оттуда. Шла с пустыми руками, растерянная, и Наташу не заметила, хотя встретились они нос к носу. Наташа была поражена выражением ее лица. Это было такое тупое, бессмысленное отчаяние, которое, переводя на звук, можно было бы сравнить с ослиным криком. Выражение лица фрау Фрош было отчаянное, как ослиный крик.
Она быстро, неровной походкой пошла по направлению к отелю.
– Ждет писем от Гастона! – злобно засмеялась Наташа.
Ей стало противно, что вот она так же, как эта жаба, идет на почту и так же, как она, письма не получит. Может быть, и у нее самой такое же выражение лица?
Она посмотрела вслед фрау Фрош. Первый раз видела она ее на улице. Ввинченная в плечи голова, коротенькие ножки, тугое, словно из пробки, несгибающееся туловище, обтянутое бурой вязаной кофточкой… Бежит на службу…
– Жалкая!
Но Наташе не хотелось позволять себе пожалеть кассиршу. В этой жалости чувствовалась какая-то для нее самой опасность…
Проходя мимо бюро, она нарочно смотрела в сторону. Но фрау Фрош сама окликнула ее.
– Вам уже два раза подавали счет, – сказала она. – Будьте любезны уплатить, наш отель кредита не делает.
И она, торжественно подняв коротенькую ручку, указала на соответствующий плакат на стене.
Наташа удивленно подняла брови.
– Позвольте, – сказала она холодно. – Но ведь мосье Люкэ, уезжая в Копенгаген, заплатил за две недели вперед, а прошло только шесть дней со времени его отъезда.
Наташа теперь близко видела лицо кассирши. Как оно изменилось! Толстые щеки как-то гнусно отмякли и обвисли, как коровье вымя. Портрет племянника переехал к левому уху. Значит, ворот стал широк и она перетягивала его. И Наташа с омерзением поняла, что Фрош похудела…
– Уплатил за две недели? – злобно переспросила кассирша. – У вас в таком случае должны быть наши расписки. Будьте любезны показать.
Теперь рот ее растянулся и выпустил ряд золотых и зеленых зубов разной величины.
– У меня нет расписок… Он, очевидно, забыл их передать мне!.. или просто верил в вашу порядочность. Он на днях вернется из Копенгагена, и все выяснится.
– Х-ха! – сказала Фрош. Не засмеялась, а именно только сказала. – Х-ха! Почему он вернется из Копенгагена?
Наташа смотрела с недоумением.
– Почему он вернется из Копенгагена? – повторила Фрош. – Когда он вовсе не туда поехал. Наш слуга был на вокзале и слышал, как он покупал билет Гамбург – Париж. И видел, как он сел в гамбургский поезд. Ловко он вас надул.
Она помолчала, с любопытством рассматривая Наташино лицо.
– А какое вам дело до того, где он находится? – спросила Наташа.
– А какое мне дело? – задохнулась Фрош, и щеки у нее задрожали. – Если мне нет дела, то вы, очевидно, берете на себя уплатить мне пятьсот марок, которые ваш друг взял у меня взаимообразно, – расписка у меня есть!
– Ах, вот что вас волнует! – презрительно сказала Наташа, точно кассирше следовало волноваться какими-то другими высшими мотивами.
– За комнату я, конечно, заплачу, – продолжала она все с тем же презрением. – А вопрос о своем долге он, конечно, урегулирует, когда вернется. Можете успокоиться.
И она с достоинством вышла.
22
La souffrance, prolongement
d’un choc moral impose, aspiré à changer de forme.
Marcel Proust[63]Есть души, для которых слезы как увеличительные стекла: мир, видимый ими через эти стекла, всегда огромен и ужасающ в своем безобразии.
Те мелкие детали, которые обычному взору представляются почти украшением, потеряв свои нормальные размеры, давят и пугают. Кто видел под микроскопом очаровательнейшее создание божие, символ красоты земной – бабочку, тот никогда не забудет ее кошмарно-зловещей хари. Пленкой «маловиденья» преображен для нас мир чудовищ.
Завыли по ночам сирены. Безнадежно и жутко. Предупреждали кого-то в далеких морях, а тот или не слышал, или не понимал, потому что вой возобновлялся еще и снова и, казалось, уже не предупреждал, а оплакивал.
Безнадежно!
И маяк настойчиво бросал свои лучи – два коротких, один долгий, настойчиво, хотя уже было ясно, что никому он не нужен и никого не спасет.
Но откровеннее и наглее и сирен, и маяка рассказал обо всем страшный ночной сигнал – три красных фонаря, поднятых на береговую мачту. Она увидела их, выйдя из кинематографа, куда забрела случайно. Жиденькое желтое освещение в подъезде этого кинематографа держалось близко, дальше входных ступенек не разливалось. Дальше был черный провал не вниз, а во все небо и во всю землю, во всю безмерность пространства. Черный провал. И над ним высоко по вертикальной линии три красных фонаря.
– Будет шторм, – сказал кто-то.
Но никому это пояснение не было нужно. Ужас не в том, что будет шторм. Ужас в черном провале и висящих над ним, как бы осеняющих его или воплем кричащих красных огнях…
Никакое логическое рассуждение не расскажет человеку так безысходно явно все о нем самом, как вот такие огни.
– Да, – сказала Наташа. Это значило, что она поняла.
Она одна на свете, в одиночестве позорном, потому что брошена и потому что не сама это одиночество избрала.
И раньше, и всегда была она одна. Никому не нужная, не интересная. Манекен для примерки чужих платьев.
Жизнь ни разу не коснулась ее. Война, революция – все прошло мимо. Все отозвалось только как холод, голод и страх.
Пришла любовь и дала душе ее тоже только холод, голод и страх. И в любви этой была она одна. Одинока.
Гадалка предсказала, что она поплывет на родину. На родине чудеса и Христос приходит на зов… Только ведь она, пожалуй, и там будет лишняя и чудес не узнает. Слышать о них будет, а сама ничего не познает. Душа у нее скучная…
Прижалась она сейчас к этому подъезду кинематографа, расцвеченному уродливыми разляпанными плакатами. Стоит в его жиденьком желтом свете… Но вот уж и он гаснет. А дальше – то, черное, глубокое, безмерное…
Потом начались сны. Сны несчастных всегда удивительны и всегда много страшней жизни.
Бодрствующий разум так преданно «подхалимно» служит человеку, подправляет, успокаивает, подвирает где нужно, не верит, когда можно.
Спящий оставлен без этой верной охраны. И к нему, беззащитному, подкрадываются темные ползучие ужасы, опутывают его как свою добычу и овладевают им. Иногда они так сильны, что разрушают всю дневную работу почтенного разума, и человек перестает верить дню со всеми его прекрасными возможностями и твердой логикой и с пути благоразумия покорно и безвольно соскальзывает на путь безумия.
К Наташе приходили сны почти всегда одни и те же. Она все искала какого-то ребенка, которого унесли и где-то мучают.
Вероятно, в этих сновидениях просто отражалось сокровенное ее любви: нежность и тревога за этого «заблудившегося мальчика». Просыпалась, слышала воющий плач сирены и засыпала, чтобы снова бродить по неведомым лабиринтам, и искать, и не находить…
Но в ту ночь, предшествующую знаменательному дню, увидела она сон, непохожий на обычные.
Увидела она старый деревенский дом, где провела свое детство. Увидела большую столовую этого дома и сидящих вокруг накрытого стола.
Сумерки густые, почти ночь. Но огня почему-то не зажигают. И сидят молча.
И вот видит Наташа высокого плешивого старика, различает его пробритый по старинной моде подбородок. На плечах чуть-чуть поблескивают эполеты.
«Дедушка! Покойный дедушка», – узнает Наташа.
И как узнала его, так сразу узнала и других.
Вот прямая, плоскогрудая, на плечах оренбургский платок – тетя Соня. Тоже давно умершая. И в широком кресле сама широкая, низенькая, вся в оборочках и фальборочках и в рюшках – бабушка.
А рядом дальняя родственница, старушонка Пашенька – когда же она умерла? Ах да, еще до войны…
Наташа не успела всех разглядеть, но заметила, что один прибор пустой, и тут же поняла, что все ждут именно этого гостя, который не приходит, и потому так напряженно и молчат.
И вот дедушка говорит:
– Чего же мы ждем, ma chere[64]? Почему не начинаем?
– Маруси еще нет, – прошамкала в ответ бабушка.
«Кто же такая эта Маруся? – подумала во сне Наташа. – Я ведь Маруси совсем не знаю».
– А когда же она прибудет? – снова спрашивает дед.
Наташу страшно волнует слово «прибудет». Это долгое, гулкое «у» – «прибу-у-у-уудет» – заключает в себе что-то особо страшное. Или это вой сирены вошел в ее сон?..
– …числа, – отвечает чей-то голос с другого конца стола.
Наташа не поняла цифры. Она слышала, но как-то не поняла и тотчас проснулась. И, проснувшись, мгновенно забыла весь сон. Осталось только какое-то особое тоскливое беспокойство, новое, которого раньше не было.
Уже светало, и она решила больше не спать. Ее знобило, болела нога. Надевая чулки, она заметила, что сустав около большого пальца распух.
– Подагра?
Долго с ужасом рассматривала свою прелестную ногу с подкрашенными лакированными ноготками.
– Надо зайти в аптеку, спросить какую-нибудь мазь.
День начался яркий, солнце прыгало по стеклам, быстрое, веселое. Можно было пойти на пляж и просто прогреть как следует больной сустав. Купаться, конечно, нельзя. Она чувствовала себя совсем простуженной.
Веселый день говорил, однако, о том, что надо жить на свете и что-то для этой жизни предпринимать.
За комнату заплачено еще за пять дней. Если ехать через пять дней в Париж, то не хватит даже на билет третьего класса. Добраться до Парижа и там постараться продать кое-что из платьев?
И вдруг вспомнился голландец. Как глупо, что она его так забросила. Надо сегодня же пойти в «Pavilion».
Она надела очаровательное платьице, которое еще ни разу здесь не надевала, зеленое, с вышитыми серебряными и золотыми рыбками, и пошла в парикмахерскую. Нога болела, знобило, но день кричал, что надо жить.
Куафер попался какой-то неладный, подпалил прядь около уха.
Рядом причесывалась миловидная барышня, поворачивала стриженую головку на тонкой шейке, и Наташе вдруг надоели ее упругие локоны.
– Остригите меня, – сказала она.
Куафер радостно защелкал ножницами: четыре раза в воздухе – один в волосах.
«Нехорошо, – думала Наташа. – Очень темное у меня лицо, точно из больницы».
Барышня рядом была рыженькая. Не выкраситься ли?
Куафер очень одобрил эту мысль.
– В бронзовых английских тонах фрейлен будет очень файн!
Да, вышло хорошо.
Наташа медленно поворачивала перед зеркалом свою позолоченную змеиную головку. Какие огромные глаза! Она с истинным восхищением рассматривала и расчесывала свои ресницы, очерчивала красным карандашом нежный рисунок рта. Радовалась, что видит себя такой красивой и, главное, совсем новой. Ах, как хорошо, что можно сделаться новой!
Она пошла на пляж, глядя на свое отражение во всех окнах.
23
Il n’est guère de drame passionnel, suicide ou crime, dont les causes apparents ne semblent bien légères.
Fr. Mauriac[65]Несмотря на яркое солнце, день был холодный, ветреный. Поэтому и купальщиков было мало.
Наташа выбрала местечко подальше от публики, сняла башмак и чулок с больной ноги.
Песок был холодный, и ее сразу стало знобить, но она долго пролежала так, усталая, в полудремоте.
Кричали чайки. Мелкими звоночками перезванивали детские голоса.
Толстый аббат, с серым мягким лицом старой нянюшки, прошел со своим молодым другом. Наташа уже встречала эту парочку. У старика были сентиментальные голубенькие глазки. Друг его, тоже священник, с плоской сутулой, как вопросительный знак, спиной, с непомерно длинной талией, напоминал фигурой цирковую собаку в юбочке, стоящую на задних лапах. Лицо у него всегда было надменно приподнятое, глаза подчеркнуто целомудренно опущены. На шее под затылком – глянцевитые лиловые прыщи.
Старик остановился недалеко от Наташи и долго восторженно говорил о чем-то, указывая на небо и море.
Молодой слушал, не поднимая ресниц, и вдруг исподтишка метнул опущенным глазом на Наташину ногу, быстро, точно стащил и спрятал.
А старик все говорил о небе.
На небе в это время свершалась мистерия: неслись белые воздушно-облачные видения, туда, к горизонту, где залегло темное, неподвижное и неумолимое. Белые видения гасли, таяли, умирали и все-таки не останавливали своего жертвенного стремления…
Наташа заснула без сна, лишь в каком-то тихом звоне, и проснулась внезапно, точно кто позвал ее, и открыла глаза.
Прямо к ней, тяжело и осторожно шагая толстыми голыми ножками, шел крошечный рыжий мальчик. Он смеялся веселыми глазками, и верхняя губка его надулась, словно припухла, и маленькие ямочки дрожали в углах рта.
Глядя на это приближающееся к ней ужасное своим сходством милое личико, Наташа задрожала от отчаяния. Она вытянула руки, словно защищаясь от страшного призрака, и голосом ночных кошмаров, срывным и придушенным, закричала.
– Прочь! Прочь! Не хочу! Прочь!
Испуганный ее криком ребенок остановился, сморщил глаза и нос, и губки его посинели от плача.
А Наташа упала грудью на песок и зарыдала громко, с визгом, вся трясясь и дергаясь.
Пляж уже начал пустеть – наступало время завтрака, когда она пошла домой.
Распухшая нога болела, и Наташа присела на скамейку берегового бульварчика.
– Она?
– Не может быть…
Голоса были русские.
– Она!
– Наташка – ты?
Перед ней загорелые, черные, как арапчата, стояли Шурка и Мурка. Круглые их глаза глядели на нее испуганно.
– Господи! Да что же это с тобой? – ахала Шурка. – Какая ты страшная! Рыжая, зареванная!
– У меня нога болит, – жалко улыбнувшись, ответила Наташа.
– Господи! Она стала рыжая оттого, что у нее нога болит! Ничего не понимаю. Деньги-то у тебя есть?
– Не беда, – прервала Мурка. – Мы здесь танцуем в «Павильоне». Через пять дней получаем деньги и – марш в Париж. Тогда мы вас прихватим с собой…
– Да как тебя сюда занесло? – продолжала удивляться Шурка. – А Манельша тебя по всему Парижу разыскивает.
«Манельша… разыскивает, – пронеслось в голове Наташи. – Ах да! Костюмы…»
– С чего же она взяла, что я… – пробормотала она.
– Именно решила, чтоб тебя, – радостно прервала Шурка, – Брюнето женился на Вэра. Открывают свою мастерскую. Вэра утащила у Манельши все лучшие модели, которые сама показывала и которые ты показывала. Но Манельша не желает подымать никакого скандала и надумала сделать тебя директрисой. Говорит, что ты очень дельная и очень приличная, словом – влюбилась в тебя. А ты тут нюнишь!..
– А Любаша-то бедная! – прервала ее Мурка. – Какой ужас!
– А что? – устало спросила Наташа.
– Как – что? Разве ты не знаешь? Господи, она ничего и не знает! Все газеты только об этом и пишут. Зарезали ее.
– Задушили, а не зарезали. С целью грабежа, – вставила Мурка.
– Не с целью грабежа, – перебила Шурка. – Там как-то иначе по-юридически… С целью симуляции грабежа… Вот как.
– По подозрению арестован Жоржик Бублик – знаешь? Ну, наверное, знаешь.
Обе торопились, перебивая друг друга.
– Настоящая фамилия – Бубелик. Это так прозвали Бублик, а он – Бубелик. Латыш, что ли.
– Не латыш, а латвийский подданный. Это разница. Да вы его, наверное, знаете…
– Все лето таскался за Любашей по всем ресторанам, такой подлец! Стой, Мурка, у тебя же была газета… та, французская… Да посмотри в сумке.
Мурка раскрыла вышитую купальную сумку, набитую всякой балетной требухой.
– Да ведь была же! – волновалась Шурка.
– Постой, а это что?
Мурка выхватила из рук Шурки газетный сверток и, вытащив из него грязные балетные туфли, развернула.
– Ну кто же ее знал, что это та самая, – сконфуженно пролепетала Шурка. – Ну вот… смотри. Это «Matin». Вот «Gueorgui, Georges Bubelik». Вот он… смотри…



