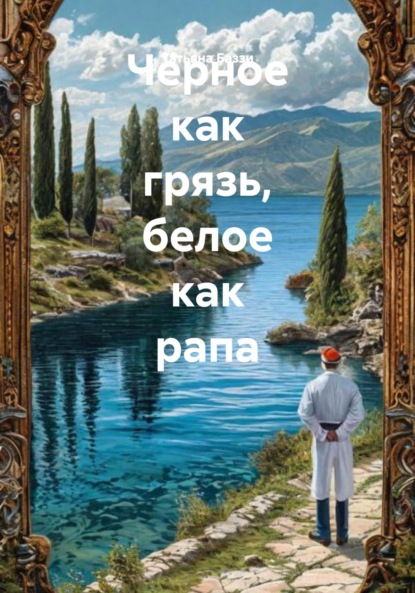
Полная версия:
Чёрное как грязь, белое как рапа

Татьяна Баззи
Чёрное как грязь, белое как рапа
УДК 908; 929
ББК 84(2Рос.Кры)-445
Баззи Татьяна
Чёрное как грязь, белое как рапа Татьяна Баззи. 2025 г.
документальная проза, историческое научное исследование
Книга является документальным исследовательским материалом для подготовки текста художественного романа о врачах курорта Н. Н. Бурденко и С. С. Налбандове для подтверждения реалистичности невероятных событий, происходивших в начале двадцатого века на берегах Сакского лечебного озера. В книге отражен в подлинных документах сакральный узел сакской проблемы – противостояние медиков и солепромышленников. В единое целое соединены разные аспекты медицинской, организаторской, творческой деятельности учёных не медиков и врачей Крыма их борьбы за лечебные свойства озера. Ценность книги в том, что в ней собрана квинтэссенция из научных трудов основных исследователей, учёных, занимавшихся изучением исцеляющих факторов Сакского озера, уникальных природных и географических условий местности, на которой он расположен, по старым книгам, начиная с ⅩⅠⅩ века. Здесь не только анализ работ таких учёных, как Н. С. Курнаков, В. Г. Кузнецов, А. И. Дзенс-Литовский, С. А. Щукарев, Ферсман, но и фиксация ценнейших таблиц и формул. Также по крупицам собраны из разных источников уникальные факты из жизни великих врачей С. С. Налбандове и Н. Н. Бурденко.
12+ В соответствии с ФЗ от 29.12.2010 № 436 – ФЗ
Татьяна Баззи 2025 г.
Предисловие
Во всякой науке и искусстве сеет тот,
кто открывает начала… (Ориген)
Тема истории медицины и курортологии в Крыму в отечественной историографии носит в основном очерковый характер. Научные труды аналитической направленности, где глубоко рассматриваются вопросы, касающиеся развития Сакского курорта, деятельности академика Бурденко в Крыму, жизни профессора Налбандова в Симферополе и Саках практически отсутствуют. Курортно-историческое крымоведение отстаёт от соседних районов Ставрополья и Краснодарского края. Проблема имеет и исторические корни – дореволюционная историография представлена преимущественно публикациями врачей курортологов, которые базировались на их собственной практике. Исключение здесь есть – это работа С. С. Налбандова «Исторические данные о Сакской грязелечебнице. Химические исследования. Сборник работ с 1795 – 1885 гг», который проанализировал труды учёных, врачей и книги писателей, путешественников, изучавших уникальные природные ресурсы Крыма и в частности Сак до него. Но у него не нашлось последователей и его работы недостаточно введены в научный оборот. Эта книга основана по большей части на архивном материале, не выведенном для общедоступного прочтения, она о свидетельствах великого триумвирата – врачей Налбандова и Бурденко и исцеляющего источника.
При художественном осмыслении научно-исследовательского материала автор всеми силами старалась избегать начётничества при изложении исторического текста, этого тихого недруга, поджидающего, всякого современного писателя, пишущего на основе богатых и разнообразных сведений о Крыме. Исторические факты, научные труды знаменитых русских учёных-врачей публицистика журналов и газет о том времени подвергались моему критическому анализу, пропуская через призму взгляда современного человека.
Замысел книги явился спонтанно, сам собой. Поиск Крымских мифологем и того ореола Сакского курорта, который ещё не совсем утерян, он есть, пока жива память о Налбандове и Бурденко, известных врачей Сакской грязелечебницы того времени, когда ими была открыта новая страница в развитии старейшего в России грязевого курорта. Отсюда, из лечебницы Сергей Налбандов и Николай Бурденко уходили на фронт, но неизменно на летний сезон возвращались в грязелечебницу спасать больных и раненых, прибывших в Саки за спасением.
Следуя за событиями, бывшими на лечебном озере, непроизвольно воссоздавался обобщённый портрет врача нашего курорта. Собирательная, складывающаяся из разных судеб медиков картина, устремлялась к идее Бессменного лекаря города Саки, да и всего полуострова Тавриды. К изучению архивных материалов фондов автор взялась, имея за плечами только разрозненные факты из Крымской истории, известные со школы и студенческих лет. Они дополнялись собственными отрывочными детскими воспоминаниями, как это было в Саках в конце шестидесятых – начале семидесятых годов двадцатого века, когда здравница имела отличительный от нынешнего времени облик, приближенный к лику, который курорт имел в начале ⅩⅩ века. Осмысление исторических фактов добавило уверенности, что сеятелями Сакского курорта были они – наши замечательные учёные Налбандов Сергей Сергеевич и Бурденко Николай Нилович. Справедливости ради необходимо поставить рядом с ними ещё одну фамилию талантливой личности – Семашко Николая Александровича. Первый народный комиссар здравоохранения РСФСР, академик АМН два раза был в Саках и способствовал процветанию грязелечебницы в непростые времена становления новой общественной жизни. Тогда за 1921-ый год в освобождённом Крыму количество оздоровившихся пациентов увеличилось кратно в разы и достигло 25 тысяч за неполный год. На курорте Саки в 1921-ом оздоровилось более двух тысяч пациентов из самых различных уголков России: рабочих, крестьян, бойцов Красной армии, служащих, зарубежных гостей из Европы и не только. Непреложность служения медицине, которая, несомненно, полной мерой была дана Налбандову и Бурденко, роднит их судьбы с жизнью Семашко. В Симферополе давно областная больница носит имя Семашко. Спинальный санаторий в Саках назван в честь Бурденко, и это славно! Но, почему-то фамилия Налбандова незаслуженно забыта. К нам, возможно, приблизилось то время, когда необходимо исправить это недоразумение, и окрестить Сакскую грязелечебницу, которая является структурным звеном санатория «Саки» именем профессора Налбандова.
Шло время поиска исторических данных. Погружение в документы дополнялось воскрешёнными из раннего детства чувствами и образами. Как только мозг настраивал перспективу, обращённую к детским ощущениям, и осваивал механизм метаморфоз по обращению букв старых текстов в оживающие картины, любая черта современного пейзажа приобретала способность спонтанно обращаться в притягательный мираж. И этот мираж при ближайшем рассмотрении оказывался полосой воды или каймой лечебного озера с маленькими чёрными силуэтами людей старого, канувшего в лету берега.
Введение
С самого начала нашего бытия и до конца жизни все органы и ткани
приносят к нам и удерживают в нас целую массу ощущений, получая
впечатления то извне, то из собственного своего существа.
Н. И. Пирогов
Отвечая на вопрос: «Зачем всё это надо?», можно вспомнить подзабытые истины. А перефразировав известные слова Михаила Ломоносова: «Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего», представляется, что медицина, не знающая своих предшественников и основателей, не имеет настоящего продолжения. Наше видение материальной и духовной культуры предшественников основывается на сохранившихся документах, артефактах прошлого. Чем больше в распоряжении исследователя этих материальных свидетельств, тем лучше, но не всегда объективную картину можно получить при опоре на разрозненные, хотя и конкретные факты. При восстановлении достоверности того или иного периода в истории не обойтись без сопоставления его с прошлым и будущим. Тем более этот аспект исследовательской работы важен при воскрешении жизни исторических персонажей.
Свой поиск автор начинала с изучения России, её общественно-политической, экономической, культурной составляющих времени конца ⅩⅠⅩ – начала ⅩⅩ века. Важен был фон, на котором предстояло жить и действовать героям. Поэтому состояние самого селения Саки, его вокзала, архитектуры лечебницы, промышленных предприятий (бромного завода и соляного промысла Балашова) отхватили свою законную часть книги. Нельзя было упустить момент осмысления логистических связей между Саками, Симферополем и Евпаторией, взаимодействий земской грязелечебницы и Таврической Губернской Земской управы, располагавшейся в центре Симферополя. А также взаимосвязей Сакской грязелечебницы и её руководителя – старшего врача лечебницы Налбандова Сергея с руководителями других учреждений: Евпаторийской грязелечебницы, Сакской военной станции. Также мною были просмотрены многие материалы, касающиеся исследований целебных факторов Сакского озера (преимущественно грязи и рапы); природного ландшафта Сак и его окрестностей, уникального парка. Особенно интересными представляется всё, что прямо или косвенно было связано с лечебным Сакским озером, характеристика свойств которого и послужила названием книги: «Чёрное, как грязь – белое, как рапа».
Как сквозь озёрную воду проходит солнечный свет, так артефакты античных времён в окрестностях селения Саки прошли сквозь время, став историческими свидетельствами. Так, например, древняя плита с изображением пирующего Геракла, остатки скифских и греческих амфор, чаш, монет на пересыпи косвенно указывают на возможность использования минерального ила лечебного озера ещё нашими дальними предками во времена до нашей эры. Не лишним оказалось и соединение в единое целое разных аспектов медицинской, организаторской, творческой деятельности учёных не медиков и врачей Крыма для воссоздания целостного исторического полотна. Социально-историческую информацию по интересующей теме найти непросто, но можно; гораздо сложнее получать сведения о погоде прошедших дней, житейских заботах, свободном времени, здоровье, личных проблемах интересующих исторических личностей. Занимаясь поиском необходимых для написания книги старых документов, автор, учитывая мнение графологов, искал записи, написанные самой рукой прототипов своих героев – Налбандова и Бурденко, их подписи под документами, чтобы по ним с большей точностью представить характер, темперамент, психологический тип писавшего, его наклонности, вкусы, стремления, физическое и душевное состояние. При этом надо было обращать внимание на написание заглавных букв, направление строк, поля, наклон и связь букв, нажим и беглость почерка, по которым можно рассмотреть психическое и эмоциональное состояние человека. Способствовало этому и рассматривание старых фотографий и открыток курорта. Также приходилось развивать способность улавливать контексты и скрытые личностные послания между строк официальных записок. Постоянная постановка вопроса: «Что чувствовал человек, писавший тот или иной текст», – давала свои результаты. А нацеленность на определение логических связей между собранными по крупицам фактами из биографии прототипов главных персонажей книги и других людей, соединяла в единое целое разрозненную информацию. Таким образом, определился способ взаимодействия с минувшим, который можно сравнить с ключами, открывающими файлы из прошлого.
Natrium
civilization
Два мира
Пространство – факт, время – факт, движение – факт, жизнь – факт,
и в то же время и пространство, и время, и движение,
и жизнь – самые крупные и первостепеннейшие отвлечения.
Н. И. Пирогов
Когда-нибудь мы приблизимся к своим предкам и сольёмся с ними. Когда будущие почки зашумят листвой настоящего, а наши следы затеряются на пыльных звёздных дорогах, должен же будет найтись хоть один единственный человек, который захочет узнать и спросит, о чём думали, что чувствовали Они – это он о нас с тобой сегодняшних, дорогой читатель!
В Сакском парке живут новая и старая лечебницы, но между собой они переплелись; и не то чтобы борются, не то чтобы пытаются вытеснить друг друга. Новая и старая лечебницы обладают каждая своими подходами и никогда не смогут распутаться. Так и деяния выдающихся людей времени конца ⅩⅠⅩ – начала ⅩⅩ века навечно вписаны в мыслящую субстанцию Человечества, прочно вотканы в земную память. История моих героев закончится неожиданно – она получит своё продолжение в будущем. Так жизнь видит.
Дорога, крытая тротуарной плиточкой ведёт к новым корпусам, которые выступают бетоном архитектурной модернизации, объектами культурно-массового обслуживания, домами с богатым выбором комфортабельных условий проживания, блоками питания; лечебно-диагностическими отделениями, оздоровительными и спортивными площадками. А монументальные здания старой грязелечебницы…, они не сдаются, торжественно сохраняют свою красивую лепнину и круглые колонны фасада; изящные бельведеры, деревянные веранды, видоизменённые, но загадочные, они продолжают привлекать к себе людей. Содрав с сухощавых стен штукатурку, останавливают взгляд углы старых домов, которые ещё хранят отпечатки памяти об очаровательных внутренних двориках с разноцветными клумбами. Обвалившиеся здания, имевшие световые крыши, напоминают скелеты, выползающие из одичавших зарослей. Тащатся на костылях вдоль старой набережной «Надежды» ванные здания, одно из них, когда-то самое красивое возмущается, куда подевались бархатные занавеси, картины на стенах и ковры на полу, почему не журчит фонтан посередине между мраморными статуями. Как случилось, что обвалилась её уникальная отделка, и уже под Новый год в фойе никто не устанавливает большую нарядную ёлку? Столбы-колонны, когда-то ограничивающие территорию лечебницы, один, окрашенный белым с табличкой, другой серый, исписанный современным граффити, становятся странными изваяниями. А, может, по этим столбам проходит невидимая граница, за которую не может прорваться душа лечебницы?
Идущим за нами поколениям, когда старое уступит новому, предстоит заново собирать матрицу жизни. Опыт талантливых врачей и очень хороших людей послужит для этой цели. Я объединила наибольшее количество фактов, которое только можно было получить из исторических фондов Крыма, при этом постаралась сохранить контекст, чтобы не выплеснуть душу лечебного озера и Сакского курорта, и то, что получилось, представлено в этой книге. Милые дома и деревья, как описать вас, чтобы в памяти на века сохранилась каждая шероховатость вашей уникальности и каждая молекула воздуха, дышавшая вместе с вами, каждый человек, очарованный когда-то вами. И как избавиться от безнадёжных мыслей (пока? безнадёжных), и почему так не хочется уходить от вас на новую набережную или в современный сквер. И куда деть грусть, которая накопилась от повторных путешествий по растворяющимся во времени тропам вдоль заросшей просади. Неужели была какая-то возможность другой жизни моей, вашей; времени, едва вообразимого, разорванного в настоящем страстной печалью по той жизни. Каждое мгновенье с вами, милые мои создания старого курорта, прислушивается, вздрагивая по прошлому, каждый миг колеблется моей душой той будущей печалью, которая завибрирует в ком-то, когда его от меня отделит такой же отрезок времени, какой разделяет сейчас меня с вами молодыми…
Тогда в Саках
Но память, как я думаю, есть двух родов: одна – общая, более идеальная и мировая,
другая – частная и более техническая, как память музыкальная, память цветов, чисел и т. п. Первая (общая) хотя и отвергалась иными, но она-то именно и удерживает различного
рода впечатления, получаемые в течение всей жизни, и события, пережитые каждым из нас.
Н. И. Пирогов
В осознанном возрасте человек так привыкает к обыденному ежедневному течению, так вовлекается в повседневные заботы – ему не до восприимчивости сигналов от мира прошлого и будущего, одинаково чёрного и единого по сути, но разорванного тонкой щелью его собственной жизни. Вечности, что была до и, той, которая маячит впереди. Давайте прибегнем к памяти, которая сделала слепок первых впечатлений об удивительном мире, и воображению, способного заполнить пустоты между скачками воспоминаний. И если подумать о безграничности времени, соотнести эти умопомрачительной величиной пределы времени, с теми, которые надо отсчитать назад в интересующий нас день от сегодняшнего момента, выйдет совсем небольшой временной отрезок. Главное сделать шаг в нужном направлении, усилие для взятия неприступной крепости. Первые детские вспышки, которые можно соединить в удобовоспринимаемые картины, начинают свой отсчёт. Вот запускаю эту киноленту, и первое, что возникает на мысленном экране, судя по редкости солнечных зайчиков на твёрдой дорожке и ощущению мягкой пасмурности вокруг, понимаю, что стою под несколькими ярусами деревьев – высокими, ограничивающими широту солнечного света и низкими, узорчато-лиственными, явно придающими подвижность лучистым бликам.
Моё личное открытие курортного парка, в котором располагался стоматологический кабинет санатория имени В. И. Ленина, произошло поздней весной или ранним летом. Когда, узнав о карантине в детском саду, я выпрашиваю у мамы, взявшей меня с собой на работу, разрешения выйти на улицу и оказываюсь у лебединого озера, того, что меньше по размерам, а ещё рядом имеется большой пруд. В конце шестидесятых, начале семидесятых годов прошлого века здравница имени Ленина располагалась в месте, которое сегодня ассоциируется с санаторием «Саки». Одноэтажное здание, в восточном крыле которого находился стоматологический кабинет, а в западном – парикмахерская, не сохранилось до настоящего времени. Милый сердцу дом располагался параллельно корпусу, существовавшей раньше Малой гостиницы, и на момент написания этих строк бывшего живым, хотя и заброшенным. Здания эти были похожи. Созданные в едином архитектурном стиле, они отличались красивыми резными навесами над деревянными верандами и наружными дверьми, имели несколько ступеней перед входом. Поручни из древесины стояли на тонких перекладинах, цветные просветы между которыми были оживлены анютиными глазками и ещё какими-то лиловыми цветами, растущими в близкорасположенных к дому цветниках. Комнаты в помещении были небольшими, но необыкновенно уютными не сами по себе, а за счёт какой-то внешней живительной подсветки и умиротворяющим звукам, доносящимся сквозь тонкие стёкла окон. Ради объективной девственности тех картин я назову имена только тех врачей, которые сохранила детская память. Знакомьтесь: в маленьком кабинете, расположенном прямо от входной двери, склонился над пациентом заведующий курортной стоматологией Павел Семёнович Калюжный. Он невысокого роста, носит классический костюм с галстуком, у него аккуратные усики, внимательные глаза смотрят через круглые стёкла особенно весело, когда он скажет что-нибудь смешное, будто говорят: «Вот теперь хорошо». Справа от кабинета заведующего комната побольше – в ней три кресла для приёма больных, два возле окна и одно у стены. Среди врачей, которые здесь принимают пациентов в две смены – моя мама Горная София Прокофьевна и её подруга Логунова Антонина Владимировна. Влетевший через отворённое окно, сияющий свет выдаёт образ блестящего наконечника бор-машины в руке статной женщины, одетой в белый халат. У Антонины Владимировны длинные тёмно-русые волосы, собранные на затылке, сейчас не видимые – они спрятаны под белой медицинской шапочкой; сузившиеся от напряжения глаза, уверенный, волевой подбородок; её жаркая шея всегда открыта, правая нога сама по себе, совершает (на автомате) чуть заметные движения. В такт с ними заводится знакомое жужжание машинки и выполняемые на лету послания медицинской сестре насчёт материала для пломбы. В кабинете любят переброситься неожиданными прибаутками с включением латыни: «quantum satis», «ad usum externum», «tempus vulnera sanat», «medicus amicus».1* Медсестра одна на несколько врачей, не прошло и пяти минут, а она уже стоит у другого кресла – подаёт на толстом квадратном стекле белую смесь, из которой моя мама шпателем скатывает малюсенький шарик. Но я уже знаю, что это и есть пломба, и что материал может быстро затвердеть, поэтому его всё время разминают на стеклышке. Значит, мама занята – лечит больные зубы молодой женщине, полулежащей в раскладывающемся кресле. Я иду в подсобное помещение, которое находится слева от входа – сумрачную, уютную каморку, в которой помещается невероятно много вещей, и усаживаюсь на стул рядом с электроплиткой. На плите санитарочка Зина часто что-то кипятит; на этот раз в кастрюльке булькает картошка в мундирах. Скоро перерыв на обед. Выглядываю из подсобки и смотрю, когда откроется дверь кабинета заведующего. Если Павел Семёнович спросит «Как дела?» и потрогает ладонью мой лоб, чтобы понять, нет ли у меня повышенной температуры, отвечу, что совсем не болею и хорошо себя чувствую.
Ежедневно в третьем часу дня я с мамой и её подругой возвращаемся домой одной и той же дорогой, начинающейся парковой аллеей от тех домов, где растёт столетний дуб. В тот раз детская головка покоится на мягком плече – мама несёт меня на руках; я уснула прямо на стуле в кабинете, пока она писала отчёт. И Антонина Владимировна что-то увлечённо рассказывает, таща несколько сумок в руках: свои и наши. Её и мамин смех, беспечный разговор коллег-подружек, высокие каблучки молодой женщины и палка хромающего калеки, идущих позади нас, спинки скамеек в изумрудной зелени, знакомые сладковатые духи, – всё это, смешавшись, погружается в сонный туман; как вдруг, минуя вечно воюющее с реальной картиной сознание, воплощается неожиданным образом. Я нахожу знакомый силуэт и говорю сквозь дрёму:
– Куда мы, домой? Но, по-моему, там идёт Павел Семьёнович (здесь нет опечатки).
Подружки оборачиваются и, действительно, в конце цветастой аллеи замечают фигуру их заведующего.
– Смотри-ка, – говорит Антонина Владимировна, – и вправду – Павел Семёнович идёт! Как же она всё видит, спала ведь только что?
На следующий день я, видимо, действительно почти здорова и уже не усыпаю в пустующем кресле, наоборот, слежу, когда из кабинета выглянет заведующий. А потом скажет, что за отличное поведение берёт меня с собой к фонтану с цаплей и лягушками, и это означает, что я получу порцию необыкновенно вкусного эскимо, название которого прекрасно помню до сих пор – «Ленинградское», моё любимое из всех сортов мороженого и шоколадку с потерявшимся названием. Эскимо будет съедено первым, спешу, чтобы мама не знала (это наш с Павлом Семёновичем секрет), а шоколад оставлен на послеобеденный десерт. Итак, мы отправляемся с заведующим на улицу, проходим мимо магазина, что слева, аптеки, которая стоит справа, перед входом в неё растут красивые миндальные деревья. Уже недалеко до киоска, где продают всякие сладости, всего несколько десятков шагов. И мне бы хотелось вспомнить все те дорожки, деревья, скульптуры, скамеечки, беседки, и дома, мимо которых мы проходили. Но к лабиринтам памяти, видимо, нужен особенный ключик, которого нет в руках современного человека. Нахожу заветные тайники в разных местах запоминания и соединяю их в понятную картинку.
Скоро мы оказываемся на небольшой площади с фонтаном почти посередине. Павел Семёнович с кем-то поздоровался и негромко разговаривает. Я смотрю на тонкую цаплю, которая задрала узкий клюв вертикально вверх, светло-серая птица под прицелом струек воды, которые вылетают из зевов, кажется, пяти или шести зелёных лягушек с высунутыми красными языками. Жабья композиция и журчанье воды вместе с прохладным ветерком оживляют в жаркую погоду и взрослых, и детей – летом возле фонтана всегда очень людно. Необыкновенно зелёные листья на сочном стебле с ярко-красными цветами – канны, они заполняют пролёты между каменными жабами, и вместе с ними веселят старую грязелечебницу. Настаёт пора ответить любопытству заинтересованного читателя, которому вероятно, не терпится узнать как можно больше о курорте в прекрасном парке. Но сначала – несколько глав о свойствах лечебного озера, суть исцеляющих факторов которого чёрная грязь и белая рапа. Затем, для лучшего восприятия несколько отойдём от поступательного линейного течения времени; не нарушая общий порядок жизни лечебницы, обратимся вначале к узловым событиям и научному вектору её истории.
Как это делалось на самом деле
Возможно, что самое зарождение жизни,
внесшей вместе с собой много
химических изменений, как в состав морской
воды, так и в состав придонных
илов, произошло именно в океане и в
частности, в морском илу, где сочетается
одновременно вода, соли, коллоидная
среда, вулканические эксгаляции газов
(углеводороды, азот, углекислый газ,
сероводород) со дна океана.
С. А. Щукарев
Много есть в мире больших и малых водоемов, названия которых ничего не говорят нам. В этом огромном ряду наше Сакское озеро площадью всего восемь квадратных километров можно сравнить с каплей в мировом океане. Однако по количеству публикаций об исследованиях рапы и лечебных грязей его можно назвать мировым рекордсменом. Почему именно Сакское озеро стало объектом исследования вы дающихся ученых? Ответ довольно прост: еще с древних времен оно служило объектом соледобычи и народного грязелечения.
Постепенно, не сразу Саки стал центром, где вырабатывались основы отечественной бальнеологии. Библиография научных работ по Сакскому озеру имеет более 1000 наименований. Итак, каково мнение известных ученых о сакских грязях.

