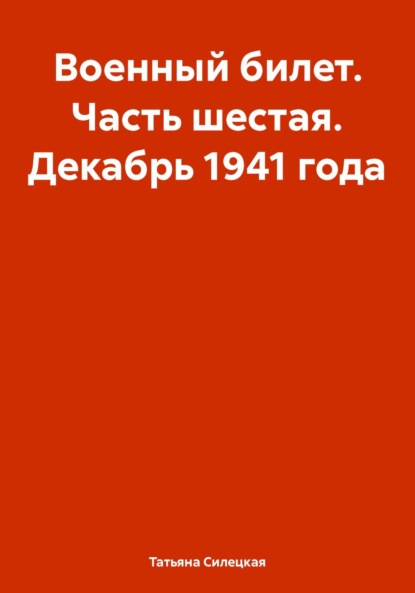
Полная версия:
Военный билет. Часть шестая. Декабрь 1941 года

Татьяна Силецкая
Военный билет. Часть шестая. Декабрь 1941 года
Глава первая. Отбить Тихвин у врага.
В ноябре 1941 года войска группы армий «Север» с подкреплением частей армий «Центр» отрезали все сухопутные пути, ведущие к Ленинграду. «Ледовая дорога», в дальнейшем названная «Дорогой жизни» – единственный возможная ниточка снабжения, проходящая по льду Ладожского озера, в связи с неустойчивостью ледового покрова, не могла обеспечить город продовольствием в достаточном количестве.
20 ноября 1941 года в Ленинграде была установлена самая жесткая за всю осаду города норма выдачи продуктов по карточкам. Набирал обороты смертельный маховик голода. Чтобы спасти Ленинград наши войска поздней осенью 1941 года на Волховском направлении не прекращали наступать на Тихвин и Войбокало, стремясь отбить у противника захваченные пути снабжения города. Одновременно войска Ленинградского фронта, в том числе 55 армия, неся огромные потери, пробивали блокаду изнутри, со стороны города. Силы защитников таяли, казалось, что судьба Ленинграда решена, и дни его сочтены…
Из стенографических записей «застольных бесед» в ставке Гитлера: «На вопрос, что должно произойти с Ленинградом, шеф (Адольф Гитлер) разъяснил: Ленинград должен подвергнуться деградации.…Число жителей Ленинграда в результате голода уже упало до двух миллионов. …Можно нарисовать себе картину того, как будет и впредь сокращаться население Ленинграда. Разрушение города бомбежками и артиллерийскими обстрелами должно внести лепту в его уничтожение».
Вопреки уверенности вождя фашистов, всего неделю спустя после захвата Тихвина, командующего группой армий «Север» начали терзать сомнения в успехе реализации его собственного плана по уничтожению Ленинграда.
Из «Дневниковых заметок и оценки обстановки в ходе двух мировых войн» Вильгельма фон Лееба: «16 ноября 1941 года. Следует ожидать …ожесточенных атак противника в направлении Тихвина. Силы, в первую очередь 11й пехотной дивизии, постепенно истощаются…Если придется уйти их Тихвина, то следует направить силы, находящиеся сейчас там, для улучшения ситуации перед фронтом 126й пехотной дивизии».
Фельдмаршал фон Лееб был не одинок в своих сомнениях в осуществлении «тихвинской авантюры». Из «Военного дневника» генерал-полковника Франца Гальдера: «16 ноября 1941 года. Разговор с фон Леебом. Бои в районе между озерами Ильмень и Ладожским развиваются для нас крайне неудачно. Противник оказывает очень сильное давление в направлении Малой Вишеры и Большой Вишеры…Сегодня снова наблюдается переброска крупных сил противника с востока на этот участок. …В ближайшее время можно ожидать прорыва русских. Противник атакует также с севера…»
Внутри гитлеровского генералитета возникают разногласия. Теперь уже Гальдер отстаивает оборону Тихвина. Фон Лееб же предчувствует, что сделанная им ставка на захват Тихвина, сыграет против него самого.
Из «Военного дневника» генерал-полковника Франца Гальдера: «Командующий группой армий «Север» хочет до принятия окончательного решения дождаться результатов сегодняшних боев. Он предложил оставить Тихвин в целях усиления волховского участка фронта. Я подчеркнул, что учитывая интересы ОКХ (верховного командования сухопутными войсками Германии), следует, во что бы то ни стало удерживать Тихвин».
Уже на следующий день к Гальдеру приходит понимание, что удержать Тихвин невозможно. Генерал-полковник начинает менять направление главного удара и перераспределять силы: «На фронте группы армий «Север» отмечено обострение обстановки в районе Тихвина. Принято решение направить части 254й пехотной дивизии на Волховстрой».
Изменить направление основного удара можно было только с позволения фюрера и Гальдер спешит с докладом к вождю.
Из записей генерал-полковника Гальдера к докладу Гитлеру 19 ноября 1941 года: «Группа армий «Север». Валдайский участок фронта. Равновесие сил. В настоящее время этот участок усилен. В районе Тихвина – усиление войск противника. Волховстрой – перспективное направление. Наступление на Ладожском участке фронта приостановлено. Оперативные замыслы: Ликвидировать напряженное положение на ладожском участке фронта. Соединиться с финнами. Должны идти навстречу. Удерживать фронт на рубеже Ленинград, Кронштадт».
Убедить Гитлера удалось, но с «перспективным направлением» враги опоздали – на Волховстрой выдвинулась 54я армия Федюнинского. Советскому командованию замыслы врага были понятны, они лежали на поверхности, были абсолютно «читаемы», даже без донесений глубинной разведки. Какие бы гордые планы не составляли гитлеровцы, до их воплощения им нужно было преодолеть «дистанцию огромного размера», причем по русской зимней дороге… На Ленинградском фронте продолжались освободительные бои.
Глава вторая. Взять узел сопротивления за один день.
Войска Ленинградского фронта продолжали постоянными атаками «точить» вражеское кольцо блокады со стороны города. 55 армия Ленинградского фронта, в 329 стрелковом полку 70й стрелковой дивизии продолжал сражаться мой дед, выполняла прежнюю боевую задачу – захват Усть-Тосно, мощного узла сопротивления, 122й пехотной дивизии вермахта – постоянного «антагониста» 55й армии.
Из разведсводок Штаба 55 армии: «По данным разведки на 24 ноября 1941 года на фронте Ям-Ижора – Усть-Тосно по- прежнему обороняются части 122 пехотной дивизии противника. На этом участке пехотная дивизия с сентября месяца. (Оборона) усилена огневыми средствами и пополнена огневой силой. Штаб дивизии, по данным радиоразведки, по-видимому – Никольское; штабы полков: в Захонте – 411 пехотный полк; в Воскресенское – 410 пехотный полк и в Феклистово – 409 пехотный полк».
В 55й армии Ленинградского фронта вступил в должность новый командующий. Как шутили в 55 армии «артиллерия меняет танки» – прежний командарм И. Г. Лазарев был генерал-майором танковых войск. Из приказов по Ленинградскому фронту: «Приказом по Ленинградскому фронту от 21 ноября 1941 года за №№ 244 и 0747 Генерал-майор артиллерии Свиридов Владимир Петрович приказом Народного Комиссара обороны назначен командующим 55 армии».
Кому как не Владимиру Петровичу Свиридову, генерал-майору от артиллерии, недавнему командующему артиллерией всего Ленинградского фронта было дано понимание того, что только шкальный огонь артиллерии, непрекращающийся «вал огня» предоставит наступающей пехоте возможность выполнить нерешаемую до сих пор задачу – разрубить и уничтожить узел сопротивления противника. Генерал Свиридов решил справиться с нерешаемой доселе задачей за один день.
Для выполнения боевой задачи командующему 55 армии удалось насытить войска артиллерией и обеспечить силу огня достаточным количеством боеприпасов. В сложившейся обстановке это было очень не просто, но командующему 55й армией пошли навстречу. Кроме того, войскам Свиридова была предоставлена воздушная поддержка. Но все это «богатство» было выделено только на один день, возможно под залог успеха…
Из боевого донесения Штаба 55 армии № 177: «Решением командарма захват Усть-Тосно назначен с утра 23 ноября 1941 года». Командующий 55 армией Свиридов предлагает следующий сценарий наступления: «План действий 23 ноября 1941 года: 1) с рассветом до 9.30 – период разрушения; 2) с 9.30 до 9.40 – авианалет на Усть-Тосно по переднему краю и прикрытие выхода пехоты и танков для атаки; 3) 10.00 – атака пехоты с танками. Артиллерия сопровождает пехоту огневым валом. Авиация подавляет минометные и артиллерийские батареи противника в районах Красный Бор, Ивановское, Отрадное».
В день боя 23 ноября 1941 года 55 армии нельзя было жаловаться на нехватку боеприпасов, работу артиллерии и поддержку с воздуха. «Огневой вал» был обеспечен и появился результат. Отклонений от утвержденного плана наступления не было, и противник сразу же «почувствовал разницу» в силе нашей атаки с предыдущими боями. 23 ноября 1941 года наши танки с приданной пехотой ворвались в Усть-Тосно.
Из журнала боевых действий Ленинградского фронта: «23 ноября 1941 года. 55 Армия: С рассветом и до 11.00 нашей артиллерией велся интенсивный огонь по Усть-Тосно. В 10 часов 20 минут нашей авиацией уничтожено: одна артиллерийская и одна минометная батареи. В 10.20 65 стрелковый полк при поддержке десяти танков перешел в атаку двумя эшелонами, первый эшелон – пять танков. Противник открыл сильный артиллерийско-минометный огонь по танкам и по первому эшелону 65 стрелкового полка. В 11часов два танка «КВ» и один средний ворвались в Усть-Тосно. Батальон первого эшелона 65 стрелкового полка под интенсивным огнем артиллерии и минометов (противника) залег и продвинуться не мог. В 12.00 в наступление перешел приданный батальон 70 стрелковой дивизии с пятью танками. В 15.00 батальоны 65 стрелкового полка и 70 стрелковой дивизии задержаны артиллерийско-минометным заградительным огнем противника на западной окраине Усть-Тосно, дальнейшее движение приостановлено. Из десяти действующих танков – семь выведено из строя. В одном «КВ» заклинилось орудие, шесть легких танков сгорело. Остальные части Армии закреплялись на ранее занимаемых рубежах».
Вышедшие из боя танки немедленно эвакуировались, в противном случае противник, перетаскивал и (или) зарывал танк по башню в землю, превращая нашу подбитую тяжелую машину в еще одну долговременную огневую точку. Такие «подарки» врагу наши воины старались не оставлять на поле боя. Огромный процент потери танков на Ленинградском фронте (с обеих сторон) в зимний период был неизбежен в связи с рельефом местности, заболоченностью, и, конечно, противотанковыми оборонительными сооружениями.
Глава третья. И вновь «нет пророка в его отечестве».
Кроме вышеперечисленных, существовала еще одна причина больших потерь танков с нашей стороны. Советские танки горели в основном от того, что вермахт для поражения бронетехники противника широко использовал кумулятивные снаряды. Высокая скорость горения взрывчатого вещества кумулятивного снаряда позволяла прожечь броню насквозь. Говоря просто, снаряд сначала «прорезал» броню, а потом взрывался. Шансов остаться в живых у экипажа танка в случае попадания такого снаряда практически не было.
Не трудно догадаться, какому «отечеству, не признающему своих пророков» обязан мир изобретением кумулятивных снарядов. Не только кумулятивные снаряды, но и само явление кумуляции было открыто в России.
В 1864 году при Государе Императоре Александре Николаевиче (спустя три года после отмены крепостного права), первым в мире обнаружил и описал явление кумуляции русский военный инженер, специалист в области минного дела и других военных дисциплин генерал-лейтенант Михаил Матвеевич Боресков. Примечательно, что Боресков не преследовал военные цели – кумуляцию он предложил, как способ прочистки взрывами засоренных трубопроводов.
Параллельно и независимо от М.М. Борескова та же идея посетила другого русского военного инженера генерала Андриевского. Но в отличие от Борескова, Андреевский основное предназначение открытия видел в военном деле, предлагая использовать явление кумуляции для создания капсюля-детонатора. Первая опубликованная научная работа, обобщившая опыт по теме кумуляции предшественников (конечно, без упоминания имен русских ученых), появилась в Великобритании в 1915 году.
Сказать, что в нашей стране тема кумуляции была полностью отвергнута, было бы неверно. В конце двадцатых годов двадцатого века проводил исследования кумулятивного эффекта профессор Мирон Яковлевич Сухаревский. И в тридцатые годы двадцатого века отечественные разработки кумулятивных снарядов велись достаточно активно. Но не так активно и масштабно, как это происходило, например, в нацисткой Германии.
К моменту нападения на Советский Союз вермахт уже принял на вооружение 75-105 мм кумулятивные снаряды, военные заводы, работающие на рейх, быстро поставили перспективные снаряды на поток. Из «Военного дневника» генерал-полковника Франца Гальдера: «Организационному отделу определить момент, когда мы более не сможем идти в ногу с заграницей в вопросе развития танковой техники. Поэтому основное внимание перенести на развитие производства противотанковых снарядов. Кумулятивный снаряд более перспективен, чем удлиненный снаряд».
Что же помешало нашему Отечеству принять на вооружение кумулятивные снаряды? Во-первых, до войны в Советском Союзе более перспективным считалось наращивание калибров противотанковых пушек и увеличение начальных скоростей бронебойных снарядов.
Другой причиной было недоверие и полное пренебрежение к «старорежимной» военной науке и ее достижениям. Идеологическое построение «нового мира на разрушении старого до основания» во всех сферах никто не отменял.
Тем не менее, необходимо отметить, что на всякий случай эффективность кумуляции в противотанковой обороне было решено проверить опытным путем. Поэтому в те же предвоенные годы была выпущена опытная партия кумулятивных снарядов. Испытания показали низкую эффективность поражения брони такими снарядами.
Дело было в том, что опытные образцы кумулятивных снарядов оснастили взрывателями от осколочных снарядов, произошло это потому, что «родные» взрыватели были не готовы. В таком «наборе» во время испытаний кумулятивные снаряды показали низкую пробиваемость брони и высокий процент рикошета. Для «рабочих» специалистов было очевидно, что причина кроется во взрывателях. Но высокая комиссия разбираться не стала и интерес к новым снарядам, и так невысокий, окончательно иссяк…
С началом Великой Отечественной войны с полей сражений в штабы армий начали поступать сообщения о применении противником «бронепрожигающих» снарядов, эффективно поражающих наши танки. Вскоре по приказу «сверху» в наших конструкторских бюро закипела работа. В начале 1942 года конструкторы М.Я. Васильев, З.В. Владимиров и Н.С. Житких спроектировали 76 мм кумулятивный снаряд с конусной кумулятивной выемкой, облицованной стальной оболочкой.
После длительных испытаний в качестве взрывателя был выбран авиационный взрыватель мгновенного действия. В 1943 году кумулятивные снаряды, в том числе снаряды к 122мм гаубицам, к полковым орудиям 76 мм калибра образца 1926 года стали широко применяться на полях сражений.
А что же заменяло кумулятивные снаряды в наших войсках до 1943 года и все-таки заставляло гореть фашистские танки? Броню тяжелой техники противника поражали горючие смеси в стеклянных бутылках – знаменитые «коктейли Молотова». Первоначально бутылку затыкали пучком пакли, которую перед броском было необходимо поджечь. В последствие усовершенствовали, как саму смесь, так и запал – он стал химическим, а сама смесь самовоспламеняющейся.
Несмотря на «дешевизну» и простоту исполнения «коктейль Молотова» при умелом обращении был достаточно эффективным оружием. Вскоре в нашей обороне стали применяться ямы-ловушки для вражеских танков. Бутылки с «коктейлем» соединялись единым запалом, укрывались в земле или в снегу, по шнуру поджигались при приближении вражеского танка к зоне поражения. А с 1943 года страна наладила серийный выпуск кумулятивных снарядов.
Нацистская верхушка Германии вообще не признавала способности русских к изобретательству, ей был более выгоден образ русского народа, как сборище диких варваров. Из стенографических записей «застольных бесед» Адольфа Гитлера в ставке «Волчье логово»: «Различные народы – например, русские и японцы, – которые сами не дали никаких разумных изобретений, заполучают себе, если намереваются производить какое-то изделие, из Америки, Англии или Германии по одному экземпляру данного изделия – ну, скажем, какой-нибудь станок, – как-то раздобывают технические чертежи к нему и затем из трех таких станков мастерят четвертый, который, естественно, и оказывается самым лучшим». Не о своих ли собственных «новациях» и способе их добычи повествовал в своем «логове» фюрер?
Глава четвертая. «А не заключить ли перемирие на зимний период?»
Еще ранним утром 23 ноября 1941 начальник генерального штаба главного командования сухопутных войск вермахта был уверен в ослаблении наших сил и оставил потомкам следующие строки. Из «Военного дневника» генерал-полковника Франца Гальдера: «23 ноября 1941 года. Военная мощь России более не представляет угрозы для Европы (Какая трогательная забота о Европе после ее завоевания). Противнику нанесен решающий удар. Но противник еще не уничтожен. Окончательно разгромить его в этом году мы не сможем, несмотря на немалые успехи наших войск. Колоссальные размеры территории и неистощимость людских ресурсов этой страны вообще не позволяют гарантировать полного поражения противника. Разумеется, мы это сознавали с самого начала».
Про обещанный «блицкриг» генерал-полковник, как и вся верхушка вермахта уже не помнил, вроде бы и не было такой идеи и веры в нее…Чуть позднее Гальдер признает, что: «Средства, которыми мы располагаем для ведения войны, естественно, ограниченны, во-первых, ввиду их постоянного расходования (жизни солдат, видимо также он отнес к «расходным средствам»), а во-вторых, из-за громадной протяженности территории, которую защищают (!) наши вооруженные силы. Таких сухопутных войск, какими мы располагали к июню 1941 года, мы уже никогда больше иметь не будем» Аминь.
Но генерал-полковник не сдается и в будущее смотрит с оптимизмом: «В этом году мы должны наступать до тех пор, пока нами не будут созданы благоприятные условия для продолжения наступления в будущем году».
Интересно, как по важности выполнения начальник генерального штаба сухопутных войск нацисткой Германии расставляет цели и очевидно, верит в их осуществление: «Цели (задачи): Ладога – соединение с финнами. Москва. Район Оки (Тула, Рязань). Район Дона (Елец, Воронеж), в особенности район нижнего течения Дона. Майкоп (со стороны Дона и Керчи)».
Командующий войсками группы армий «Север» фельдмаршал фон Лееб так широко мыслью не распространяется, далеко не заглядывает, и о судьбе Европы не вспоминает – от русских бы отбиться… Из «Дневниковых заметок и оценки обстановки в ходе двух мировых войн» Вильгельма фон Лееба: «23 ноября 1941 года. (Сегодня) удалось отразить атаки в районе Выборгской (Невский пяточек) и в полосе ответственности 122й пехотной дивизии (атаки 55 армии)».
Характерный оборот «удалось отразить атаки». Ни о каком наступлении в конце ноября 1941 года речь у Лееба уже не идет, только «удержать», «отразить», «продержаться», «возможно, удастся сохранить»…
А вот и бравое пополнение войск фон Лееба появляется на театре военных действий. Из «Дневниковых заметок и оценки обстановки в ходе двух мировых войн» Вильгельма фон Лееба: «23 ноября 1941 года. 215я пехотная дивизия, прибывшая вчера, вступает в бой. Три ее полка, долгое время находившиеся в Париже в качестве оккупационных войск, ощутят теперь заметную разницу с периодом их пребывания во Франции. (Не чувствуется ли в изложенном оттенок злорадства? Странные все-таки люди были эти гитлеровские генералы…)
Из воспоминаний Хассо Г. Стахов «Трагедия на Неве»: «Подкрепления, которые поступают из Франции, приходят в подавленное состояние, видя госпитальные поезда и их ужасное содержимое. Всего за несколько дней попасть с Елисейских полей на лесную поляну на Волхове – такое испытание не могло бы присниться даже в самом страшном сне. Ведь прибывшие были в тонкой летней полевой форме, в кожаных сапогах, которые мгновенно остужались из-за подбитых гвоздями подошв до такой степени, что ступни и пальцы ног, да и сами ноги теряли чувствительность. Другие части тела были «защищены» тонкими перчатками и наголовниками».
А ведь совсем недавно гитлеровцы потешались, рассматривая валенки и портянки на захваченных складах Красной Армии. Шутки закончились с наступлением морозов. Из воспоминаний Хассо Г. Стахов «Трагедия на Неве»: «Во время своего наступления немцы захватили целые штабеля русских зимних войлочных сапог, называемых в России валенками. Осенью они хохотали, растапливая ими печки и полагая, что у Красной Армии попросту кончилась кожаная обувь. Но вот наступила зима, и валенки превратились в драгоценность, а ампутация пальцев ног и самих ног стала обычной повседневной работой хирургов в немецких полевых госпиталях. …Замерзающие немецкие пехотинцы надевают на себя шинели убитых красноармейцев, заворачивая при этом рукава, чтобы в снежной метели их можно было отличить от противника».
«Русская зима – всего лишь словосочетание» – уверял Гитлер. А 20-30 градусов мороза – всего лишь цифра, пока не почувствуешь это на себе. Измотанные нашими атаками войска фон Лееба завязли в снегах Тихвина.
Из «Дневниковых заметок и оценки обстановки в ходе двух мировых войн» Вильгельма фон Лееба: «22 ноября 1941 года. Кризисная точка сегодня – это Тихвин. Противник продвинулся до развилки дорог в трех километрах юго-западнее Тихвина, а затем с востока и с севера прорвался к железнодорожной линии. Таким образом, Тихвин оказался почти в полном окружении русских войск».
16я армия группы армий «Север» окончательно перешла к обороне, в сложившейся ситуации это было равно поражению. Уже в конце осени 1941 года у здравой части гитлеровской военной верхушки возникают мысли о необходимости перемирия. Но именно перемирия, а не мира. 23 ноября 1941 года мысли гитлеровского генералитета были озвучены.
Из «Военного дневника» генерал-полковника Франца Гальдера: «Генерал-полковник Фромм (командующий резервной армией сухопутных войск Германии) обрисовал общее военно-экономическое положение. Падающая кривая! Он полагает, что необходимо перемирие. К 1 апреля на Восточном фронте будет 180 000 человек некомплекта. К этому времени мы получим обученный призывной контингент рождения 1922 года и будем вынуждены призвать контингент 1923 года рождения».
Для чего же гитлеровцам в конце ноября 1941 года могло понадобиться перемирие? Врагу был необходим перерыв до весны для того, чтобы «подкачать» армию грядущим пополнением, «зализать» раны, накачать топливом и снова запустить военную машину. Сама же идея мира, прекращения войны в любом виде противоречила основам фашисткой идеологии.
Из речи Генриха Гиммлера перед командующими фронтовыми участками и начальниками управлений Главного управления имперской безопасности: «Я не хотел бы философствовать и распространяться насчет того, как долго продлиться война…Лично как солдат я готов к тому, что она протянется еще ряд лет. Я полностью сознаю, что в этой войне действительно победит тот, у кого на поле боя останется последний батальон, и этот батальон выстоит…Война будет выиграна, ибо здесь дело идет о столкновении между Европой и Азией. Происходит столкновение между Германским рейхом и ублюдками-недочеловеками. Мы должны победить их, и мы победим их! А скольких жертв это будет стоить в каждом отдельном случае – безразлично».
Яркий образ «последнего батальона», стоящего до конца, к сожалению, довольно современен. Первым про «последний батальон» вспомнил фельдмаршал фон Бок 22 ноября 1941 года. Фон Бок сравнил сложившуюся военную картину на Восточном фронте с обстановкой в сражении на Марне в сентябре 1914 года, подчеркивая, что «создалось такое положение, когда последний брошенный в бой батальон может решить исход сражения». Гиммлер подхватил это сравнение и стал его официальным автором.
(Битва на Марне произошла в ходе Первой мировой войны между союзническими войсками Франции и Британии с одной стороны и германскими войсками с другой.
В результате неудачного, а что еще страшнее для германской армии – незапланированного маневра, правый фланг немецких войск был оголен. Начались судорожные передвижения немецких частей для прикрытия беззащитного фланга.
Выдвинувшиеся с этой целью германские части, неожиданно столкнулись с противником – одновременно с германцами выходила на исходную позицию для наступления 6я французская армия, не зная о присутствии там противника. В результате «неожиданной встречи» обе стороны втянули в конфликт до 2 миллионов солдат и 60 тысяч орудий.
Немецкие части, по мнению большинства специалистов, превосходили франко-британские войска по всем статьям, и первоначально добивались значительного успеха, но германское командование дрогнуло морально из-за неожиданного маневра противника, кстати, не представляющего серьезную опасность для немецких войск, и приняло решение об отводе войск, поскольку не выстоял последний батальон. И этот батальон был немецким).
Сам Гитлер в ноябре 1941 года не мог принять даже тени мысли о каком-либо перемирии, тем более сдаче Тихвина и срыве такого «красивого» плана, как удушение Ленинграда двойной петлей голода.



