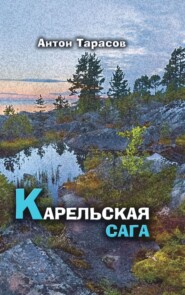скачать книгу бесплатно
«Ну, не хочешь говорить, не надо, не буду настаивать, – мудро решил Дмитрий Викторович. – В конце концов и так нормальных работников не найти, или болеют, или пьют, или при первой возможности перебираются в город. А здесь пришла сама, и я буду зверствовать, измываться? Нет, не на того напали».
– С ребенком, говорите? Он в садике?
– Нет, он дома, в садик, наверное, ходить не будем, нам далеко со второго озера.
– Так вы на втором озере? Там же нет света, и не планируется! И не просите потом улучшить жилищные условия, даже глазом не моргну, напишу отказ. Это вы на что рассчитываете? Устроиться, поработать немного, а потом здесь закатывать скандалы, чтобы выбить жилье в поселке, съехать со второго озера в жилье с удобствами! Не пойдет!
От обиды Лена вскочила со стула, но тут же села обратно, увидев, как ее резиновые сапоги, позаимствованные у тети Софьи, оставляют на чисто вымытом полу директорского кабинета грязные следы.
– Ни о чем таком я даже не думала! И никуда из бабушкиного дома переезжать не собираюсь, хватит с меня переездов за последнее время. Раз нет работы, то так и скажите, а то начинаете обвинять, ни в чем не разобравшись. А что мне прикажете делать?
– Ну, поостыньте, извините старика, не рассчитал силы. Короче говоря, если вы с ребенком и ситуация ваша, Елена, мне понятна, то могу предложить один вариант. Мы в прошлом году организовали небольшой молочный цех, к нам в колхоз каждое утро две машины приходят, надои делаем неплохие, всё на комбинат в Петрозаводск отвозят. У нас там не хватает работников, зарплата небольшая, но зато работы всего половина дня. Утром дойка, перекачка, обработка, в десять утра перекачка в машины, мойка оборудования и до вечера. А вечером вторая смена. Захотите, можете в две смены работать, но днем делать там нечего, домой на обед можно идти. Выходных нет, но вы в бригаде договоритесь, по очереди день будет выходить. Вот. Устраивает?
От такого потока информации у Лены закружилась голова. Она складывала всё воедино, стараясь получить картину того, чем придется заниматься. Под окном кабинета председателя росла огромная береза, с которой на дневном солнечном свету устремлялась вниз настоящая капель. Лена отвлекалась, когда очередная капля, несясь вниз, сверкала, словно маленький драгоценный камешек.
– Да, а оформление… оформление как?
– Оформитесь в бригаду, ничего сложного нет. Конечно, зарплата не очень высокая, но всё же. Сорок рублей в месяц, ну, от силы шестьдесят. Будете хорошо работать, летом выпишу вам кубометров десять дров. Ну, согласны? Времени думать нет, соглашайтесь или не тратьте мое время, – Дмитрий Викторович в рабочих вопросах был отчасти деспотом, это помогало ему избежать волокиты и разных неприятностей, коих на ответственном посту хватало. – Всё, приходите завтра с документами, какие есть, сначала в фельдшерский пункт, потом к бригадиру. Просто скажите, что устраиваетесь в цех, я предупрежу.
Сердце Лены радостно заколотилось. Она даже в самых смелых мечтах не предполагала такого исхода событий. Не пришлось никого обманывать, выкручиваться, чему она не была научена и вообще не умела этого делать. Пошатнувшаяся было вера в правильность принятого решения о побеге стала потихоньку возвращаться. Лена шла обратно на второе озеро в приподнятом настроении. Еще издалека она увидела, как Кирилл стоит с удочкой над промоиной в реке и сосредоточенно удит рыбу. Зрелище было забавным: удочку Кирилл взял в руки впервые в жизни. Поплавок всё время относило течением под лед, и леску приходилось одергивать. Кирилл делал это так, будто дергает за веревку свою любимую деревянную машинку. Раньше он видел, как рыбачат другие, в низине у Лососинки, напротив дома быта, и на набережной, куда они ходили и с мамой, и с дядей Сашей, когда он приезжал. Дядя Саша рассказывал, как на Севере ловит огромных рыб, которые прячутся в маленьких заводях и тихих речушках. Слушая его рассказы, Кирилл представлял себе, как дядя Саша вытаскивает на удочку огромную акулу или дельфина, каких часто показывали в «Клубе кинопутешественников».
– Привет рыбакам! – крикнула ему Лена.
В ответ он замахал рукой, бросил удочку и помчался к ней.
– Клюет?
– Нет, пока никого не поймал. Дядя Василий мне дал двух червяков, в сарае под опилками накопал, одного уже съели. Мам, а тебя на работу взяли? – в голосе Кирилла чувствовалось нечто вопрошающее, даже умоляющее.
Он не мог представить маму без работы, без некой увлеченности, даже преданности делу. И не так важно, какому. И хотя те несколько дней, которые они жили в деревне, мама почти не сидела без дела, а бесконечно что-нибудь мыла, чинила или убирала, он заметил произошедшие в ней изменения. Мама нервничала, особенно когда готовила скудный обед или ужин. В свои шесть лет он прекрасно понимал: чтобы что-нибудь купить, нужны деньги, а их можно заработать. Или украсть, как это сделал папа Вани Сидорова из детского сада. Но папу Вани за это наказали и посадили в тюрьму. Так что единственным подходящим способом была работа.
От сидения без дела в деревне за вторым озером можно было сойти с ума. В отсутствие электричества читать вечером газету или книгу при свече представлялось утомительным занятием. О телевизоре приходилось лишь мечтать. Радиоприемник Лена с Кириллом включали только вечером ненадолго, пока ужинали. Приходилось экономить батарейки: купить их в деревенском магазине не было никакой возможности. «Вот езжайте в свой город, там ищите, а мне план надо выполнять, консервы совсем не раскупают», – отрезала та самая продавщица, что объясняла им с Кириллом, как дойти до деревни. Под консервами она понимала огромные башни из банок с морской капустой и килькой в томате, раскупавшиеся не очень охотно даже зимой.
Когда начало смеркаться, Кирилл вернулся домой, раскрасневшийся от долгого пребывания на свежем воздухе, тихо, как заправский рыбак, поставил в угол снасть и молча выложил на кухонный стол две небольшие плотвички.
В ту ночь в лесу, совсем близко от дома, выли волки. Собака в доме тети Софьи пыталась сорваться с привязи и сбежать вместе с волчьей стаей. Но волчья стая таких не принимает: они просто оказываются съеденными. Лена с ужасом слушала вой, не решаясь разбудить Кирилла. Ей казалось, что вой нарастает, что волки вот-вот окажутся рядом, у дома, и проберутся внутрь через едва державшуюся входную дверь. Дверь была обита для тепла старым драповым пальто, найденным в бабушкиных вещах. Затем волки стали уходить, вой становился тише и совсем стих, когда почти подряд раздались два ружейных выстрела. Так сторож отгонял волков от колхозного коровника.
Это была последняя ночь затянувшейся зимы. Впрочем, на Севере люди привыкли к тому, что холод совсем рядом и может заявить о себе в любой момент. В последний раз в году от мороза мерцали звезды, и на речке в темной промоине снова встал твердой коркой лед. В него вмерзли прошлогодние листья, перезимовавшие под снегом и принесенные вместе с талой, пахнущей торфом водой.
VI
На работе в цехе Лене приходилось тяжело. Мастер Тамара, из местных – ее все называли Тамаркой, – покрикивала на рабочих. В семь утра молоко закачивали в одни резервуары и мыли другие. Особенно тяжело было мыть ванны, в которых молоко нагревали. С неуклюжими скользкими бортами, на которые нельзя было опираться, чтобы не сломать, они были настоящим наказанием для Лены, как и бидоны. В прорезиненном фартуке, в резиновых сапогах выше колена, подвязав волосы чистой белой косынкой, она намывала оборудование грубой тряпкой, от которой несло хлоркой и чем-то несвежим. Однажды во время перерыва, устав от вони, пара и жажды, Лена подошла с кружкой к маленькому резервуару и, открыв кран, хотела уже набрать себе немного молока, как услышала сзади себя строгий окрик Тамарки:
– Не смей, отойди оттуда!
Лена нехотя отошла от резервуара.
– Ты чего это удумала? Молочка попить захотелось?
– Захотелось, но уже не хочется, – ответила грубостью на грубость Лена.
– Ну уж, какая, городская, не хочется, видите ли, ей! Ты спросила бы перед тем, как пить. Так и так, Тамара Игнатьевна, где тут у вас молочка можно испить.
– Да уже поняла, что нигде.
– Ты мне поговори тут, поговори, всё Дмитрию Викторовичу расскажу, как на духу выложу, что ты, твою мать, тут учудить пыталась, – Тамарка показала своим порезанным, заклеенным куском пластыря пальцем на резервуар: – Да ты совсем, что ли, сдурела? Или прикидываешься? Тут сырое молоко. Понимаешь, сырое! Тут тебе и мастит, тут тебе и энцефалит, если там Егоровна чего проглядела. Коровы-то не хозяйские, а колхозные, за всеми не углядишь. Попьешь сырого, помучаешься с месяц да подохнешь, как последняя скотина! Сына своего сиротой оставишь. Ты этого хочешь? На меня грех свой повесить? Я те дам!
Застучали по трубе: к заднему двору подкатил молоковоз, сквозняком в цех пахнуло выхлопными газами. Тамарка, подобрав полы халата, побежала на улицу и накричала на водителя, заставив его заглушить двигатель. Лена оставила чашку и поплелась смотреть за тем, как перекачивают молоко, и переливать остатки из ванны в бидоны. Бидоны были тяжелыми, ручки пачкались чем-то металлическим. После того как наполнили первый молоковоз и подъехавший следом второй, Тамарка подошла к Лене и, снимая на ходу прорезиненный фартук, в привычной манере, хоть и мягче, сказала:
– Ты ребенку-то своему молока приносишь?
Лена отрицательно закрутила головой.
– Дура ты городская, вот ты кто! Идем со мной!
Переспорить Тамарку было почти невозможно. Она говорила настолько громко, почти орала, что любой спор превращался в пустую словесную перепалку, в которой на фоне криков Тамарки нельзя было ничего расслышать. Она орала на всех – на водителей за их нерасторопность и вечное желание покурить у входа в цех, на доярок, запаздывающих с дойкой, на работниц, которые постоянно делали, на ее взгляд, всё не так, как положено. Лена, как новенькая, особенно часто попадала под удар. Она воспринимала это со свойственным ей спокойствием. Ничего плохого в криках Тамарки она не видела. Напротив, с каждым проработанным днем ей начинало казаться, что иначе и общаться в такой среде невозможно. Просто за грохотом насосов и воем ветра где-то под крышей тихие голоса терялись, превращались в фоновый шум, а вместе с ними терялись и те просьбы и поручения, что адресованы были кем-нибудь кому-нибудь. Голос Тамарки звучал, словно гром, словно звон огромного железного листа, по которому изо всех сил бьют молотком.
Голос был единственным оружием Тамарки. Маленькая, щуплая, со слегка кривыми ногами и сухими тонкими волосами, похожая скорее на Бабу-Ягу или Хозяйку Похъёлы из сказок, которыми зачитывался Кирилл, чем на какую-никакую, а все-таки начальницу. Как бывает у всех маленьких и обделенных какими-либо внешними атрибутами превосходства людей, Тамарка ревностно относилась к субординации и вниманию к своей персоне.
– Ну, идем, слышишь меня? Или так я и буду здесь стоять распинаться? – повторила Тамарка.
Они зашли в подсобное помещение, маленькую каморку, где на белоснежной ткани были разложены для просушки детали насосов, молочные бутылки, в которые брали пробы молока, и трехлитровые банки. Тамарка взяла одну из банок, достала из ящика стола полиэтиленовую крышку, примерила ее к банке и вручила ее Лене, удивленно наблюдавшей за всем действом.
– Держи, дурочка. Идем, всё покажу. Показываю только один раз. Запоминай, всё будешь делать сама. А банку вернешь завтра и крышку тоже. Свою заведи банку или бидон, – продолжала причитать Тамарка по дороге обратно в цех. – Вот же городские! Никогда бы не подумала!
В дальнем углу стоял алюминиевый бидон – один из тех, которые Лена каждодневно десятками намывала и ошпаривала. Из бидона торчала длинная ручка ковша. Лена стояла, держа банку, а Тамарка, зачерпнув ковшом молоко, наливала его. При этом она бубнила про себя проклятия в адрес городских, проклинала прогресс цивилизации, который до сих пор не может сделать так, чтобы в поселке электричество не выключалось в самый неподходящий момент.
– Вот, это ребенку твоему, да и сама попьешь. И каждый день можешь брать молоко отсюда, здесь пастеризованное. А там, возле сырого, чтоб я тебя больше не видела! А по выходным мы творог делаем. Ты же мыла ванну в прошлую субботу, чего не спросила? Если немного остается, можно взять себе.
– А разве так можно?
Глаза Тамарки округлились, и она залилась смехом, нисколько не уступавшим по громогласности ее голосу. Лена чувствовала себя неловко, держа в руках банку с молоком и понимая собственную глупость, заключающуюся неизвестно в чем. От смеха у Тамарки на глаза набежали слезы, она смахнула их рукой и как ни в чем не бывало поправила съехавшую с головы косынку.
– Да где ж ты в городе могла нормального молока попить, не разбавленного водой? Эти сволочи на комбинате план делают, знаешь, как? На тонну молока пятьдесят литров воды, вот как! А всё мало! Куда девают молоко, никак не пойму, если мы им с перевыполнением плана сдаем. Видать, в карман кому-то капает, не иначе. А это излишки, мы всегда держим бидон, мало ли, в цистерну не хватит молока. Заполнять-то под завязку надо, а то пока до города доедет, сливки подсобьются. Остаток для своих нужд. Думаешь, зачем Дмитрий Викторович или его жена каждый день с бидоном к нам прибегают?
И в самом деле, Лена видела, как с самого утра Дмитрий Викторович или его жена, работавшая кем-то в клубе, на ходу нацепив халат, с бидоном прогуливались в цех, а потом, поздоровавшись со всеми, довольные возвращались. Лена наивно считала, что это своего рода моцион, проверить, все ли на своих рабочих местах.
– Жить в деревне и не пить молока, да как можно! А сын твой с чего расти будет?
Тамарка отправилась по своим делам, а Лена домой, думая обо всем услышанном и стараясь не споткнуться и не уронить тяжелую банку. Неужели она и в самом деле ничего не понимает в жизни, не может устроиться и жить как все. Зачем тогда были все усилия, стремление к большему, к достижениям, учеба, диссертация, бесконечная занятость, из-за которой Кирилл пребывал в детском саду от самого открытия практически до закрытия, когда воспитатели начинали нервно поглядывать на часы и собираться домой.
«Может, зря я ломалась, себе проблемы устраивала? Жила бы припеваючи, и, может, не одни бы мы с Кирюшей были? Может, может, слишком много может!» – от усталости Лена валилась с ног. О том, чтобы работать еще и во вторую смену, как ей предлагал председатель колхоза, не было и речи.
– Мама, а выходные у тебя будут? Тетя Софья говорит, нужно огород копать, картошку сажать. Мам, давай посадим картошку. Мне надоело есть кашу, – закапризничал Кирилл после второй кружки молока. – И рыбный суп надоел, мам.
С тех пор как у Кирилла появилась удочка, он каждый день отыскивал в прелой земле за сараем, которая оттаивала благодаря близости стены и печи, топившейся ежедневно, червей или оставлял небольшой кусок хлебного мякиша и шел на речку. По мере того как весна вступала в свои законные права, рыбы становилось в речке всё больше. Речка была не больше трех метров в ширину и глубиной в метр. Вода, как и во всех карельских реках, в ней была темная, чуть буроватая и на вкус отдавала железом, но чистая. Было видно, как рыбы подплывают к наживке и долго ее обнюхивают. За день Кириллу удавалось поймать несколько рыбешек, и все они шли на приготовление на скорую руку ухи. Кирилл не знал, что в те моменты, когда он нагибается над водой и рассматривает рыб, они видят его и бросаются врассыпную.
Лена чувствовала, что, несмотря на капризы Кирилла, жизнь потихоньку налаживается. И работа, которая поначалу не приносила ничего, кроме нестерпимой усталости и боли в костях, стала нравиться. Это не были часы, дни и месяцы, проведенные за печатной машинкой и расстановкой карточек по ящикам, сидения над книгами и походов по библиотекам. Это не была редакция и переводы на ходу, когда невозможно было получить удовольствие даже от прочитанных и переведенных поэтических строк, не то что от прозы: всё нужно было делать очень быстро, практически на автомате. И не уроки в школе, проверки тетрадей, скучные педсоветы и родительские собрания.
С первой зарплаты Лена купила ведро картошки и полкило молочных сосисок, неизвестно каким чудом завезенных в поселковый магазин. Слух о привозе быстро распространился по поселку: выстроилась огромная очередь. Лена до последнего была уверена, что ей не хватит. Руки больно резала большая сетка с картошкой, купленной из-под полы у коллеги по цеху, – два рубля за ведро, по весне просто сказочное везенье. Вечером они устроили настоящий пир. Конечно, во время городской жизни жареной картошкой и отварными сосисками их вряд ли можно было удивить, но всё познается в сравнении.
– А семенную картоху не додумалась спросить? Эх, Ленка, Ленка, всему тебя надо учить! – ворчала тетя Софья, по обыкновению заглянувшая вечером. – Закон жизни суров, Ленка. Либо ты крутишься сама, разводишь огород, по уму всё делаешь. Либо тю-тю, придется тяжело. У Авдотьи, бабки твоей, огород был ого-го, чего только не было! И козу держала. Нет-нет, а ходили к ней за молочком. Козье-то полезнее считается, почти целебное.
Тетя Софья многозначительно подняла вверх указательный палец, накинула на голову свой цветастый платок и, поклонившись, чтобы не удариться лбом, вышла за дверь. На следующий день после работы Лена бросилась покупать семенную картошку и разные другие семена, чтобы развести огород. А Кирилл был оставлен выдергивать уже начавшие прорастать сорняки. Под вечер они вместе с трудом, но вскопали одну грядку, на следующий день вторую, затем третью. От лопаты руки покрылись мозолями, болела спина. Лена даже не знала, правильно ли она копает грядки, правильно ли сажает картошку и сеет зелень. Она делала так, как ей подсказывала интуиция, – спрашивать совета тети Софьи она не решалась.
Она боялась упреков в нерасторопности, в собственном бессилии, незнании каких-нибудь простых правил, законов и порядков, она – человек с высшим образованием, кандидат наук, кандидат в члены партии, отличница, комсомолка и городская – в противопоставление им, деревенским. Деление на городских и деревенских для нее всегда было неочевидным. Если кто-то родился в деревне, а вырос в городе, то кто он – городской или деревенский? Как имевший дело с языком человек, она прекрасно понимала значение и окраску слова «деревенщина». А здесь деревенщиной оказывалась она, городская по натуре и по воспитанию. Ценности меняли свое значение, всё переворачивалось с ног на голову. А может, никаких ценностей и не было вовсе там, в городе, в прежней жизни, а появились они как раз в деревне? Работа, дом, Кирилл. Точнее, в обратном порядке.
Первого мая председатель колхоза объявил короткий день. В центре поселка все собрались на митинг. В Петрозаводске Лена всегда ходила с университетскими или со своими подопечными школьниками на первомайские демонстрации. На них всё было торжественно и празднично, произносились пламенные речи, и колонны на площади Ленина, стоя под знаменами и портретами Владимира Ильича и Леонида Ильича, дружно скандировали «Ура». Это была другая жизнь, какая-то другая реальность, когда она, Лена, была молода и во многом наивна, несмотря на начитанность и прочее.
И дело было уже не в том, что стоило нести портреты не Брежнева, а Андропова: в поселке их вообще не было и под красными знаменами настроение у всех было совсем не праздничное. Дмитрий Викторович говорил громко, даже громче Та-марки, которая куталась в поношенное осеннее пальто и шмыгала на ветру носом.
– Что нам делать, чтобы не погрязнуть в невыполнении плана, в халтуре, в браке? Клеймить бракоделов, не позволять им подводить коллектив! Пусть они равняются на передовиков производства, которые своим трудом добиваются, чтобы наш колхоз высоко нес знамя революции, служил Родине. Товарищи, в этом году мы увеличили площадь посевов овощей, наконец-то разбили новые теплицы на месте старых, поставили новое оборудование в цех. Мы обязаны выполнить задачи, поставленные съездом…
– Ага, новое, как же! – зашмыгала носом Тамарка.
– Да помолчи ты, – прокартавила беззубая женщина в телогрейке и сплюнула на землю.
Вокруг зашептались.
– …Поздравляю вас, товарищи, с Первомаем! Мир, труд, май! Ура! – провозгласил Дмитрий Викторович и, сойдя с автомобильного колеса, заменявшего трибуну, принялся растирать руками лицо и пить горячий чай из маленького китайского термоса. Такой был когда-то и у Лены, только потом в нем разбилась колба, а после, в пожаре, сгорел и корпус, который бережно сохранялся в надежде каким-то чудом купить новую колбу взамен разбившейся.
Все почти сразу принялись расходиться кто по домам, кто по рабочим местам. В честь праздника у поселкового магазина продавали меренги и ватрушки – подарок от соседнего поселка, где не было колхоза, но зато был хлебозавод. Отстояв в очереди, замерзнув, укрываясь от ветра, Лена шла домой и несла Кириллу два больших бумажных кулька.
Глава вторая
I
Кириллу он сразу понравился. Его звали Дмитрием Алексеевичем или просто Алексеичем. Он был на десять лет старше мамы. Впрочем, возраст, как известно, бывает биологический, формальный и, так сказать, психологический. Это условности, но десять лет – это была формальность. Особой разницы в возрасте с ним Лена не чувствовала. Им было о чем поговорить на работе и вне работы. Алексеич работал в колхозе трактористом, но фактически занимался всем, чем требовалось – не только водил трактор, но и чинил его, ремонтировал крыши, помогал с оборудованием в цехе, когда оно выходило из-под контроля и женщинам, даже таким, как Тамарка, было не справиться.
Они вдвоем – Алексеич и Кирилл – ходили на рыбалку и не только на речку, но и на озеро. Кирилл рыбачил, а Алексеич просто скидывал рубашку, закатывал штаны и сидел, подставляя лицо солнцу. Проходя мимо чужих лодок и видя, с какой завистью на них смотрит Кирилл, Алексеич трепал его за плечо и говорил:
– Ничего, брат, когда-нибудь мы с тобой увидим большие корабли.
– Большие-большие? И поплывем на них? – спрашивал Кирилл. – На нашем озере большой корабль не пройдет, тут глубина маленькая.
– Почему сразу на озере, брат? Большому кораблю большое плавание. На море выйдем, на морскую рыбалку.
– Правда?
– Ну, конечно, правда, как же, я же не обманываю тебя, – отвечал Алексеич, никогда не видевший никаких морей, кроме Балтийского и Белого, которых он морями почему-то не считал.
Кирилл так его и называл – Алексеичем. Алексеич был худ, довольно неуклюж, носил массивные часы на не менее массивном браслете из нержавеющей стали и любил старые машины. Вернее, машину – видавший виды «Москвич», купленный после нескольких лет работы на лесосплаве. Вместе с «Москвичом» Алексеич заработал радикулит, хронический насморк и привычку даже летом ходить в теплых шерстяных носках. Алексеич чем-то напоминал Кириллу дядю Сашу: они были похожи внешне. Это признавала и мама:
– Кирюша, завтра я тебя кое с кем познакомлю, к нам в гости придет один человек, ты его, пожалуйста, не обижай.
– Не буду, – спокойно ответил Кирилл, полагая, что в гости заглянет тетя Софья или дядя Василий.
– И веди себя хорошо.
– Я всегда веду себя хорошо, – Кирилл пытался починить машинку, оставшуюся среди немногого уцелевшего после пожара, но так и не смог приладить отвалившееся колесо назад.
Пока Лена возилась у печки с кастрюлей, Алексеич терпеливо сидел и наматывал на колесо кусок нитки. Когда замысел сработал и машинку можно было катать по полу, Кирилл заулыбался и пожал Алексеичу руку. Кирилл уже спал, когда мама с Алексеи-чем завели разговор о колхозе, о будущем, о родственниках. Так, за бутылкой «Агдама», они просидели до утра.
Им было о чем поговорить, хотя, конечно, больше хотелось наговориться Лене. Рассказать и о несбывшихся надеждах, и о пожаре, и о сыне, и о переезде в деревню. В глазах этого человека она видела полное понимание. Он ее поддерживал, но не говорил об этом вслух, лишь слегка кивал и отпивал вино из граненого стакана. Алексеич не был человеком ее круга. У него была сложная судьба, причем сложная настолько, что, если описывать ее в деталях, вышла бы отдельная книга. Он толком никогда не учился, не стремился к высотам, не был в театре, правда, любил музеи и музыку. Любовь к ней привили еще воспитатели колонии, куда он попал по малолетке в пятнадцать, когда они с ребятами, озверев от распитой на пятерых бутылки портвейна, забрались в городе в химчистку и учинили там погром в поисках денег. Родственники от него отказались, а родители вскоре умерли от беспробудного веселья: исчезновение сына из дома снимало с них все обязанности и хлопоты и располагало к бесшабашному образу жизни. Алексеичу повезло: в колонии он попал в хорошие руки. Получил специальность, корочку тракториста, рекомендацию. В армии служил за Полярным кругом, в маленькой части, строившей паромные переправы. После армии – пятнадцать лет на Севере. Там же, на Севере, нашла другого его жена. Он делал вид, что отпускает ее с легким сердцем, чтобы не портить отношения, искал утешения в работе. А потом, когда здоровье стало сдавать, перебрался в поселок: в колхозе требовались работники, и сразу дали комнату. Он рассуждал: «Зачем отказываться, если всё складывается само собой, без каких-либо нечеловеческих усилий».
– Понимаешь, терять было уже нечего, пристанища не нажил за сорок лет. А тут два года живу, и будто родными мне места эти стали. Вот не смейся только, жалею, не узнал о них раньше, не сбежал с той проклятой шахты и с лесоповала. Тишина тут, покой. А озера какие! Загляденье! И никто не шумит, не взрывает, не высыпает уголь целыми горами. И лето тут как лето, а не мокнуть месяц под дождем, а далее снег и тьма. Восхищаются некоторые северным сиянием, картины рисуют, сам видел. Был у нас там один, фотографировал, в газеты снимки рассылал, в журналы. И публиковали, просили еще. Не понимаю я, Лена, хоть убей, – Алексеич подпер руками голову и вздохнул.
Так они встретили утро. Была суббота. Лена взглянула на часы, охнула и засобиралась на работу. Когда Кирилл проснулся, Алексеич стоял у плиты, дожидаясь, когда закипит чайник.
– Ну, чего смотришь? Марш чистить зубы! – скомандовал Алексеич.
Кирилл повиновался. За завтраком он молча жевал булку, поглядывая на то, как Алексеич пьет из стакана крепко заваренный чай. Алексеич постукивал пальцами по столу, о чем-то размышляя.
– Я поел, – тихо сказал Кирилл и отодвинул от себя чашку.
– Мама во сколько обычно приходит?
– В два.
– То есть в два мы уже должны быть дома и обед должен быть готов, – Алексеич потер рукой затылок, зевнул и потянулся так, что послышался треск суставов. – Идем на рыбалку.
Рыбалка Кириллу уже успела поднадоесть. И не только из-за того, что рыбачить можно было каждодневно и, в отличие от города, занятие это не казалось праздной тратой свободного времени. Ему нравилось сидеть с удочкой и терпеливо ждать поклевки, забросив леску поближе к траве, в которой прятались окуни и плотва покрупнее. Но покрупнее – не значит крупные. Кириллу попадалась всякая мелочь, которая при других обстоятельствах сгодилась разве что кошке. Лена с Кириллом не брезговали и этим. Пусть и небольшой, но всё же улов позволял поначалу свести концы с концами, а затем сэкономить деньги, которые требовались абсолютно на всё. И всё же каждый рыбак мечтает о солидном улове, большой рыбине, которая поджидает его. А за ней – следующей, еще крупнее. Таскать мелочь Кириллу очень быстро наскучило.
Дядя Василий и тетя Софья, заметив его с удочкой, посмеиваясь, спрашивали: «Ты еще не всех головастиков переловил? Смотри, лягушек будет мало, комары летом зажрут, спасу от них не будет!» С приходом лета и впрямь от комаров не было отбоя. Они летали огромными полчищами и больно кусали. Поначалу Кирилл сильно страдал от укусов, расчесывал их. Но быстро свыкся и понял, что лучше укушенное место и вовсе не трогать. Теплыми ночами комары протяжно жужжали в доме. Лена натянула на форточки марлю, но это мало спасало. Приходилось перед сном жечь кору, оторванную от лесных трухлявых пней. От едкого дыма слезились глаза, но комары и не думали улетать. Они прятались за печью, летели на второй этаж, в маленькую комнатку под крышей, чтобы ночью не давать покоя.
Перспектива таскать мальков под хохот соседей повергла Кирилла в уныние. Он слез со стула, молча заправил кровать и принялся возиться с машинкой.
– Так не пойдет, Кирилл. Это ты так себя ведешь, потому что нет мамы?
– Нет.
– Разве ты не хочешь на рыбалку?
– Нет.
– Что значит – нет? – улыбаясь, спросил Алексеич, натягивая на ноги резиновые сапоги и стараясь при этом не оставить грязных следов у двери. – Мне казалось, ты любишь рыбалку. И твоя мама мне об этом говорила. Говорила, ты рыбак у нее знатный, кормилец.
– Так и сказала?
– Вот так прямо и сказала, – Алексеич раскатал рукава у рубашки, надел на голову мятую шляпу, которая ужасно раздражала Лену, и вышел, на ходу бросив: – А я думал, мы за щукой пойдем. Но невезуха с товарищем мне сегодня, невезуха.
Едва услышав о щуке, Кирилл заволновался, бросил машинку и принялся одеваться, опрокинув при этом банку с гвоздями, стоявшую под скамейкой. Гвозди раскатились по полу, и их пришлось долго собирать.
– Алексеич, Алексеич, подожди меня, Алексеич, я тоже хочу поймать щуку, я иду с тобой!
Алексеич копался в сарае, громко кашляя и охая, чтобы Кирилл заметил его и не кинулся бежать на речку. Его план сработал. Конечно, он тоже видел размер уловов Кирилла, но старался не показать вида, что ему смешно, будучи в курсе тех трудностей, через которые пришлось пройти ему и его маме, так незаметно, но в то же время прочно вошедших в его непутевую жизнь.
– Проволоку ищу, у тебя нет?