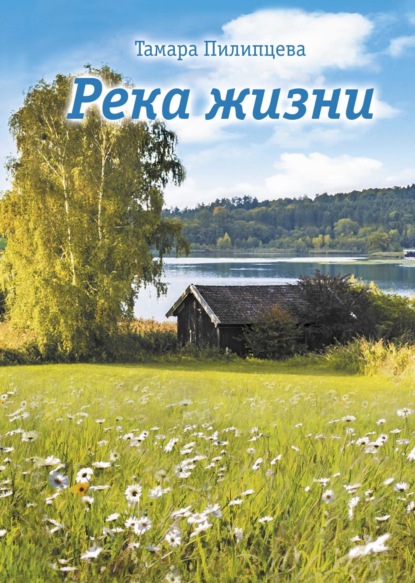
Полная версия:
Река жизни
Даже Фролка Монахов заглянул по-соседски в «дом» Василисы. Любопытно ему стало, почему девчонки так часто ныряют в заросли кустарников. У него и его друзей возле реки в зарослях ракитника и ежевики, обтянутых хмелем, тоже были потаенные места. Там можно было спрятаться от всех, притихнуть и помечтать. А еще, притаившись, можно через щели ветвей подглядеть за купающимися девчонками. А если убежище подходило к реке, то и посидеть, свесив ноги в теплую речную водицу.
На берегу Белой только дети, разомлевшие на солнышке, греются. Благодать! Река поблескивает. А в нее развесистая ива с поклоном наклонилась. Заглядывает в светлые воды реки. Любуется собой. И вправду красивая, есть на что посмотреть. Многочисленные тропинки вьются к ее берегам, разделенные зарослями кустарников. Босоногая Василиса с подружкой Полиной бегут по тропинке к речке. Светлые волосики заплетены в косички, в одной синяя ленточка, в другой – красная. Хотя не ленточки это вовсе, а полоски ткани. Но все равно красиво.
Мир ребенка отличается от мира взрослых. Это мир настоящего. Еще нет груза прожитых лет. Дети не тревожатся за будущее, ведь рядом с ними родители. Они с улыбкой встречают происходящие с ними события, а если и расстраиваются, то ненадолго. Ребенок более открыт, доверчив и поэтому более счастлив. Он умеет искренне радоваться пустякам.
Василиса все смотрит на дорогу, ожидает возвращения отца с ярмарки. Василий с отцом Полины, кумом Мироном, рано утром уехали в уездный город Белогорск. Поехали продавать рожь и льняное масло. Хороший урожай в этом году уродился. Можно деньгами разжиться да инвентарь прикупить. Василиса с Полиной уже и за деревню несколько раз сбегали, все смотрели, не едут ли их тятьки. А потом заигрались в своем «доме» в кустах и забыли про все. Услышали фырканье коня и помчались во весь дух к избе, только пятки сверкали.
А Василий уже покупки раскладывал и рассказывал. За пять пудов ржи приобрел кое-какой инвентарь, около шести аршин ситца и черные кожаные ботинки на высокой шнуровке – жене. У Анисьи даже дух захватило. Прижала ботинки к груди, глаза закрыла от радости, сразу из бабы в девку превратилась. Василий даже крякнул от удовольствия: не ожидал от жены такого бурного, искреннего проявления чувств. Василисе – ленты красные. И стал на стол высыпать сушки, выложил сахара большую головку.
Сам сапоги с ног снимает и посматривает на жену и дочь. А у самого в душе радость плескается. Ему сапоги от отца достались. Надевал их только по праздникам да в поездки. Еще послужат.
А Анисья все не может ботиночки из рук выпустить. Такие в грязь не наденешь, да и на каждый день жалко. А вот по праздникам или в церковь сходить… Это можно. Но в церковь не в них, конечно, пойти, а в лаптях, а перед церковью переобуться и перед алтарем в них постоять. Так надолго хватит. Еще и дочери достанутся. Анисье приятно, что у нее такие ботинки, как у Софьи Андреевны, ну, не совсем такие, но похожие. Да еще приятно, что муж купил, да как раз по ноге, с размером угадал. Это же надо, сам додумался купить, она бы никогда не попросила и сама не купила. Деньги и на хозяйство можно потратить.
В любой деревне всегда свой чудак найдется. Есть такая категория населения земного шара. Луговская не исключение. Мало того, что с такими людьми вечно что-то случается, так это становится достоянием всего околотка. Да они и сами любят подогреть интерес к себе. И неважно, сколько лет ему – коль это есть в человеке, то на всю жизнь. Народ над ними потешался, да и сами они давали для этого повод. И слыли чудаками и неудачниками.
Петуховых в деревне несколько семей было. Но примечательной была семья Петухова Кузьмы. Кузьма никого не боялся и никого не признавал. Это он так сам говорил. Но в действительности он многих боялся, только виду не показывал. Хорохорился, как говорили в деревне. Но кого он по-настоящему побаивался, так это свою жену Матрену. Когда Кузьма напивался (а это случалось не так уж и редко), она и поколотить его могла.
Работать он был небольшой охотник. Свое хозяйство в запустении держал. Матрена была и за мужика и за бабу, да еще и рожать успевала. А Кузьма охотнее в сторожа нанимался, чем с плугом и косой горбатиться. На этом поприще с ним всяческие забавные истории происходили, которые становились достоянием всей деревни.
Однажды ребята с гулянки шли и увидели, как сторож, охранявший сад господ Луговских, храпака такого давал, что не могли они не свернуть на этот зов. Кузьма возле шалаша на соломе расположился – ночи еще были теплыми – и вот рулады выводит. У сторожа был соломенный шалаш с таким маленьким лазом, что в него можно было влезть только на четвереньках и лучше пятиться, как рак, а то можно внутри и не развернуться. Поэтому в теплые ночи он предпочитал спать рядом с шалашом. Озорники нарвали яблок и обложили ими сторожа, а ногу привязали к столбу шалаша и начали яблоню трясти. Кузьма спросонья как рванул: и шалаш повалил, и сам распластался. Долго еще с поцарапанным лицом ходил…
Но и у него хватало соображения, чтобы всю деревню провести. Где-то в июле по деревне прошел слух, что в этом году возле Ярыгинских болот уродилась отменная малина. Бабы засобирались за полезной ягодой. Но на следующий день от дома к дому слух пошел, что Кузьма Петухов из лесу вернулся в разорванной одежде и с перекошенным от страха лицом. И всем охотно так рассказывал, что ходить к болотам в этом году не надо, потому что там завелся медведь, а может, и леший, он от пережитого ужаса не очень и разглядел. Еле ноги унес. Как чумовой, мол, улепетывал в сторону деревни, только пятки сверкали. Петр Петрович на своей новенькой бричке ни за что бы не догнал. А в доказательство показывал порванную одежду и царапины на лице. А сам свои плутовские глаза прячет.
Мужики заподозрили неладное и решили выведать, в чем дело, то есть «язык развязать». Сколько самогону на него извели, а все без толку. А Кузьма стал куда-то пропадать, ходил веселым и на народ свысока посматривал. Видно было, что распирает его от переизбытка чувств. Скоро секрет открылся. Поехал Матвей, сын Козодоева Клима, на базар в соседний уездный город Дубровицы и увидел Кузьму, продающего малину. Чудак, а скумекал, как конкурентов устранить! Долго бабы дарили ему косые взгляды. Только с тех пор ни с медведями, ни с нечистой силой в малиннике Ярыгинских болот никто не встречался.
Из Белогорска Василий приехал поздно. Анисья миску со щами поставила, ложки мужу и дочери подала: «Ешьте-ешьте, а то на голодный желудок цыгане приснятся». Василий шутку не поддержал, молча ужинал. Анисья видела, что глубокие складки пролегли на его лбу. Что-то его мучило. Но с вопросами не лезла. Сам расскажет.
– Слышь, мать, из уезда многие крестьяне уезжают за Урал. Большие наделы земли там дают безземельным, – старался говорить весело, а глаза прятал. Ничего не ответила Анисья, только руки, как две плети, повисли вдоль тела.
Во все времена в поисках лучшей доли снимались люди с обжитых мест, захватив в дорогу самое необходимое. Двигались туда, где, по их разумению, земли больше, а значит, жизнь сытнее. Мужик верил в существование земного рая и отправлялся на его поиски. Неистребимо желание человека дышать вольным воздухом и есть вдоволь. Часто тернистым оказывался этот путь. Но как-то приспосабливались. Не всегда им были там рады, но люди как-то договаривались с аборигенами и начинали осваивать землю, строить жилище. Проходили годы, и они становились частью местного населения, одни легко, а другие с трудом вливались в новую для них жизнь, трепетно оберегая свои обычаи, веру.
Ночь проворочалась Анисья. Василий спал в «полголовы», все взвешивал «за» и «против». Не по собственной воле пришла в голову мысль о переезде. Само государство притеснениями, поборами, бедностью подталкивало крестьянина к переселению. А на новых землях обещано много земли, а значит, жизнь сытая. А с другой стороны – хорошо там, где нас нет. Хоть и в нищете жили, но все-таки все свое, а уехать в далекие неизведанные края – это не к куму в соседнюю слободу съездить. А вдруг будет еще хуже? На что обреку жену и дочь? Василисе уже двенадцать годков минуло. Как слеп человек перед судьбой… На дороге судьбы тоже есть перекрестки. Не пропустить бы свой, а то свернешь не туда – и вся жизнь наперекосяк пойдет.
Завтракали молча. Глаз не поднимали. Но когда встретились глазами, ответ жена прочитала во взгляде мужа. И на душе стало легче.
– Пойду по хозяйству похлопочу.
На пороге обернулся. Обвел глазами свою избенку. Бросились в глаза занавески. Отбеленный холст так искусно вышит руками жены, что кто бы ни вошел в избу, останавливал взгляд на них. Да в избе, кроме сколоченных Василием стола, лавок и полатей, не было ничего примечательного, но все это было такое родное…
– Все-таки где родился, там и пригодился.
Анисья в знак согласия головой кивнула: где человек родился, там и помереть должен.
Задержал взгляд на иконе в красном углу и с улыбкой, на ходу накинув залатанный армячишко, шагнул в сени.
Никто в деревне не узнал об их переживаниях. Не любили они пустые разговоры вести. Василий скуп был на слова, да и Анисья не была болтливой. Не любила и о других сплетничать да худое говорить. Особенно не нравилось ей, когда преувеличивали, искажали и навешивали ярлыки тем, кто этого не заслуживал. Может быть, поэтому многие считали ее гордячкой, излишне строгой, чрезмерно справедливой. Но ценили за другие качества. Была она надежной, слов на ветер не бросала: если дала слово, то всегда сдержит. Поэтому и ее ровесники, и люди постарше всегда к ней относились с уважением. Знали: она не подведет.
Россия сотрясалась от русско-японской войны 1904–1905 годов, первой русской революции 1905-го, но эти события мало отразились на жизни одной из тысяч деревень России – деревни Луговской. Большая страна жила своей жизнью, деревня Луговская – своею, каждая отдельная семья – своею. В деревне больше обсуждаются свои, деревенские события. Все на виду. События обсуждаются разные: кто родился, кто крестился, кто женился, кто напился, кто помер. Трудно сохранить семейные тайны и происшествия. А они были трагические и забавные, печальные и радостные. И передавались они из уст в уста, из избы в избу. И истории эти в пути обрастали какими-то небылицами, перевирались.
В Луговской жизнь шла самая что ни на есть простая. Деревня вдалеке от городов, дорог. Редко какой чужак наведается. Кому-то может показаться, что такая жизнь однообразна и примитивна. А может быть, это и есть настоящая жизнь со множеством больших и маленьких событий, которые происходили в деревне так же, как в больших и малых городах страны, да и всего земного шара. Крестьянин, как и городской житель, радовался или огорчался происходящим событиям. Но крестьянин был ближе к природе, поэтому лучше ее понимал. Городской житель, попавший под весенний дождь, расстроится, а крестьянин порадуется: урожай будет хорошим. Колосились хлеба, зрели яблоки, дымили над избами трубы, дети с шумом сбегали к Белой. И все это дышало настоящей жизнью.
Вчера только было грязно, под ногами жижа хлюпала, дождь и снег боролись – кто кого, но вот она «пришла, повисла», и все преобразилось. Установилась чудесная погода с мелким морозцем. Падающий снег уже не таял. Как у хорошей хозяйки, все засверкало чистотой. Под ноги не надо глядеть, а можно природой полюбоваться. На крышах домов только вчера уродливо торчала солома, поднятая ветром, а сегодня крыши бело-серебристые.
В начале зимы сразу много снега навалило: для городского жителя морока, а крестьянин радуется: много снега – значит, хорошее одеяло для озимых, не померзнут. Городского человека скука посещает, а сельскому непонятно это чувство. У него и зимой дел полон воз.
Что за чудное видение – русская деревня зимой! Сколько написано, стихов сочинено, песен спето, сказок рассказано, где зимушка-зима главная героиня. А вот приходит она – и дух перехватывает. Дарит человеку состояние сказочности. Морозно. Деревья стоят в инее, не шелохнутся, боятся наряд свой сбросить. У елей и сосен на каждой пушистой лапе по белой подушке покоится. У берез ветки ажурные, глаз не отвести. Дубы-великаны потрескивают, поохивают. А если эту красоту подсветят лучи солнца и заискрится все вокруг, то двигаться не хочется. Остановись, мгновенье!.. Это сказано вот о таких явлениях. Дома надели белые шапочки. Но какие они разные! На доме господ Луговских аккуратная шапочка, как зонтик от солнца у Софьи Андреевны, – белая с ажуром. А вот у бабки Маланьи – набекрень, как и ее изба покосившаяся. Снег укутал деревню, а она и рада отдохнуть. Сразу как-то притихла. Ночью зимой даже собаки ленятся лаять. Но вот засветилось одно окошко, затем второе, третье… Проснулась деревня. Встали хозяева, и начинается бесконечная череда дел. Доброго вам дня!
А малышня с утра носами к окну прилипает и планы всякие выстраивает. У кого бы валенки утащить – у отца или матери, зипун чей-нибудь прихватить. Да и айда на горку. Да не забыть морковку и уголек из печки выгрести. Какая же зима без снежной бабы?
– На речку не ходите! – кричат им вслед родители. Они знают, что не зря беспокоятся. Опасное это время, морозов крепких не было. Поэтому ледок еще тоненький, к тому же снегом припорошенный. И не видно зловещих, опасных незамерзших участков. Полынья только и ждет, чтобы кто-нибудь ступил. Сразу затянет. Вода в реке не стоячая. Вот застынет речка, тогда и на льду покататься можно. А мужики наделают проруби, в них бабы полоскать белье будут, холсты отбеливать, на снегу расстилать.
Приближалось Рождество, Святки, Крещение, а значит, веселье. Парни и девки бедокурили: кому колом двери подопрут, у кого трубу зипуном заткнут. Молодежь колядовала, ходила по домам с поздравлениями, припевками, потехами. Праздник славили песнями. По улицам расхаживали ряженые: шубы наизнанку, лицо сажей вымазано. На санках катались. А по вечерам парни и девчата собирались на посиделки, пели песни, гадали и играли в святочные игры.
Малышня тоже не отставала. Ватаги сверстников ходили от дома к дому и пели незатейливые колядки с пожеланиями хозяевам крепкого здоровья, хорошего урожая. Хозяева их одаривали кто куском пирога, кто пряником, кто сахаром или конфетами.
Наступил 1914 год. Ничто не предвещало беды. Но она ворвалась в крестьянскую жизнь. В августе приехавший из уезда Луговской Петр Петрович рассказал, что началась война, в которой участвуют десятки стран. Германия объявила войну России, Великобритания – Германии, Австро-Венгрия – России, Франция – Австро-Венгрии, Япония – Германии, Россия – Турции… У мужиков от перечисления стран голова кругом пошла. Многие таких названий никогда не слышали и не подозревали об их существовании. Несколько континентов полыхали в пожаре войны. Это была первая в истории человечества война, охватившая весь земной шар. Россия объявила мобилизацию и начала стягивать войска к западным границам. Началась мобилизация мужчин всех сословий, это коснулось и мужиков Луговской. Призывали лиц мужского пола в возрасте от девятнадцати до тридцати восьми лет. Из деревни в шестьдесят дворов призвали двадцать шесть мужиков. Половина крестьянских хозяйств осталась без кормильцев. Призвали мужиков самого работоспособного возраста. Мужики ушли воевать, не понимая, зачем и для кого нужна эта война и зачем они должны это делать. Шла уборка урожая, и для крестьянина это было важнее всех войн. Они не могли и представить, как долго она будет длиться: 1554 дня, число мобилизованных превысит 70 миллионов человек и каждый десятый будет убит.
Не пощадили и семью Никитиных. Единственного кормильца забрали. В последние дни Василий старался как можно больше по хозяйству дел переделать.
– Сходил бы, Васенька, в церковь, покаялся бы, отец Святослав грехи бы отпустил. Ведь на войну идешь, – в очередной раз завела разговор жена.
– Нет, Анисьюшка, – в тон ей отвечал Василий, – не пойду и каяться не буду. Каяться надо только перед самим собой. Живу по совести и не нуждаюсь в покаянии.
Не стала Анисья перечить. Молча перекрестила, когда он спиной повернулся, чтобы шагнуть за родной порог.
По Луговской не проносились эскадроны с пташками наголо, до них не долетали выстрелы. Но когда в деревне почти половина хозяйств осталась без хозяина, то значит, осиротели эти избы. Да, Бог все дает на время – и даже жизнь. Но о плохом старались не думать, надеялись, каждая семья надеялась, что их муж или отец обязательно вернется. Мир сотрясался, а у жителей Луговской происходили свои события: у Столбовых Макара и Прасковьи родился сын Николай, Тихон Мартюшев и Степанида Монахова сыграли свадьбу, умерла Ульяна Портнова.
Тяжелое выдалось время. Туго приходилось и солдатке Анисье Никитиной без мужа. Чтобы засеять хотя бы часть надела, пошла батрачить за лошадь и инвентарь. Чтобы прокормиться, нанималась к зажиточным хозяевам. Помогали соседи да крестный Василисы, кузнец Наум Мартюшев. Да у них своих забот полон рот.
Нет, не так Анисья и Василий жизнь свою представляли. Мечтали вырастить дочь, отдать за хорошего человека, внуков нянчить, но вмешались злые силы, и все пошло наперекосяк. Как она будет без мужа, ведь в крестьянском хозяйстве мужик главная опора, на нем все держится. Как пахать, сажать, косить, молотить? Нет у них таких сил. Не пойдут ли они по миру? В голове Анисьи мысли бежали о ненадежности счастья. Блеснет, как молния, и нет его. Тяжело было на душе Анисьи, но главное сейчас – не отчаиваться, не показывать дочери, что мир для нее рухнул. Чтобы не чувствовала она себя сиротой при живой матери. Теперь лишь бы подольше на этом свете задержаться, чтобы дитя на ноги поставить. Хотя Василиса уже не дитя. Летом тринадцать лет исполнилось. Но чем дольше Василиса с матерью останется, тем легче будет. Чтобы не пришлось ей горе мыкать у чужих людей.
Жалела, что дочь неграмотная, если бы грамоту освоила, может быть, в жизни легче было бы. Но видела, что у неграмотной девочки, практически не покидавшей своей деревни, откуда-то взялись душевная гармония, доброта, сочувствие к людям, обостренное чувство справедливости и глубокое, въевшееся во все поры ее молодого организма, дружелюбие.
Приближалось Рождество. Но в этом году не было той праздничной атмосферы, которая царила при жизни отца. В этот день они дарили друг другу подарки, сделанные своими руками. Пекли пироги. Ходили в гости. Но и в других семьях поселилось уныние. Хотя вернулись после лечения в госпитале Игнат Никанорович Монахов и Федор Иванович Маркелов. Оба были ранены, но повезло: выжили.
И у Василисы зародилась надежда. В Рождество может произойти чудо. Она представляла – вот войдет отец и скажет, как ни в чем не бывало: «С Рождеством вас, жена и дочь». И неумело обнимет, смущаясь своей нежности. И потечет жизнь по-прежнему. Рождество прошло, но чуда не произошло.
Василий пропал в войну, как в воду канул. Анисья в уезд два раза съездила. «Нет сведений», – ответили. Был человек, и пропал. Ни слуху о нем, ни духу. Затерялся его след на чужбине. Не всем суждено было вернуться с этой войны. Погибли за Россию и царя-батюшку Козодоев Матвей, Никифоров Севастьян.
Отсутствие рук хозяина чувствовалось во всем. В нескольких местах стала протекать крыша. Во время дождей Анисья и Василиса подставляли корыто. Прогнили половицы в сенях. Не хватало дров. Теперь все это легло на женские плечи.
Уже очень хотелось тепла. Зима была суровая, серая, снежная и какая-то длинная-длинная. В такое время неспокойно на сердце у крестьянина.
Беспокоилась Анисья. Все чаще заглядывала в опустевшие закрома. Ржи оставалось не больше двух пудов. Дотянут или не дотянут? Осталось немного прошлогодней картошки засохшей и проросшей, но даже эти клубни радовали. Остатки ячменной муки мешали с картофелем и мякиной, пекли лепешки. Они с Василисой не бог весть какие едоки, но надо дотянуть до крапивы, щавеля, лебеды. Страшен голод, а он может наступить, когда все сусеки опустеют. Март не торопился вступить в свои права.
После холодных и голодных февраля и марта наконец наступила настоящая весна. Наступила сразу, без разминки. Снег сошел быстро, как будто и не мело всю зиму. Земля оживала. Солнце пригревало и хотелось снова и снова смотреть на него.
И в лесу потекли свои ручейки: березовый сок. Василиса и Полина пошли собирать его в рощу. Он хорошо силы восстанавливает. За день может наполниться целое ведро.
– Как ты думаешь, Василиса, деревцу больно? – Полина остановилась в раздумье. От напряжения даже вестники весны – веснушки потемнели.
– Тятя сказывал, что раны зарастают, – Василиса тяжело вздохнула при упоминании отца. – А еще он говорил, если береза дает много сока, лето будет дождливым.
– А почему у молодых березок кора темная, а у взрослых деревьев – светлая?
– У моей мамы с возрастом волосы становятся светлее. Наверное, и у берез так. Точно, как у этой березки, – Василиса погладила ствол березы.
Они шли по тропинке. Вдруг Полина резко остановилась и всплеснула руками:
– Василиса, подснежник!
Девочки наклонились и, как завороженные, смотрели на крупный бутон, похожий на висящую каплю молока.
– Что-то он напоминает, – медленно протянула Полина.
– Наверное, колокольчик, – ответила Василиса.
– И правда, – согласилась подруга.
Девочки осторожно обошли полянку, чтобы не наступить на цветки, и углубились в рощу. Каждую весну прибегали подружки сюда, и каждый раз испытывали восторг от увиденного.
– Василиса, смотри, какие разные цветки на одном стебельке!
– Так это медуница, – почти по слогам произнесла Полина. – Попробуй, какие они вкусные.
Девочки стали рвать цветы и жевать. Лепестки были сладкие, и подружки с удовольствием ими лакомились.
– Смотри, Василиса, на розовых и красных цветках пчелы больше кружат!
– Потому что они более сладкие, – со знанием дела произнесла подруга.
Вскоре появились кислые стебли щавеля. Молодой щавель девочки собирали на лугу, радуясь упругости и сочности листьев. Василиса нарвала целое лукошко. Если добавить немного картошечки, похлебка получится. Картошку экономить надо, ее совсем немного осталось. Увидела первоцвет. В деревне их называли золотыми ключиками, а кто просто калачами. Их желтые цветы-ключики среди зелени бросались в глаза. Они похожи на молодого барашка, такие же курчавые.
– А моя бабушка зовет их баранчиками, – жуя, произнесла Полина. Они срывали стебли растения и жевали его сочную мякоть.
Сладкими хрустящими трубками дягиля полакомились вдоволь. В это пору они сочные и мягкие. Девочки и домой нарвали, пусть и родители полакомятся. К сенокосу дягиль станет толстым и твердым. Но тогда он годится для другого. Мальчишки срезали нижнее колено, очищали, и дягиль превращался в «фыркалку». Ягоды из такой трубки бесшумно летели на десятки метров. Мальчишки залезали на деревья и обстреливали девчонок. Ох и визгу было.
Две подружки-хохотушки. У Василисы – пятнадцатая весна жизни, у Полины – тринадцатая. Возраст такой, что все вызывает смех. Вон идет дед Лукьян, что-то шепчет, а им смешно. Захар трубу чистил и так измазался сажей, только глаза белеют на черном лице, а девчонки смотрят и знай себе заливаются. И так они задорно это делали, что нельзя было не смеяться вместе с ними.
Все в жизни – из детства. Основа человека закладывается в нем. В детстве отпущено больше счастья. И совсем не потому, что его действительно больше, а потому, что в силу возраста в детстве все по-другому воспринимается. И оттого ребенок всегда счастливее взрослого. Но и ребенка задевают те или иные события, происходящие в стране, в семье.
Василиса прислушалась. О стенки ведра ударяют струи молока. Мать корову доила. Что-то говорит ей ласковым голосом. Кормилица! Сейчас мама подоит корову и сготовит кашу. Муки совсем немного осталось. Но еще летом Анисья собрала и насушила семян лебеды. Эти семена варили в молоке, и получалась каша. Когда Василиса была совсем маленькой, она называла кашу «ореховой» за привкус ореха. А сейчас они накрошат в миску хлеб и зальют молоком. Если молока нет, то можно и водой залить. Тюря получится. Есть-то хочется. Но хлеб с молоком все-таки вкуснее.
Страшило Анисью, что не сможет сена заготовить на зиму и придется корову продать. Прошедшим летом кум Наум помог. А дальше? У него своя семья и свое хозяйство.
Василиса взрослела. Это уже не девочка-подросток, а красивая, статная девушка. И характер со взрослением менялся. Ушли детская наивность и непосредственность. Стала сдержаннее. Человек радуется своей молодости. Потому сила особая бурлит, молодая. Как и другим девчатам и ребятам, ей хотелось петь, танцевать, а то и просто посидеть на скамейке со своими сверстниками, поговорить, пошутить.
У молодежи было любимое место. Недалеко от избы Никифоровых лежал штабель толстых бревен. Их Севастьян до войны еще привез, чтобы сыну Фролу избу построить. Но Севастьяна призвали на фронт, где он и погиб. Вот бревна-то и приглянулись жителям. Утром прибегала детвора и затевала какую-нибудь игру. Как только солнце начинало припекать, бежали на реку. Днем пожилой люд выходил косточки погреть. А после обеда и мужики присаживались – цигарку затянуть, посудачить, обсудить новости в мире, стране, деревне. Вечером молодежь заступает на вахту. После трудового дня собирались попеть, поиграть, да и позубоскалить охота. В общем, стали бревна пристанищем для всей деревни.

