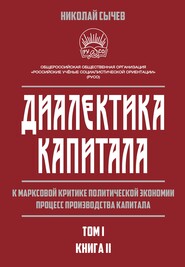
Полная версия:
Диалектика капитала. К марксовой критике политической экономии. Процесс производства капитала. Том 1. Книга 2
Отвечая на этот вопрос, автор, с одной стороны, воздает должное исследовательской программе «человеческого капитала», указывая на ее достоинства: она «решительно ушла от некоторых своих ранних наивных формулировок и дерзко атаковала некоторые традиционно игнорируемые темы в экономической теории, такие как распределение личного дохода во времени. Более того, она никогда не теряла из виду своей исходной цели – показать, что обширный ряд кажущихся несвязанными друг с другом событий в реальном мире является результатом определенной схемы индивидуальных решений, для которых характерно жертвование текущими выгодами ради будущих»[206].
С другой стороны, утверждает, что эта программа «сейчас находится в состоянии, напоминающем «кризис». Однако она «никогда не умрет, но будет постепенно угасать, пока ее не поглотит новая теория …», «гипотеза скрининга знаменовала поворотную точку в «революции инвестиций в человека в экономической мысли», поворот к более богатому и широкому видению последовательных выборов, осуществляемых индивидом на протяжении жизненного цикла». Но в целом «исследовательская программа человеческого капитала в 1980-е годы продолжала деградировать, бесконечно перерабатывая все тот же материал без продвижения в понимании проблем образования и обучения; одним словом, не произошло ничего нового, и сам предмет уже «зачерствел» … Даже гипотеза скрининга сегодня находится приблизительно там же, где была в 1975 г. Дальнейшие проверки ее выводов с помощью данных о тех, кто работает не по найму, или о занятости в государственном секторе против занятости в частном секторе оказались совершенно неубедительными»[207].
Такой «отрицательный вердикт» М. Блауга представляется вполне правомерным. Ибо, по его словам, «эмпирическое содержание» концепции «человеческого капитала» по существу не изменилось, а теории как таковой сторонники этой концепции так и не смогли выработать. Постепенно «деградируя», она приходит в упадок, а потому перспективы ее дальнейшего «плодотворного» развития являются весьма сомнительными, что совершенно справедливо подчеркивает автор.
Завершая рассмотрение товарно-фетишистских представлений о капитале, остановимся на эклектической концепции капитала, выдвинутой французским экономистом Т. Пикетти. Наиболее обстоятельно она изложена в его солидной монографии «Капитал в XXI веке», вышедшей в свет в 2013 году[208].
Резюмируя свои размышления о капитале, Т. Пикетти акцентирует свое внимание на следующих положениях.
Во-первых, в масштабе не только отдельного предприятия, но и страны в целом или даже всей планеты производство и доходы, получаемые от него, можно представить в виде суммы доходов с капитала и от трудовой деятельности. Именно поэтому национальный доход = доходы с капитала + трудовые доходы[209].
Во-вторых, когда речь идет о капитале (без каких-либо дополнительных уточнений), то «из него всегда будет изыматься то, что экономисты часто – и, на наш взгляд, неверно – называют «человеческим капиталом», т. е. рабочая сила, навыки, образование, личные способности» (заметим, мимоходом, три последних компонента суть неотъемлемые атрибуты рабочей силы. – Н.С.). Поэтому в данной монографии «под капиталом понимается совокупность не человеческих активов, которыми можно владеть и которые можно обменивать на рынке. Капитал включает в себя всю совокупность недвижимого капитала (здания, дома), используемого для жилья, и финансового и профессионального капитала (строения, оборудование, машины, патенты и т. д.), используемого предприятиями и управленческим аппаратом»[210].
В-третьих, не входя в состав вещного (физического) капитала, человеческий капитал вместе с тем есть просто капитал. Однако не он «объединяет все формы богатства, которыми априори могут обладать индивиды (или группы индивидов) и которые могут передаваться или обмениваться на рынке на постоянной основе. На практике капиталом могут владеть как частные лица (тогда речь идет о частном капитале), так и государство или государственные учреждения (тогда речь идет о государственном капитале). Существуют также промежуточные формы (виды. – Н.С.) коллективной собственности, которая принадлежит юридическим лицам, преследующим специфические цели (фонды, церкви и т. д.). … Само собой разумеется, что граница между тем, что может и не может принадлежать частным лицам, сильно варьируется во времени и в пространстве, как это показывает в крайних формах пример рабства. То же касается воздуха, моря, гор, исторических монументов, знаний. Некоторые частные лица хотели бы ими владеть, мотивируя свои желания соображениями эффективности, а не только личным интересом. Но совсем не факт, что это соответствует интересам общественным. Капитал не является незыблемым понятием – он отражает уровень развития данного общества и характер сложившихся в нем отношений»[211].
В-четвертых, термины «капитал» и «имущество» суть взаимозаменяемые понятия, т. е. полные синонимы. «Отсюда проистекает определение термина «капитал» в двух взаимосвязанных аспектах.
1. В том плане, что его употребление нужно ограничить различными видами (формами, по автору) имущества, созданными человеком (строения, машины, оборудование и т. д.) и исключить из него землю и иные природные ресурсы, которые человечество получило, не прилагая при этом никаких усилий. Но «с этой точки зрения земля является частью имущества, а не капитала. Сложность состоит в том, что не всегда можно отделить стоимость строений от стоимости земельного участка, на котором они возведены»[212].
2. В том плане, что его можно применять только по отношению к тому имуществу, которое непосредственно используется в процессе производства. «Например, золото следует считать частью имущества, а не частью капитала, потому что золото служит лишь средством накопления. Однако и в этом случае нам кажется, что подобное исключение нежелательно, да и неверно: золото иногда используется как фактор производства, например, в ювелирном деле, в электронике или в нанотехнологиях. Все формы (виды. – Н.С.) капитала всегда выполняют важную роль: с одной стороны, они являются средством накопления; с другой – фактором производства. Поэтому мы решили, что будет проще не проводить строгого различия между понятиями имущества и капитала»[213].
Исходя из вышеизложенного, автор делает вывод, согласно которому под национальным имуществом, или национальным капиталом, следует понимать выраженную в рыночных ценах общую стоимость всего того, чем обладают жители и правительство данной страны в данный момент времени и в силу этого то, что можно обменять на рынке. Речь, таким образом, здесь идет о сумме нефинансовых активов (жилья, земельных участков, движимого имущества, строений, машин, оборудования, патентов и других профессиональных активов, находящихся в непосредственном владении) и финансовых активов (банковских счетов, сбережений, облигаций, акций и других видов долевого участия в компаниях, различных инвестиций, договоров о страховании жизни, пенсионных фондов и т. д.), из которой вычтены финансовые пассивы (т. е. все долги). Поэтому «если мы ограничимся активами и пассивами, которыми обладают частные лица, то получим частное имущество, или частный капитал. Если мы будем рассматривать активы и пассивы, которыми владеет государство и различные государственные органы (местного самоуправления, социального обеспечения и т. д.), то получим государственное имущество, или государственный капитал. По определению национальное имущество представляет собой сумму этих двух понятий: национальное имущество = частное имущество + государственное имущество.
В настоящее время в большинстве развитых стран государственное имущество очень невелико (а то и вовсе измеряется отрицательными величинами, когда государственные долги превышают государственные активы), а частное имущество, как мы увидим, повсюду представляет собой основную часть национального имущества. Но так было не всегда, поэтому эти два понятия нужно различать»[214].
Уточняя исходный тезис своей концепции, Т. Пикетти подчеркивает, что используемое в ней понятие капитала исключает человеческий капитал (ибо он не может обмениваться на рынке, по крайней мере, в нерабовладельческих обществах), тем не менее оно охватывает не только физический капитал (т. е. земельные участки, строения, оборудование и другие материальные предметы), но и нематериальный капитал, например, в виде патентов и других прав интеллектуальной собственности, которые учитываются двояким образом: 1) как нефинансовые активы (в том случае, если индивиды непосредственно владеют патентами); 2) как финансовые активы (в том случае, если частные лица владеют акциями компаний, обладающих патентами), – второй вариант встречается гораздо чаще. «В целом многие формы (виды. – Н.С.) нематьериального капитала учитываются посредством биржевой капитализации компаний. Например, рыночная стоимость компании часто зависит от ее репутации и от имиджа ее брендов, от ее систем информации и методов организации, от материальных и нематериальных инвестиций, осуществляемых для повышения привлекательности ее продуктов и услуг, от расходов на исследования и развитие и т. д. Все это учитывается в цене акций и других формах участия в капитале компаний, а значит, и в стоимости национального имущества»[215].
В этой связи автор внес второе уточнение, согласно которому в каждой стране национальное имущество может разделяться на внутренний и иностранный капитал, т. е. национальное имущество = национальный капитал = внутренний капитал + чистый иностранный капитал. При этом «внутренний капитал выражает стоимость объема капитала (недвижимость, предприятия и т. д.), размещенного на территории данной страны. Чистый иностранный капитал – или чистые иностранные активы – выражает имущественное положение страны по отношению к остальному миру, т. е. разницу между активами, которыми владеют жители страны в остальном мире, и активами, которыми остальной мир владеет в данной стране»[216].
Мы сознательно изложили столь подробным образом ключевые положения рассматриваемой концепции, чтобы читатель мог убедиться в том, что в теоретическом отношении она, действительно, никакой эвристической ценности не представляет, а потому ее автор вряд ли может именоваться «новой звездой мировой экономической науки» и уж тем более «современным Карлом Марксом», о чем вещают зарубежные экономисты, некоторые из которых являются лауреатами Нобелевской премии по экономике. Главный недостаток этой концепции заключается в том, что она базируется на вульгарной методологии описательного эмпиризма (с вкраплением отдельных элементов современного макроанализа), восходящей к одному из основоположников неклассического направления политической экономии – французскому экономисту Ж.Б. Сэю. Именно в соответствие с этой методологией дается эклектическая трактовка капитала, суть которой предопределяется, в свою очередь, тремя главными критериями.
Первый критерий: разграничение материального (вещественного) и нематериального (невещественного) состава капитала. Не определяя сущность последнего (в строго категориальном аспекте) автор, во-первых, исключает из этого состава человеческий капитал, который, однако, называется просто капиталом и под которым понимается рабочая сила, т. е. совокупность физических и умственных способностей человека; во-вторых, относит к физическому капиталу различные материальные активы (земельные участки, строения, машины, оборудование и т. п.), а к нематериальному капиталу различного рода финансовые активы (акции, облигации, патенты и т. п.), игнорируя тем самым социальную природу капитала как исторически определенного общественного явления.
Второй критерий: характер принадлежности определенных видов богатства тем или иным субъектам (исключительно в юридическом смысле). Сообразно этому различаются частный и государственный капитал. Хотя при этом автор справедливо подчеркивает, что сам по себе капитал не есть незыблемое понятие, поскольку оно отражает достигнутый уровень развития данного общества и характер сложившихся в нем отношений, тем не менее этот последний аспект опять-таки игнорируется в указанных дефинициях, что, впрочем, всецело соответствует используемой при этом методологии.
Третий критерий: капитал и имущество суть взаимозаменяемые понятия, полные синонимы. Опираясь на такое вульгарно-фетишистское представление о капитале, автор прилагает неимоверные усилия для того, чтобы определить, какие предметы входят в состав капитала, а какие – в состав имущества (заметим, мимоходом, деление капитала на основной и оборотный остается вне поля зрения автора). Подобного рода трудности неизбежно возникают в том случае, когда натурально-вещественная форма капитала отождествляется с его стоимостной формой, что характерно для авторской концепции.
Подведем краткие итоги. Анализ вышеуказанных концепций показал, что, базируясь на товарно-фетишистских представлениях о капитале, они имеют три главных недостатка, которые свидетельствуют о научной несостоятельности этих концепций.
В них, во-первых, капитал рассматривается как внеисторическое (зачастую, вечное) явление, имманентное всем ступеням развития экономики и общества; во-вторых, капитал отождествляется с деньгами, со средствами производства, с естественными и приобретенными способностями человека, с материальными и нематериальными активами; в-третьих, игнорируется социальная природа капитала, его общественная форма.
Все эти недостатки были устранены в рамках второго направления исследования капитала, где он трактуется, с одной стороны, как историческое явление, присущее определенной ступени социально-экономического развития; с другой стороны, как общественно-производственное отношение, складывающееся между капиталистом и наемным рабочим. Это направление связано с учением К. Маркса, выработавшим социально-экономическую теорию капитала. К более подробному ее рассмотрению мы и переходим.
Глава 5
Социально-экономическая теория капитала к. Маркса
§ 1. Формирование марксистской теории капитала
Впервые проблема капитала была поставлена К. Марксом в «Экономическо-философских рукописях 1844 года». Как известно, они образуют исходный пункт становления марксистской политической экономии.
В этих рукописях представлены обширные выписки, сделанные К. Марксом из заинтересовавших его работ известных экономистов: Ж.Б. Сэя, Ф. Скарбека, А. Смита, Д. Рикардо, Дж. Милля, Д. Мак-Куллоха и др. Тщательно отбирая и группируя собранный материал, К. Маркс уделил особое внимание анализу трех источников доходов, в том числе и прибыли на капитал.
Стремясь, прежде всего, осмыслить сущность капитала, К. Маркс указывал на связь последнего с частной собственностью. Отсюда вопрос: «На чем зиждется капитал, т. е. частная собственность на продукты чужого труда?»[217]
Поскольку К. Маркс только приступил к изучению политической экономии и в силу этого не имел еще четкого ответа на данный вопрос, он обратился к своим предшественникам. По мнению Ж.Б. Сэя, «если даже капитал не восходит к грабежу или мошенничеству, то все же необходима помощь законодательства, чтобы освятить наследование»[218].
В этой связи возникают, в свою очередь, другие вопросы. «Как человек становится собственником производительных фондов? Как он становится собственником продуктов, производимых с помощью этих фондов?» Согласно Ж.Б. Сэю, «на основании положительного права»[219].
Но «что приобретают люди вместе с капиталом, например, с наследованием крупного состояния?» Ответ А. Смита: «Человек, наследующий крупное состояние, непосредственно не приобретает тем самым политической власти. Та сила, которая непосредственно и прямо переходит к нему с этим владением, есть сила покупательная, право распоряжаться всем трудом других или всем продуктом их труда, имеющимся в данное время на рынке»[220].
«Итак, – подчеркивал К. Маркс, – капитал есть командная власть над трудом и его продуктами. Капиталист обладает этой властью не благодаря своим личным или человеческим свойствам, а лишь как собственник капитала. Его сила есть покупательная сила его капитала, против которой ничто не может устоять.»[221]
Но «что такое капитал?» По А. Смиту, это «определенное количество накопленного и отложенного про запас труда», т. е. резюмировал К. Маркс, «капитал есть накопленный труд»[222].
Однако капитал есть не всякий накопленный труд, а прежде всего накопленный чужой труд. Это прошлый, овеществленный труд, который представляет собой производительный фонд, т. е. «любое накопление продуктов земли и промышленного труда». Такой фонд становится капиталом только в том случае, когда «он приносит своему владельцу доход, или прибыль»[223].
Отсюда вытекает противоположность между капиталом и трудом, капиталистом и рабочим. Ибо «в лице рабочего субъективно существует то, что капитал есть полностью потерявший себя человек, подобно тому, как в лице капитала объективно существует то, что труд есть человек, потерявший самого себя»[224].
Но эта противоположность между ними предполагает одновременно их единство, поскольку они не могут существовать друг без друга. «Рабочий производит капитал, капитал производит рабочего, следовательно, рабочий производит самого себя, и продуктом всего этого движения является человек как рабочий, как товар»[225].
В основе подобной взаимосвязи между рабочим и капиталистом лежит «отношение частной собственности», которое «содержит в себе в скрытом виде отношение частной собственности как труда и ее отношение как капитала, а также обоюдное взаимоотношение того и другого»[226].
Это взаимоотношение между трудом и капиталом «таково:
Во-первых, – непосредственное или опосредованное единство обоих.
Вначале капитал и труд еще объединены; затем они хотя и разъединены и отчуждены, но обоюдно поднимают и стимулируют друг друга как положительные условия.
[Во-вторых] – противоположность обоих по отношению друг к другу: они исключают друг друга; рабочий видит в капиталисте (и обратно) свое собственное небытие; каждый из них стремится отнять у другого его существование.
[В-третьих] – противоположность каждого по отношению к самому себе. Капитал=накопленному труду=труду. В качестве такового он распадается на самого себя и на свои проценты, а последние, в свою очередь, распадаются на проценты и прибыль …
Труд распадается на самого себя и заработную плату. Сам рабочий есть капитал, товар.
Враждебная взаимная противоположность»[227].
Сказанное свидетельствует о том, что в рассматриваемых рукописях капитал трактовался К. Марксом в двух взаимосвязанных аспектах. С одной стороны, он опирался на теоретические представления о капитале, содержащиеся в работах А. Смита и Ж.Б. Сэя. С другой стороны, используя философскую терминологию, он акцентировал свое внимание на социальной природе капитала, стремясь осмыслить взаимосвязь последнего с трудом, их противоположность, которая возникает на основе частной собственности и в этом контексте неизбежность ее гибели (заметим, при этом автор ошибочно считал, что товаром является не рабочая сила, а рабочий, который противостоит капиталисту).
Важным этапом на пути формирования теории капитала К. Маркса были лекции, прочитанные им в Немецком рабочем обществе в 1847 г. в Брюсселе, опубликованные два года спустя под названием «Наемный труд и капитал». Здесь впервые дано определение капитала как исторической и социально-экономической категории.
В качестве отправного пункта такого определения капитала выступает выдвинутое К. Марксом положение, согласно которому экономические отношения составляют «материальную основу современной классовой и национальной борьбы»[228]. Именно на этих отношениях «основано как существование буржуазии и ее классовое господство, так и рабство рабочих»[229].
Переходя к анализу капитала, К. Маркс указывал на две главные ошибки буржуазных экономистов. Они, во-первых, абсолютизировали материально-вещественное содержание капитала. Последний, по их мнению, «состоит из сырья, орудий труда и разного рода жизненных средств, которые употребляются на производство нового сырья, новых орудий труда и новых жизненных средств. Все эти составные части капитала представляют собой произведения труда, продукты труда, накопленный труд. Накопленный труд, служащий средством для нового производства, есть капитал»[230].
Во-вторых, игнорировали социальную природу капитала, его общественную форму. «Негр есть негр. Только при определенных отношениях он становится рабом. Хлопкопрядильная машина есть машина для прядения хлопка. Только при определенных отношениях она становится капиталом. Выхваченная из этих отношений, она также не является капиталом, как золото само по себе не является деньгами или сахар – ценой сахара»[231].
Поэтому капитал есть прежде всего «общественное производственное отношение. Это – буржуазное производственное отношение, производственное отношение буржуазного общества. Жизненные средства, орудия труда, сырье из которых состоит капитал, – разве все это не произведено и накоплено не при данных общественных условиях, не при определенных общественных отношениях? Разве они применяются для нового производства не при данных общественных условиях, не в рамках определенных общественных отношений? И разве не этот именно определенный общественный характер превращает продукты, служащие для нового производства, в капитал?»[232].
Таким образом, по К. Марксу, средства производства (орудия труда, сырье) и жизненные средства сами по себе капиталом не являются. Они становится капиталом лишь в исторически определенных общественных условиях, в рамках исторически определенных общественных отношений. Именно только эти условия и эти отношения превращают продукты, предназначенные для нового производства, в капитал. Однако «капитал состоит не только из жизненных средств, орудий труда и сырья, не только из материальных продуктов; он состоит вместе с тем из меновых стоимостей. Все продукты, из которых он состоит, представляют собой товары. Следовательно, капитал есть не только сумма материальных продуктов, но и сумма товаров, меновых стоимостей, общественных величин»[233]
Как видим, указывая на внешнюю сторону существования капитала в буржуазном обществе, К. Маркс определял его как совокупность товаров – продуктов и меновых стоимостей (заметим, такое определение свидетельствует о том, что автор еще четко не выделял два фактора товара: потребительную стоимость и стоимость). Первые характеризуют материальную сторону капитала, вторые – общественную, поскольку они измеряют величину самого капитала. Поэтому независимо от того, какой продукт выступает в качестве капитала (орудие производства или жизненное средство), величина последнего будет измеряться не натуральным содержанием этого продукта, а его меновой стоимостью[234].
При этом надо иметь в виду, что «если всякий капитал есть сумма товаров, т. е. меновых стоимостей, то далеко не всякая сумма товаров, меновых стоимостей, есть капитал»[235].
Эта сумма товаров, меновых стоимостей становится капиталом не благодаря тому, что производимые продукты могут обмениваться друг на друга как товары. «Она становится капиталом благодаря тому, что она, как самостоятельная общественная сила, т. е. как сила, принадлежащая одной части общества, сохраняется и умножается путем обмена на непосредственный, живой труд (на непосредственную, живую рабочую силу. – Ред.)[236]. Существование класса, не владеющего ничем, кроме способности к труду, является необходимой предпосылкой капитала.
Только господство накопленного, прошлого, овеществленного труда над непосредственным, живым трудом превращает накопленный труд в капитал.
Суть капитала заключается не в том, что накопленный труд служит живому труду средством для нового производства. Суть его заключается в том, что живой труд служит накопленному труду средством сохранения и увеличения его меновой стоимости»[237].
В этих высказываниях К. Маркса содержатся два чрезвычайно важных положения.
Во-первых, капитал как самостоятельная общественная сила воспроизводится (сохраняется и умножается, по терминологии автора) лишь посредством взаимодействия (обмена, по терминологии автора) с непосредственной, живой рабочей силой, т. е. способностью к труду, которая является необходимой предпосылкой существования капитала.
Во-вторых, в буржуазном обществе накопленный, прошлый, овеществленный труд превращается в капитал благодаря господству этого труда над непосредственным, живым трудом. При этом именно последний служит средством сохранения капитала, т. е. увеличения его меновой стоимости.



