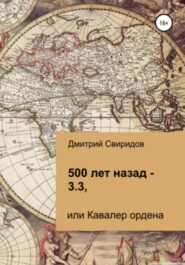
Полная версия:
500 лет назад – 3.3, или Кавалер ордена
Вот тут Торгаша пробрало до крепкого румянца все же. Про малый знак ему передали, но чтобы вот так… Князь прикрепил ему оба знака, и с мечом, и с кинжалом, и дальше праздник пошел уже совсем по-домашнему. Смеялись, вспоминали разные моменты, правда, даже подвыпивший Торгаш про дела свои с низами ревельскими особо много не говорил, ну, оно и понятно было… Хорошо отметили. На следующее утро, не рано, но задолго до полудня, князь уехал, так же торжественно и неторопливо, со знаменем, проведя перестановку в рядах. Всех разведчиков и часть бойцов Черного забрали, для них были другие задания, оставив, впрочем, в итоге перестановок почти два десятка в крепости (считая и Пимена, и Торгаша, и ревельцев его). Городская стража их проезду никак не препятствовала, а горожане, посмотрев снова на процессию, пошли обсуждать новые слухи, уже близкие к правде – ван Баарен начал потихоньку работу…
Трущобы были зачищены еще за пару дней, постепенно. Два притона сожгли вообще, из наловленных людей кое-кого вздернули, а вообще город потерял за всю эту замятню десятка три честных горожан (не считая орденцев), да в два раза больше – из низов, правда, там особо никто не разбирался, ворье это, или просто под руку не вовремя попались, да и не считал… Погибших орденцев и своих Петр схоронил в замковой ограде, раздельно, конечно, вспомнив про Михайлу – таблички-то с крестами некому было сделать… Но – нашелся резчик, привели из города люди Торгаша, и появились и кресты, и таблички в малой замковой церкви, да и вообще, буквально за неделю они постарались максимально установить все нужные связи между горожанами и новыми обитателями замка, по всем бытовым вопросам – от дров, до свежих продуктов, рыбы той же.
Пимен, как все успокоилось, сходил (с охраной, конечно, теперь только так, он теперь – важная персона, хоть то еще и не утверждено) к хозяину дома, где они жили, подвел черту, так сказать, забрал остатки своих вещей (и слил еще немного информации о них, как они хотели), да кухарку ту нашел и пригласил уже в замке кашеварить – кухня у орденцев была все же специфическая, в основном постная, а теперь все ограничения у них сняты были, да и оставлять только старую орденскую прислугу они не собирались. Женщина согласилась, конечно, и все ее ближайшие походы на рынок в новом статусе превращались в сборище кумушек, от которых расходилась видимая прямо невооруженным глазом волна сплетен… А еще – в той слободе, где русские жили, Пимен тоже побывал, и переговорил там кое с кем, дав некие задания, да кликнув клич для молодежи, может, захочет кто иному Ордену послужить. Петр каждый день встречался с бургомистром, а вскоре тот стал по одному приводить в замок и советников городских, пока так, угоститься-познакомиться, но и о серьезном разговоры заводили, а там и события, идущие своим чередом в других местах, им известны стали…
…Тех ивангородских воинов, что отправили в качестве гонцов Телепнев с Еропкиным, после пары дней отдыха тогда отправили обратно. Князь написал для воеводы Иван-города (а теперь и Нарвы) короткую грамоту о последних событиях здесь, а еще – сообщил, сколько, по последним сведениям от Петра и Гриди, у орденцев на севере народу по городам да усадьбам. Ну, и о своих планах кое-что. Мужики понимали, что обратный путь у них опять пойдет по грязи, но – куда деваться… Дали им и коней, и припасов, и сопровождение, которое должно было провести их по своим землям, на всякий случай. И – очень угадали с этим, так как опять по уши грязные ивангородцы с парой бойцов князя столкнулись с неожиданными встречными уже возле старого рубежа, возле реки Нарвы, где решали, перебираться ли им на ее правый, русский, берег, или ехать по левому до самой нарвской крепости – врагов-то тут не должно было остаться. Дорога по левому берегу была, орденцы по ней ездили, но ее никто из них не знал, а еще дело было в половодье, только чуть на спад пошедшем, да в болотах и разливах, что здесь тоже во многих местах были. Дорога же по правому берегу, от Гдова, была известна. А еще можно было дождаться кого-то на самой реке и попроситься в попутчики.
Так вот, выехав на берег той малой речки, по льду которой уходил зимой в Ливонию отряд князя (и по которой они сами сюда добирались), гонцы встретились с небольшой лодьей, на которой было всего пятеро человек, явно находящихся в затруднении. До драки дело не дошло, так как не ожидавшие такой встречи люди с обеих сторон при оклике использовали русский матерный, что позволило сразу же обозначиться, как своим, и дальнейшие переговоры прошли хоть и с опаской, но проще. Выяснилась важная вещь: на лодье из Пскова везли именно для князя Ивана некий груз, но вот путь единственному сопровождавшему рассказали то ли с ошибкой, то ли сам он перепутал что, и команда лодьи третий день тыкалась по ручьям и мелким речкам – левым притокам Нарвы, которых в этой местности было немало. Что за груз, парень-сопровождающий (нескладный паренек лет 16, лопоухий и веснушчатый) рассказать и показать наотрез отказывался, но имя Димитрия назвал. Ну, после этого бойцы отряда махом раскрутили его – бомбы или огненные стрелы?!! Ждут! Ждут в Озерске! – и парень, сообразив, что, похоже, это те люди и есть, кому он передать должен, как-то расслабился, и уже спокойнее рассказал, что послал его сам Димитрий из Пскова, он – пока подмастерье, а дорогу ему мастер Федот обсказал, что бывал здесь, да зимой только, а сам мастер и вообще все мастера ушли с войском на Дерпт…
Парня и корабельщиков о новостях теперь расспрашивали уже все, но и ответных вопросов (узнав, что перед ними – ивангородцы, занявшие Нарву, и воины того самого князя, что пол-Ливонии за зиму захватил) было много… Впрочем, договорились быстро. Псковичей уговорили довезти гонцов до Нарвы (тем более, тут оставалось-то немного, верст сорок, да и по течению). Короба, весь десяток плотно упакованных, от воды, были совместно выгружены на сухой берег, и один из княжьих людей поскакал обратно в деревню – хоть и по грязи, но вывозить их дальше надо было на телеге уже, да не на одной, а на двух. Второй остался с подмастерьем, назвавшимся Серьгой, вроде охраны. Корабельщики с ивангородцами отчалили, и по дороге до крепостей успели еще наслушаться рассказов о работе тех самых «огненных стрел», что они, оказывается, везли. А на следующий день на место стоянки были пригнаны две телеги – боец хоть и с руганью, но выбил на ближайших выселках их, клятвенно пообещав, что не надолго – весна…
Больше недели пробивалась эта троица обратно до Озерска. Лошадей им, конечно, меняли в деревнях, кормили-поили, но – протащить втроем две телеги по дорогам в это время… Хорошо еще, что короба с ракетами были объемными, но не слишком тяжелыми, а то бы пришлось все же ждать, пока дороги просохнут. Но и так, князь с руководством их Ордена уже вернулись из Ревеля, и находились в отличном настроении, а по отряду и деревням расходилась весть, что у них теперь ДВА замка, и город, считай, почти под ними, когда приехал один из тех гонцов. Его и на воротах не узнали сразу, хотя общую тревогу из-за одного всадника поднимать не стали, конечно. Увидели его еще от переправы через Пярну – через брод на коне (и дальше по берегу их озера) можно было перейти, аккуратно и осторожно, а с телегами – пока нет, вот он и приехал за подмогой. Узнали все же бойца, и то, что у них шесть десятков ракет лежат за переправой, вызвало новый взрыв восторга. Из деревни пригнали пару долбленок, и ценный груз был бережно переправлен, перегружен на подогнанные новые телеги и доставлен в замок, короба протерты от грязи и сложены в пороховой башне. А князь – обнял и расцеловал всех троих, хоть и грязнющими и худющими, а еще – уставшими в хлам они сейчас были, и попахивало от них, а потом, когда тех все же повели в баню, с чувством сказал сказал среди своих:
–Вот дал бы орденские знаки всем, но… не могу придумать такого, за что давать. Все же знаки, они у нас такие, ну… боевые или за иное…
Народ понимающе закивал, а Седов, теперь очень хорошо представлявший, что такое сейчас местные дороги, и вспоминавший во время рассказа о том, как бойцы сюда добирались, старые советские фильмы – «Отряд особого назначения», «Обратной дороги нет», «Хлеб, золото, наган», все же рискнул подойти и нашептать князю кое-что на ухо… Тот, хмыкнув, прищурился, видно было, что идея ему понравилась, и – на следующее утро после завтрака все бойцы, что были в замке, были выстроены во дворе. Вынесли знамя, и князь, своим княжеским голосом для особых случаев, сказал речь, в которой проникновенно, с понятными всем местным подробностями, описал, как два бойца из их отряда и один пскович доставили к ним в самую распутицу груз стрел огненных, которыми и они орденцев жгли уже, и сама Нарва взята была, позволяя тем самым на дальнейшие победы отряду идти.
–Нет у меня награды за все, сделанное ими – понизив голос, подытожил князь (в слова его вслушивались все бойцы, включая тех двоих, Серьга этот, все прочие обитатели замка…) – да все же отблагодарить мы их можем! Объявляю я им свою благодарность здесь, перед строем и знаменем нашим, да нынче же в летопись Ордена будет внесена запись о том! А сейчас – троекратная… им.... слава!
И строй бойцов, подхватив, три раза гаркнул: «Слава! Слава! Слава!», смутив бойцов и вогнав Серьгу в краску. Ну, а когда потом Ефим вызвал их в башню, и в зале прямо при них, уточнив крестильные имена да прозвища, вписывал запись, благодарили бойцы за такое – и наоборот – благодарили все их. Кстати, не прошло недельное барахтание в грязи для них бесследно, и баня даже не помогла, но Милана, на заметку их взявшая, не дала кашлю во что-то опасное превратиться, и за три дня отпоила их до здорового состояния. А у князя вечером того же дня, когда их славили, на обычных вечерних посиделках в башне спросили – что же, раз ракеты привезли, и он сегодня разговор заводил, дальше пойдем, значит?… А… когда и куда?…
–Пойдем – согласился князь – но… позже. Пока же иное нам надо… Вот уж как гонцы до ивангородцев доберутся, да там решатся – несколько скрытно закончил он.
8
Надо сказать, что у Седова после того, как Петр с десятком бойцов уехал в Ревель, началось какое-то странное настроение. Почему-то часто стало хотеться побыть одному, уйти в начавший зеленеть лес, тем более, что уже не только трава на влажных участках почвы полезла вовсю, но и листья на кустах и деревьях начали распускаться, постепенно раскрашивая окрестные леса во все оттенки ярко-зеленого. И вряд ли дело было только в весне. Еще с зимы, когда они устроились в замке после его захвата, и более-менее установился распорядок дня, он нашел время не только осмотреть окрестности с верхушки башни (что и продолжал делать, кстати, все же вид на озеро и окрестности был красивый), но и обойти ближнюю местность, не забывая, конечно, об осторожности. Очень быстро выяснилось, что тут для пеших прогулок мест совсем мало, если не сказать, что нет вообще. Остров, на котором стоял сам замок, был совсем небольшим, и на нем ничего не было, кроме орденских построек. С перекрестка у главных ворот можно было пойти на скотный двор (налево), к церкви (направо) или в деревню (прямо). Николай Федорович прошелся везде, но… на скотном дворе люди работали, в деревне или на постоялом дворе, что был ближе к тракту, он все время чувствовал себя под прицелом множества любопытных глаз… За церковью, если идти по берегу озера, были землянки чудинок… Если пройти налево вдоль канала, что соединял их озеро с речкой, можно было дойти и до реки – было недалеко, но… берег ее, конечно, не был никак обустроен и для прогулок тоже не подходил. Можно было, пройдя мимо скотного двора, свернуть через мостик на южный берег озера, где шла дорога, по которой они пришли в замок – но там было голое поле, точнее, луговина, и делать было тоже нечего.
Единственным пригодным для прогулок местом оказалось… кладбище. Точнее, не оно само, конечно, а кусок старого, в основном соснового леса, на краю которого оно и располагалось. Пройти туда можно было мимо церкви, но не по берегу озера, а несколько вглубь. В этом леске было мало снега, что позволяло прогуливаться там довольно спокойно, а зелень сосен радовала глаз и… напоминала про дом. На этих прогулках он, привыкший за последнее время в 21 веке к более уединенному образу жизни, немного отдыхал от людей в замке, от дыма, от напряжения… А еще – знакомился с местным лесом. И лес этот оказался для него совершенно новым. Нет, у него под Рязанью тоже были сосны в два-три обхвата. Но тут попадались совершенно необъятные великаны, часто искореженные, с обломанными ветками (каждая из которых сама была со ствол старого дерева) или со следами от молний. Некоторых из них он даже не узнавал сперва – так вышло с одним исполином, совершенно черный ствол которого примерно на два человеческих роста был затянут серо-зеленым мхом. А оказалось это дерево… старой березой, Седову с трудом удалось разглядеть в вышине белые ветки… А еще тут местами были упавшие стволы, и становилось совершенно ясно, почему так петляли здешние лесные дороги – представьте себе ствол, высотой метров пятьдесят, обхватов в пять, да с ветвями, рухнувший от старости поперек проезда в пару метров шириной… Тут и бензопилы не помогли бы, даже если бы и были. А еще были кусты, непроходимые ельники, многолетние заросли малины и ежевики… Нет, здешние леса заставляли себя уважать, считаться с ними и строить планы с их учетом. Вспоминались многие старые книги, в которых было описано именно вот такое вот, и теперь Николай Федорович увидел это воочию.
Эти его прогулки не остались незамеченными, да он и докладывался дневальному на воротах замка, куда пошел, если что. Руководство отряда, пару раз поинтересовавшись, куда он ходит и нет ли у старца в чем нужды, разъяснения о прогулках по старым привычкам, еще со… своего времени получило и удовлетворилось, не то вышло у деревенских. Они его, конечно, видели, и по своему любопытству тоже пытались понять смысл его обхода окрестностей без всякой видимой цели. Слегка насторожило деревню, когда старец стал чаще за кладбище уходить. Прямо за ним не следили, опасались, но потом-то пойти и по следам глянуть мог каждый… В общем, когда уже и суд над орденцами прошел, и сельчане уже немного привыкли к отряду, и пару собраний с лекциями в церкви провели – все же народное любопытство подтолкнуло общественность, та поставила на острие, как всегда, старосту, и Якоб, сам поняв за это время, что со старцем можно нормально поговорить, как-то задал вопрос при удобном случае об этих прогулках.
Седову трудно было однозначно ответить сразу, и он немного рассказал старосте о том, что у них там, в будущих временах, природу (леса вот эти, поля, озера с реками, все живое в них, зверюшек, птичек) любят и стараются ценить – потому как многое за века было истреблено, а живет-то народ там в основном в городах, где все из камня, а деревья те же в тех городах – в особых местах только, парках да скверах… Вот и он, по старой привычке, хоть и жил последние годы там почти в таком же сосняке, что за кладбищем, старается по лесу пройтись, да и воздух там почище, и вообще… Якоб покивал (картинки про каменные города он видел), но в итоге по деревне разошелся слух, далекий от реальности – что там, в будущих временах, вернулись частично к старым богам, что в лесах, озерах да болотах жили, но не полностью, а через христианство (крест Николая Федоровича уже широко известен был), соединив обычаи старых друидов с новой религией. Это было воспринято деревенскими без сомнений, тем более, что тут в тему оказались и чудинки (как известно, болотные ведьмы), с которыми старец возился, и кровь, орденцами на этой земле пролитая, и к ним нынче вернувшаяся… Пара сельских специалистов, отследив его походы в лес, сообщили, что выбирает старец самые старые, мощные деревья, да обходит их посолонь (а это показатель доброго друида, кто понимает), обрядов никаких не проводит, кровавых жертв, как злые друиды, не приносит, а если какие наговоры и читает – то по следам не понять, и вообще, лучше старцу в это время не мешать. Добрый-то он вроде добрый, но мало ли…
Николай Федорович об этих слухах и не узнал, потом – настали метели, и все походы в лес пришлось прекратить. После метелей он сунулся было по старой тропинке, им же натоптанной, точнее – где она была, но – не прошел, завяз, лишь от церкви отойдя, от тропки той ничего в снегах и не осталось. Потом снег начал таять, тоже совершенно не давая выйти на прогулку, да и события тут довольно значительные пошли. В период их поездки в Ревель в лесах была каша с мокрым снегом, а потом пошла грязь, и только после того, как вслед за Петром в город уехал и князь с народом, окрестности подсохли настолько, что хоть и в сапогах и не везде, но стало можно прогуливаться. Деревенские же число потерь в отряде, увеличившееся за период «черной полосы», объясняли тем, что нет у старца доступа в лес, за силой, вот он и не может с теми мелкими духами договориться, да своих вылечить, как раньше (сказались и лекции его о чистоте, и Милана, о которой уже и по деревне стало известно, что со старцем она живет – травница да друид, самое дело им вместе). Саму же Милану он в такие прогулки не звал – та была в делах днем, и чудинок учила, да и раненые почти всегда на ее попечении бывали, особенно после последней большой битвы у южной засеки. Но в мечтах, что скоро лето, он хотел и ее с собой рядом на этих прогулках видеть, конечно…
А еще после отъезда князя почти со всем руководством мало народа осталось в замке, и стало там совсем тихо и спокойно. Федор так и мотался по деревням. Малх почти перестал доставать Седова, совершенно спевшись с Ефимом, и был принят в замке за своего настолько, что у князя даже появилась насчет него одна мысль, на будущее. В последнее время с ними в основном сидел и Грек, которому князь, и отругав, и наградив за его выход до Дерпта, запретил участвовать в событиях в Ревеле. Как оказалось, там он был известен не так, как Торгаш (как мелкий торговец, почти не нарушающий законов, ну… почти, да), а как довольно заметная фигура теневого бизнеса, говоря словами 21 века, и мог испортить всю задумку. Вот в Риге, чьим горожанином Грек числился, у него была хорошая репутация, и Петр с князем имели на это виды, но – это сильно потом, так что Грек сидел в замке, лишь из донесений гонцов узнавая, как там дела у Торгаша с Пименом. В общем, Николаю Федоровичу дел пока особых не было, можно было гулять дольше и спокойней, но он не пропадал по лесам, конечно.
И вот на одной из таких прогулок Седов совершенно внезапно для самого себя осознал, что он… устал. От всего. Выяснилось это очень просто – прошло какое-то… озарение, и он поймал себя на том, что вот уже минут десять стоит на коленях и любуется (с довольно идиотской улыбкой, как ему самому показалось) на несколько цветков мать-и-мачехи, попавшихся ему в одной совсем сырой, но, видимо, нагретой солнцем ложбинке. Такое умиление было ему совершенно не свойственно, и мозг, как будто специально дожидавшейся этого момента, выдал ему, что, похоже, психологические проблемы-то от его попадания в 16 век никуда не делись, а все копились и копились, и… надо что-то делать. Поднявшись и отряхнув штаны (вообще, синтетика рулила, достаточно было от земли потом мокрой тряпкой протереть, и все, а из всей химии, от которой можно было посадить несмываемые пятна, тут пока только его «бензин» и был), Николай Федорович пошел дальше по лесу, но сегодня не любовался его жизнью, а, наоборот, погрузился в раздумья.
Первым, если вспомнить, к 16 веку приспособился его желудок. Ну да – есть надо каждый день, и хочешь – не хочешь… Малое количество привычных приправ (зато – другие, типичные для этого времени травы в еде) и недостаток соли организм принял довольно быстро и легко. Сами блюда отличались не сильно, разве что были попроще, но для желудка это было без разницы – всего пара случаев была за все время, когда он… активно протестовал, да и то, Седов подозревал, что все же это было из-за антисанитарии, ведь только здесь, в замке, они с Миланой и Магдой смогли устроить (и заставить всех соблюдать!) приемлемую чистоту.
Привычки тела и вообще режим дня он тоже поменял легко. Пока было холодное время года, и его термуха, и прочая одежда и обувь были ему привычны и удобны, да и местная верхняя одежда не раздражала, а короткие дни и долгие ночи позволяли высыпаться, перекрывая встряску организма от новых впечатлений (особенно в первое время). Возможно, летом будет иначе – местные вроде как привыкли использовать светлое время суток более насыщенно, и события к лету у них планируются важные, да и переодеваться придется в местное же – в куртке со свитером уже не походишь, но здесь Николай Федорович чувствовал себя пока нормально и надеялся, что сил хватит.
А вот психика… Несмотря на установленные близкие контакты (и с князем и другими рязанцами, и с псковичами, и с местными ливонцами, и – особенно – с Миланой), все же все это время уши его слышали не родную русскую речь, а языки 16 века, что современный русский, что немецкий. Глаза его видели декорации для съемок фильма о средневековье (правда, отдыхая на привычных картинах природы), и были эти декорации в основном мрачноватыми. Мозги напрягала и постоянная опасность от Ливонского ордена, и неизвестность, когда (по обычным для 16 века условиям) для уточнения сведений нельзя было позвонить или просто залезть в телефон, а надо было ждать гонца на лошади… День, другой… неделю… Потери хорошо знакомых (пусть и не ставших по-настоящему близкими) людей во время «черной полосы»… Чудинки эти, в конце концов… И, похоже, какая-то часть его так и не смогла смириться с этим и все еще ждала возврата к прежней жизни, хотя умом он вполне понимал, что этого уже не случится. Эти противоречия, видимо, копились, копились, и вот – оформились.
«Хорошо, что так – подумал Седов, припоминая вроде бы мелкие вспышки своего раздражения или плохое настроение в последнее время, по мелочам – а могло бы и в истерику вылиться, не дай бог, или в какой скандал…». Похоже, именно здесь и лежали корни его желания уединяться от людей в последнее время, вот этих прогулок по окрестностям… Если информационный голод его сразу был переключен с телевизора и интернета на живое общение и более подробное погружение в реалии 16 века, то с речью, отсутствием чтения и банальным недостатком ярких красок в окружающем мире он ничего сделать и не смог бы. И весенне разнотравье с листочками и первыми цветами стало сразу и ключевым моментом для понимания проблемы, и тем лечением, которое было теперь уже срочно нужно.
На обратном пути в замок, в таком же неспешном темпе, мозг, получивший нормально сформулированную проблему, заработал над ее решением на полную. Результатами этих размышлений стало подведение некоторых промежуточных итогов: если с новостями и вообще информацией в ближайшее время (да и все лето точно) проблем не будет, за разнообразие окружающей цветовой гаммы взялась природа (и у нее получится!), то с речью, корме него самого, никто ему помочь не сможет. И значит, надо начинать экспериментальный учебный класс. Светка, Петька и Янек-Ваня.
Собственно, именно на Ване (как его звали на скотном дворе все), как первом ученике, он и решил опробовать свои… методики преподавания, Светку рекомендовала Милана, с которой он планами все же делился (ночная кукушка, кто понимает), тем более, у девчонки уже было знание счета, чтения и письма – от самой травницы, а Петька… За несколько месяцев, проведенных с отрядом, он не только отъелся (и был теперь нормально одет, кстати), но и познакомился со всеми бойцами, получил основы знаний у каждого десятка (и кони, и бомбы, и пушки, и разведка – все ему нравилось), даже Петр иногда поручал ему задания, а главное – все же смог повзрослеть, пряча теперь свою неугомонность, когда это надо было. То ли время его пришло, то ли смерти знакомых бойцов так повлияли… В бои его, конечно, никто не брал, и в дозоры тоже, но вот среди тех мальчишек, что вместо гонцов у них были – был он однозначно главным, хоть и без какого-то, говоря словами из будущего, оформления. Лютой мечтой у этой группы была повязка с красным знаменем, как у бойцов, а пока они с гордостью носили просто белые.
Седов нашел время плотно пообщаться с ним в один из приездов Федора (которого Петька сопровождал, как переводчик и гонец под рукой) в замок на короткий отдых и помывку, (и к Магде, но мы этого не говорили), и к перспективе письму и чтению обучиться тот отнесся с восторгом. Ну, и князь, которому (после возвращения того из Ревеля) старче доложился, что того же Ваню учить он хочет не одного, а вот, троих пока, и на этом опробует сам – получится ли у него ребятишек местных наукам обучать, о чем они еще когда говорили, добро дал. Маловато оставалось у них бумаги, Ефим разговор уже заводил, что надо бы прикупить, но на первое время собирался Седов обойтись ящиком с песком да берестой. Единственное, что он не мог пока решить – когда обучение начинать. Другие дела, гораздо более важные для всех них, продолжались.
…Вышло так, что к воеводе Ивангородскому (и Нарвскому!) важные донесения нынче приходили по воде, а последние два так и вообще – оба в один день. Сперва по реке спустилась малая псковская лодья с гонцами и грамотой от князя Ивана, которых они сами же отправляли к нему. Много важного там было написано, и он с полковниками да сотниками, и теми людьми, что за карты у него отвечали, потратил несколько дней на усвоение этой информации и прикидки того, как это использовать, в случае чего. А потом, после того, как они помаленьку начали обустраиваться в крепости, в один день с моря пришла большая лодья (ее привел с вестями Рыжий Дан), а из Пскова, тоже по реке – государев гонец. Про первую хвалебную грамоту князя Василия мы упоминали, а с моря…

