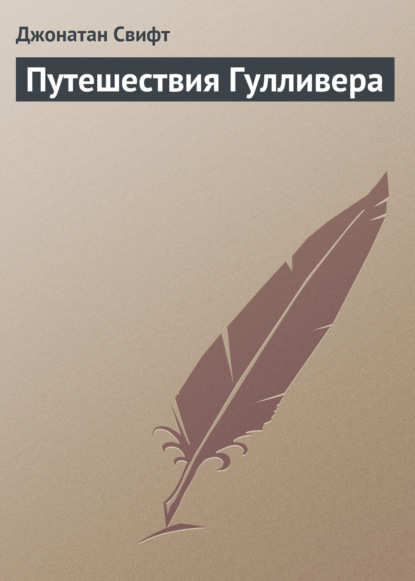 Полная версия
Полная версияПутешествия Гулливера
По моим наблюдениям, из всех животных йеху труднее всего поддаются дрессировке. Все, на что они способны, – это возить на себе тяжести. Причина этого заключается в их характере – они упрямы, злобны, вероломны, мстительны и полностью лишены зачатков благородства и великодушия. Они очень сильны и нахальны, но вместе с тем пугливы, что делает их хитрыми и бессмысленно жестокими.
Я прожил в этой стране три года, и было бы несправедливо не рассказать поподробнее о гуигнгнмах. Эти благородные существа от природы одарены добрым сердцем и не имеют ни малейшего представления о зле; главным правилом их жизни является разумное и гармоничное существование. Поэтому долгие споры, пререкания, отстаивание ложных или сомнительных идей, эгоизм – вещи, совершенно чуждые гуигнгнмам. Дружелюбие и преданность – вот главные их добродетели. Так они относятся не только к своим близким, но и ко всем без исключения соплеменникам. Любой гость найдет в доме гуигнгнма приют; лошади строго соблюдают приличия и крайне учтивы, хотя и не знают, что такое этикет.
Своих жеребят родители не балуют, но заботятся о них со всей ответственностью, в то же время не ограничивая их свободы. Я заметил, что мой хозяин столь же ласково относится к детям соседа, как и к своим собственным. Лошади держат под строгим контролем численность населения своей страны, и, как правило, в одной семье никогда не бывает больше двух разнополых жеребят. Если случается, что у пары гуигнгнмов по какой-то причине рождается только один жеребенок, то другая семья помоложе может отдать им на воспитание своего отпрыска. На лошадей простых кровей такие ограничения не распространяются, а их потомство воспитывается в качестве будущих слуг. При вступлении в брак гуигнгнмы особенно тщательно подбирают масть будущих супругов, заботясь о чистоте породы. Для коня главным мерилом является сила и стать, для кобылы – красота. Отбор производится для того, чтобы не допустить вырождения племени разумных лошадей. Такие понятия, как любовь, ухаживание, помолвка, приданое, брачный договор, не имеют даже слов для своего обозначения в лошадином языке. Пара соединяется по разумному выбору родителей или друзей и проходит свой жизненный путь во взаимной дружбе, без ревности, ссор или обид, но и без пылкой привязанности. Все вопросы в семье решаются сообща.
Система воспитания гуигнгнмов удивительна и вполне заслуживает подражания. Пока жеребята не достигнут определенного возраста, их кормят небольшим количеством овса, изредка добавляя в него молоко. Летом жеребята пасутся, подобно родителям, два часа утром и два часа вечером. Слуги же пасутся только по часу, а остальной корм съедают дома в свободное время. Физическое совершенство, воздержанность, трудолюбие и чистоплотность – главные требования воспитателей. Как часто я наблюдал жеребят обоего пола, резвящихся на полях и крутых склонах холмов. Однако это были не пустые игры, а ежедневные упражнения под наблюдением наставника. После таких многочасовых занятий жеребят обязательно ведут к воде, где они купаются. Четыре раза в год устраиваются состязания, где молодежь демонстрирует свою ловкость и силу. Победителя или победительницу чествуют хвалебным ржанием, а для остальных устраивают праздничный ужин.
В день весеннего равноденствия каждый четвертый год в стране гуигнгнмов собирается так называемый Совет представителей. Он продолжается около недели; на этом собрании обсуждается положение в округах, на которые разделена вся здешняя земля. Вопросы, которые выносятся на обсуждение, как правило, просты: достаточно ли в округе сена, овса и коров, в каком состоянии пастбища и есть ли проблемы с рабочей силой, то есть с йеху. Если где-нибудь ощущается нехватка того или иного, Совет единодушным решением предоставляет помощь.
На одном из таких собраний я тайно присутствовал месяца за три до того, как покинул страну гуигнгнмов. На нем председательствовал мой хозяин, а происходило собрание рядом с нашим домом на широком лугу, поэтому я мог слышать каждое слово. Вопрос стоял очень серьезный и спорный – не следует ли избавиться от йеху окончательно. Один из присутствующих, конь средних лет с суровой и замкнутой мордой, высказывался решительно, приводя всевозможные доводы в пользу того, что от йеху больше вреда, чем пользы. Он говорил о том, что лучше бы гуигнгнмы дрессировали ослов и пользовались их трудом, чем без конца возиться с неуправляемыми и гнусными йеху, которые вытаптывают овес на полях, воруют молоко, убивают собак и кошек, чтобы тут же их сожрать, а главное – подают дурной пример подрастающему поколению жеребят. «Откуда они появились, мы не знаем, – возвысил голос оратор, – не знаем, и какие болезни они носят в себе, какие беды для нас готовят. Йеху так стремительно размножаются, что в некоторых округах их стало в три раза больше, чем лошадей. Предание гласит, что когда-то в старину с одной из горных вершин спустилась первая пара этих ужасных животных. Но точно мы не знаем, откуда они взялись; лично я полагаю, что из болотной грязи. И теперь я считаю величайшей ошибкой решение оставить по паре йеху в каждом округе в надежде со временем приручить и одомашнить этих бесноватых животных. Что из этого вышло – судите сами!»
Мой хозяин взял слово, и когда я услышал, что он говорит обо мне, то задрожал, словно от холода. У меня появилось предчувствие, что все это добром не кончится. Серый конь не возражал предыдущему оратору, но заметил, что есть и другое предание о происхождении йеху. Говорят, что первые из этих животных появились из-за моря. Возможно, их было больше, однако выжили лишь самка и самец. Поэтому имеется вероятность, что некогда йеху были вполне разумными существами, обитавшими в какой-то далекой стране, но с течением времени одичали и дошли до такого состояния, в каком мы их видим теперь. Подтверждением тому может служить необыкновенный йеху, живущий в его доме. Я вздрогнул и прижался к земле в укрытии, где лежал, подслушивая прения гуигнгнмов.
«У этого йеху, – продолжал мой хозяин, – все тело покрыто защитой из искусственной ткани и кожи других животных, а собственная кожа белая и безволосая. Он умен, образован и быстро освоил лошадиный язык. Он рассказал мне, как очутился в нашей стране, и поведал о своей родине – стране за морями. Причем мой гость утверждает, что в тех краях именно йеху господствуют над всеми животными, а гуигнгнмов держат в домашнем рабстве…»
«Это катастрофа», – мелькнуло у меня в голове. Если многие лошади, живущие по соседству, раньше охотно беседовали со мной и относились ко мне по-дружески, то теперь, после такого заявления серого коня, ни один гуигнгнм не станет со мной здороваться. Чрезвычайно расстроенный, я незаметно покинул свое укрытие и поплелся домой.
Мне уже приходилось упоминать, что у лошадиного народа отсутствует письменность. Знания передаются из уст в уста, а поскольку крупные события в жизни этого трудолюбивого и мирного народа крайне редки, то истории появления йеху придавалось огромное значение.
Гуигнгнмы ведут счет месяцам и годам по движению Солнца и Луны – это высшее достижение их астрономической науки. Зато в поэзии им нет равных. Самая распространенная тема творений гуигнгнмов – изображение великой дружбы или восхваление победителей в состязаниях молодежи. Арсенал сравнений, метафор и эпитетов лошадиного языка выше всяческих похвал.
Постройки гуигнгнмов просты и внешне грубоваты, однако не лишены удобства и прекрасно защищены от непогоды. Гуигнгнмы не умеют обрабатывать металлы, зато весьма искусно управляются с деревом; кроме того, в строительстве они повсюду используют солому. Лошади необычайно ловко приспособились работать передними ногами, используя бабку и копыто. Я сам наблюдал, как одна белая кобыла в два счета вдела тонкую нитку в иголку, которую я дал ей. Копытами и бабкой они доят коров, жнут овес и делают всю остальную работу, как мы – руками. Обтачивая твердые кремни, кони изготовляют орудия труда: топоры, молотки, ножи, а с помощью этих орудий обрабатывают дерево. Йеху свозят снопы с полей в телегах, а слуги молотят овес копытами в амбарах, где он потом и хранится. Посуду здесь изготовляют из грубой глины и обжигают на солнце.
Жизнь лошадей длится более семидесяти лет. За несколько недель до кончины они, чувствуя упадок сил, прекращают всякую деятельнось и запираются в своем доме в полном одиночестве. Иногда стариков посещают друзья, но за неделю до смерти гуигнгнмы сами наносят прощальные визиты. Для этого им подают удобную повозку, а сопровождает их кто-нибудь из близких. Престарелый конь никогда не выказывает своей печали, страданий или сожаления о том, что покидает этот мир, и все остальные тоже ведут себя сдержанно и с достоинством, будто не происходит ничего особенного. На языке гуигнгнмов смерть – это всего лишь возвращение к началу, в лоно их праматери земли…
Я с большим удовольствием продолжал бы свой рассказ об этих удивительных существах, однако пришло время перейти к описанию дальнейших событий моей жизни.
Глава 9
Все это время я прожил именно так, как мне хотелось.
В шести ярдах от хозяйского дома для меня было выстроено небольшое помещение – такое же, как и у остальных членов семьи. Стены и пол комнаты, в которой меня поселили, я обмазал глиной и покрыл камышовой циновкой, которую сплел собственноручно. Из стеблей дикой конопли я изготовил нечто вроде пряжи, из которой сделал грубый чехол для матраца, набив его перьями разных птиц. Птиц я ловил силками из волос йеху. При помощи гнедого лошака мне удалось сколотить пару вполне сносных табуретов. Этим мои подвиги не ограничились – свое изношенное платье я заменил новым, сшитым из кроличьих шкур. Из того же материала я сделал чулки, а к башмакам прибил деревянную подошву. Когда же и они развалились, я смастерил новые. Как говорится, нужда всему научит.
В дуплах деревьев я находил мед диких пчел, разводил водой и запивал этим напитком овсяные лепешки. Иногда я лакомился зайчатиной и пернатой дичью. Йеху оставили меня в покое и не обращали ни малейшего внимания на то, чем я занимаюсь.
Цивилизованный мир во всех своих уродливых проявлениях больше не нарушал тишины моего маленького мирка – я был здоров и душевно спокоен. Здесь не было обмана и насилия, невежественных лекарей, юристов и доносчиков. Я не сталкивался с ворами, клеветниками, сплетниками и завистниками, забыл об убийствах, о доносах, сплетнях, предательстве и мошенничестве. Не было чванства и тщеславия, политических партий и газет, тюрем, виселиц и позорного столба. Я выбросил из головы судей, жадных купцов и нечистых на руку ремесленников, пустоголовых франтов, учителей танцев, вельмож, назойливых друзей, пьяниц и тупых обывателей. И больше не страдал, видя, как благодаря своим порокам негодяи поднимаются из грязи на высшие ступени власти и сводят с ума порядочных людей.
Я был допущен в дом одного из самых замечательных обитателей страны гуигнгнмов и пользовался его покровительством, черпая в беседах с серым в яблоках конем много полезного и поучительного. Я делал некоторые записи в своей тетради и почти позабыл о семье и милой моему сердцу Англии.
Однако всему приходит конец, кончилась и моя безмятежная жизнь.
Спустя несколько дней после Большого совета ко мне в комнатушку заглянул мой хозяин. Он был смущен и расстроен, и я заметил, что ему нелегко начать разговор со мной. Наконец, после продолжительного молчания, гуигнгнм сообщил, что по решению представителей округов я должен буду покинуть эту страну. «Почтенные члены Совета, – произнес он мягко, – обсуждали непростой вопрос о йеху, и я позволил себе рассказать о вас, друг мой… Однако результат оказался неожиданным – старейшины сочли оскорбительным для нашего народа то, что я держу в своем доме йеху, а обращаюсь с ним как с гуигнгнмом. Несмотря на то что я поведал Совету о наших с вами беседах, мне рекомендовали обходиться с вами, как с обычным животным, – то есть отправить в сарай к диким йеху. Однако те представители округов, которые видели вас и беседовали с вами, решительно воспротивились этому. Они убеждены в том, что вы способны договориться с йеху, увести их в горные леса и научить красть скот и убивать гуигнгнмов. Поэтому окончательное решение было таким – выслать вас за пределы нашего края… Мне очень жаль, но я не могу больше откладывать его исполнение».
Затем мой хозяин добавил, что советует мне построить нечто наподобие той деревянной лохани, на которой я сюда приплыл. Он будет тосковать без меня, потому что привык к нашим беседам и считает, что я, стараясь подражать гуигнгнмам, избавился почти от всех дурных привычек дикого животного. Но ничего поделать нельзя.
Это известие повергло меня в полное отчаяние. До ближайшего материка или острова никак не меньше ста миль, и даже если я построю хрупкое суденышко, мне туда не доплыть – первый же шквал отправит меня на дно. Решение гуигнгнмов было равнозначно для меня смертному приговору. Собственно говоря, смерть в ту минуту казалась мне единственным выходом, ведь даже если я все-таки спасусь, мне будет невероятно трудно снова приспособиться к миру своих соплеменников-йеху.
Я собрался с силами и вежливо поблагодарил серого коня за гостеприимство, сказав, что подчиняюсь решению Совета, хоть мне и не хотелось бы покидать такую прекрасную страну. Если мне удастся вернуться на родину, я надеюсь, что принесу пользу своим соотечественникам, поведав им о гуигнгнмах и об их образе жизни, который мог бы послужить образцом всему роду человеческому.
На это конь сказал, что у меня есть два месяца на строительство плавучей посудины, а в помощь мне будет отряжен гнедой слуга-жеребец, который очень ко мне привязался. На этом мы и расстались с моим другом-гуигнгнмом.
Прежде всего я отправился к тому месту на берегу, куда причалил. Мы с гнедым поднялись на холм, и я окинул взглядом лежащую передо мной морскую гладь. Мне почудилось, что далеко-далеко на северо-востоке виднеется нечто, похожее не то на остров, не то на синеватое облако. И я решил положиться на волю судьбы.
Не мешкая, мы с гнедым отправились в лес, и я, пользуясь ножом, приступил к делу. Слуга, орудуя острым кремнем, помогал мне срезать крупные ветки. Так мы трудились день за днем, и через шесть недель нам удалось соорудить нечто вроде большой индейской пироги, обтянутой бычьими шкурами, скрепленными пеньковой бечевой. Из кожи более молодых животных я выкроил парус, вытесал весла, приготовил запас провианта и два кувшина – один для молока, другой для пресной воды. В большом пруду возле дома серого коня я испытал свое суденышко, при этом за моими действиями наблюдали как гуигнгнмы, так и йеху, которые не были заняты работой. Швы пироги я законопатил коровьим жиром, затем погрузил ее на самую большую повозку, и мой гнедой слуга доставил ее на берег моря.
Когда наступил день отплытия, я пошел проститься с моим хозяином и его семьей. Однако гуигнгнм захотел взглянуть, как я буду отчаливать, и отправился вместе со мной и еще одним своим приятелем на берег.
Около часа нам пришлось дожидаться прилива. Сердце мое тоскливо сжималось, и когда я напоследок подошел к коням, я готов был опуститься перед ними на колени. Но серый в яблоках покачал головой и протянул переднюю ногу к моей руке. Я крепко пожал его копыто, кивнул остальным, отвернулся и побежал к пироге. Уже в следующую минуту я изо всех сил греб навстречу крутой приливной волне.
Кое-кто может сказать, что я вел себя довольно странно. Однако если бы эти критики были знакомы с гуигнгнмами, они изменили бы свое мнение.
Глава 10
Пятнадцатого февраля 1714 года, ровно в девять часов утра, я пустился в это отчаянное путешествие. При благоприятном ветре я сначала шел на веслах, а затем, опасаясь, что быстро устану, решил поднять свой маленький парус. Гуигнгнмы стояли на берегу до тех пор, пока пирога не скрылась из виду.
Моей целью было достичь какой-нибудь земли, и я направил свое суденышко туда, где когда-то заметил на горизонте остров. Я хотел поселиться там, построить хижину и попытаться выжить в одиночку, – мне страшно было думать о том, чтобы вернуться в цивилизованный мир, в общество жалких йеху.
Я не забыл, что три года назад, перед тем, как взбунтовавшаяся команда бросила меня в открытом море, наше судно курсировало примерно десятью градусами южнее мыса Доброй Надежды. Поэтому я решил держать курс на восток – навстречу утреннему солнцу, в надежде рано или поздно достичь юго-западных берегов Австралии. Там наверняка найдется подходящий для меня островок. Ветер не переставая дул с запада, и около шести вечера я заметил в отдалении нечто похожее на сушу.
Это был голый утес с небольшой бухтой, образовавшейся от ударов волн. Я загнал туда свое суденышко, взобрался на утес и отчетливо различил на востоке полоску суши. Ночь я провел в пироге, а ранним утром уже плыл к незнакомому берегу.
Побережье показалось мне совершенно необитаемым и пустынным, однако я не решился удалиться от берега, потому что был безоружен. Боясь разводить огонь, я перекусил моллюсками, которых собрал у прибрежных скал. В течение трех дней я питался моллюсками и ловил рыбу, которую съедал сырой, стараясь сберечь свой запас провизии. К счастью, неподалеку протекал пресный ручеек.
На четвертый день я все же рискнул отправиться на разведку. Однако, пройдя меньше мили, на одном из холмов я неожиданно заметил сидящих у костра туземцев. Они были совершенно голые и, когда заметили меня, разразились воплями. Пятеро из них бросились в мою сторону – и мне не пришло в голову ничего лучше, как стремглав помчаться обратно к пироге. Уже на берегу меня настигла стрела туземца, вонзившаяся в ногу. Прихрамывая, я забрался в лодку и отчалил так быстро, как только смог. Отплыв на кабельтов, я вырвал наконечник стрелы, выдавил кровь и промыл рану соленой водой – стрела могла оказаться отравленной.
Я решительно не знал, что делать дальше, – вернуться на берег я уже не мог. К моему огорчению, ветер поменялся и не давал мне возможности выйти в открытое море. На мгновение мне почудилось, что на северо-востоке мелькнул парус, но я все же повернул пирогу к берегу, надеясь, что дикари его уже покинули.
Вскоре я отыскал бухту, где прямо из-под скалы бил родник. Шатаясь от усталости, я вытащил пирогу на песок, вымыл лицо, напился воды из ручья и прилег за камнями вздремнуть.
Разбудили меня отдаленные голоса. Я выглянул из своего укрытия – в бухту входила шлюпка, а в полумиле от берега на легкой зыби покачивался большой корабль. Очевидно, его команда хорошо знала, где можно запастись пресной водой. Я снова спрятался за камнями и стал наблюдать.
Высадившиеся на берег матросы мгновенно заметили мою пирогу и догадались, что ее хозяин скрывается где-то неподалеку. Наполнив водой бочонки, они отправились на поиски, шаг за шагом осматривая берег. Я не мог бежать и затаился, гадая, зачем я им мог понадобиться.
Нашли меня очень быстро. Удивленно осмотрев мою фигуру, причудливое одеяние из кроличьих шкурок, самодельные башмаки и меховые чулки, матросы пришли к выводу, что я кто угодно, только не туземец. Один из них по-португальски велел мне выйти из-за камней и спросил, кто я и как здесь оказался. Я ответил на том же языке, что они видят перед собой несчастного йеху, изгнанного из страны гуигнгнмов. Тут уж было нетрудно догадаться, что я европеец, однако ответ мой показался матросам сущей бессмыслицей. К тому же мой странный акцент, напоминавший конское ржание, вызывал у них безудержный смех. Дрожа от страха и отвращения, я попросил их отпустить меня с миром, но матросы, окружив меня, стали допытываться, откуда я родом. Я немного успокоился и сообщил им, что я англичанин, покинувший родину пять лет назад, а в сущности – несчастный йеху, ищущий уединения.
Невыносимо было слышать голоса этих матросов – будто внезапно заговорила корова или собака, но при этом мы отлично понимали друг друга. В конце концов они решили взять меня с собой на корабль, так как здешние дикари-людоеды невероятно кровожадны. Капитан судна наверняка не откажется доставить меня в Лиссабон, а уж оттуда я легко смогу вернуться домой. Двое матросов отправились в шлюпке на корабль, чтобы доложить обо мне капитану, а прочие остались охранять меня. Они попросили рассказать историю моих приключений, но едва я заговорил о стране гуигнгнмов, как матросы потеряли к рассказу всякий интерес, решив, что лишения и беды повредили мой рассудок.
Шлюпка вернулась спустя пару часов с приказанием доставить меня на борт. Я упал на колени и, простирая руки к матросам, стал умолять оставить меня здесь, однако меня связали и отвезли на корабль.
Капитана звали Педро де Мендес, и он оказался, как ни странно, любезным и великодушным йеху. Меня накормили, переодели в холщовые матросские штаны и такую же рубаху и лишь после этого привели в его каюту. Капитан поручился, что на корабле мне не причинят никакого вреда, и стал было расспрашивать о пяти последних годах моей жизни, но я угрюмо отмалчивался и требовал вернуть мою прежнюю одежду. Взглянув на меня с тревогой, Педро де Мендес распорядился отдать мне поношенные шкуры и отвести в специально отведенную каюту. Там я мигом переоделся в привычное платье и улегся на постель, раздумывая, как быть дальше. Экипаж в это время обедал, и мне удалось незамеченным выйти из каюты и пробраться на палубу – я решил броситься за борт и вплавь добраться до берега, лишь бы не оставаться в обществе этих ужасных йеху. Но меня задержал вахтенный матрос, после чего на дверь моей каюты повесили замок.
После обеда Педро де Мендес явился ко мне, чтобы выразить огорчение по поводу моего поступка. Он стал трогательно убеждать меня, что его единственое желание – доставить мою персону целой и невредимой на родину. Он готов оказывать мне всяческие услуги, но для этого должен знать хотя бы мое имя. Тогда я поведал о том, откуда я и что произошло на моем судне. Он с сочувствием кивал, но едва я упомянул о стране гуигнгнмов, как в его глазах вновь мелькнуло сомнение в моих умственных способностях. Меня это оскорбило до глубины души – ведь я совершенно разучился лгать. Ложь свойственна только йеху, о чем я и заявил капитану.
Человек наблюдательный и умный, он тут же возразил, что если я настолько правдив, то должен дать ему слово не предпринимать более никаких глупостей, иначе он запрет меня в каюте до самого Лиссабона. Я пообещал, однако добавил, что не хочу видеться ни с кем из команды, так как внешность матросов вызывает у меня острую неприязнь.
Наше плавание проходило без особых происшествий. Иногда я беседовал с капитаном, всячески стараясь скрыть отвращение к человеческому роду, которого он старался не замечать. Но бóльшую часть времени я проводил в уединении в своей каюте. Капитан уговаривал меня сменить наряд дикаря на лучшее его платье, но в конце концов я согласился только на пару нижних рубашек, которые сам стирал и менял через день.
Мы прибыли в Лиссабон пятнадцатого ноября 1715 года.
Прежде чем сойти на берег, капитан принудил меня накинуть его плащ с капюшоном, чтобы вокруг не собралась любопытная толпа. Он привез меня к себе в дом и выполнил мою просьбу никому не сообщать о моей жизни среди гуигнгнмов, иначе я рисковал быть обвиненным в ереси и угодить на костер инквизиции. Так как мы с Педро де Мендесом были одного роста, я носил одежду капитана. Он был холост, и, кроме трех человек прислуги, никто не присутствовал во время наших трапез и бесед. Понемногу я начал привыкать к его обществу и даже время от времени осмеливался выглядывать в окно. То, что я увидел, поразило меня, однако с течением времени мой страх перед людьми настолько ослабел, что однажды я рискнул выйти с капитаном на прогулку. На улицах Лиссабона было душно, шумно и невероятно грязно.
Через пару недель дон Педро, которому я рассказал о своей семье, напомнил, что пора бы мне возвращаться домой, ибо у меня есть обязательства перед близкими. Меня уже ждут в порту на готовом к отплытию английском судне. Дома я смогу вести жизнь, какая мне по душе. Он продолжал считать, что страна гуигнгнмов – плод моего воспаленного воображения, однако я согласился с его доводами и покинул Лиссабон. Дон Педро снабдил меня небольшой суммой денег, посадил на корабль и обнял на прощание, что я перенес довольно терпеливо.
Жена и дети встретили меня радостно – ведь они уже потеряли всякую надежду увидеть меня живым. Однако должен признаться, что встреча в порту Даунса вызвала во мне противоречивые чувства, главным из которых была неприязнь. Дети раздражали меня, а жена казалась совершенно чужой. Дома она, бедняжка, попыталась обнять меня и поцеловать, однако я оттолкнул ее, дрожа от ужаса, и едва не лишился чувств…
Теперь, когда я пишу эти строки, минуло пять лет со дня моего возвращения в Англию. В течение долгого времени я не мог выносить присутствия даже самых близких мне людей, не говоря уже о прочих йеху. И по сей день я запрещаю кому бы то ни было есть и пить из моей посуды, без предупреждения касаться моей руки, без стука входить в мой кабинет.

