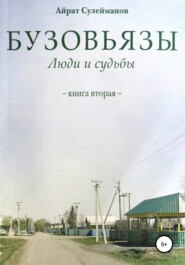 Полная версия
Полная версияБузовьязы. Люди и судьбы. Книга вторая
– В нашей бригаде, – вспоминает Разима Хамматдиновна, – было два звена. Наше, комсомольско-молодежное звено, и другое, где работали женщины постарше. Звеньевой у них была Фатима Асянова – мать того писателя Фаниля, которому я вывих правила. Она подошла к нам и тихонько сказала: «Вы девчата молодые, вам, конечно, хотелось бы на концерт попасть. Ничего, не бойтесь, мы вам поможем». И действительно, женщины из звена Фатимы-апы нам помогли: то на своем участке работали, то украдкой к нам, молодым, прибегали. Вот так мы с помощью второго звена завоевали право пойти в клуб на концерт. Взаимовыручка, дружба, совместная работа всегда выручали сельчан. «Делай сам и помогай другому» – этот девиз был принципом нашей жизни.
Поэтому не удивительно, что со временем природная одаренность и опыт работы в больнице привели к тому, что стала Разима лечить различные заболевания, а не только вывихи и радикулиты. На прием к ней, словно к участковому врачу, стали приходить многие односельчане, жители других деревень и городов; страждущие приезжали даже из Уфы. И всем Разима оказывала посильную помощь.
Когда стал жаловаться на здоровье народный поэт Башкортостана Мустай Карим, он тоже приезжал к ней. Она внимательно слушала поэта, чувствительными пальцами слегка касалась болевых точек, объясняла знаменитому пациенту: «У вас, Мустафа Сафич, все болезни от давних причин. Это сказываются фронтовые раны…».
Чрезвычайно интересной была встреча простой колхозницы с Президентом Республики М. Г. Рахимовым. Все началось с того, что в один прекрасный момент выяснилось символичное совпадение в их судьбах. Дело в том, что оба они – 1934 года рождения. Причем не только год рождения совпадает, но даже день – 7 февраля. А выяснилось это следующим образом.
Во время открытия нового здания Бузовьязовской больницы Президент стал здороваться за руку с медперсоналом. И когда очередь дошла до Разимы, она улыбнулась и, протягивая руку, с какой-то торжественностью, с юморком сказала: «Здравствуй, годок!». Муртаза Губайдуллович удивленно посмотрел на нее и спросил, почему она его так называет. И Разима объяснила, что родились они в один год и даже в один день.
Видимо, очень понравилось Президенту теплое, душевное слово «годок». Ибо 7 февраля следующего года пришла от него Разиме красочная поздравительная открытка. И вот уже много лет получает она весточки от М. Рахимова и сама не медлит с ответом…
***
…Бежит речка Узень мимо села. Ребятишки плещутся на перекате. Укрывшись в кустарнике, сидят по берегам рыбаки. Однако воды в Узени стало меньше, чем в прежние годы, да и рыба почти вся перевелась. Вековые ивы опустили зеленые косы к реке и плачут – потому их и называют плакучими.
Деревья эти очень старые, но и они не помнят, сколько веков течет здесь эта реченька. Сколько эпох сменилось по ее берегам! Канзафар Усаев, сподвижник Емельяна Пугачева, жил и духовно креп здесь. Побывали тут и джигиты из войска легендарного Салавата. По здешним дорогам стучали колеса тачанок в гражданскую войну, стремглав проносились конники Василия Ивановича Чапаева. Даже адмирал Колчак, противник Советской власти, бывал здесь. Сколько перевидала малая реченька Узень! Тьму-тьмущую судеб – от далеких веков и поныне – повидала. Близких и родных людей пропустило через себя село Бузовьязы.
Стоит Разима Хамматдиновна на мостике, наблюдая за тем, как убегают воды Узени далеко-далеко, к другим рекам, к чужим морям. Думает она, что судьбы людские, судьбы ее земляков, бузовьязовцев, как эти воды, из поколения в поколение вливались и вливаются в общую судьбу народов необъятной нашей России. Многие ее земляки разошлись по дорогам страны. В селе она знает всех наперечет – от мала до велика. Ее тоже знают все бузовьязовцы.
Смотрит она вдаль – туда, где режут синь небес быстрые ласточки, воркуют сизокрылые голуби, и думает о горемычной своей судьбе. Родила пятерых детей, троих успела похоронить. Рано ушел из жизни муж – всего-то в 43 года. Казалось бы, у человека от всех этих бед и напастей должно очерстветь сердце. Но нет, горе не сломило ее, не ожесточило. Наоборот, душа ее потянулось ближе к людям. Нести им добро и здоровье, помогать советом стало обычным ее делом, призванием.
«Как хорошо, – думает она, – что остались у меня два цветочка, два внука. Умирать мне нельзя, внучат надо вывести на большую дорогу жизни». «Спасибо вам, Разима Хамматдиновна! Спасибо за вашу доброту!» – говорят ей односельчане. Светлее становится на сердце, когда есть на земле такие люди…
…Течет реченька Узень, минуют годы, проходят века, становясь историей.
И судьба каждого человека – светлая ее капелька…
Любящее сердце матери
ОФИЦЕРЫ
До утра за бутылкой мадеры
Засиделись опять офицеры.
Над гостиницей в городе Грозном,
Где в окошке горит огонек,
Вертолеты – стальные стрекозы –
Обещают ненастный денек.
Офицеры не за проценты
Пульку кинули. Нет, не за фарт.
Двое русских и двое чеченцев
За колодой раскинутых карт.
Сожалеют все четверо: скоро
Их поврозь разминует рассвет.
Высотою с Кавказские горы
Перед ними гора сигарет.
Все они незадолго до лживой,
Этой грязной, продажной войны
В батальоне российском служили,
Друг пред другом не знали вины.
Их учили одни командиры
В пекло боя за Родину лезть,
До последнего шва на мундире
Защищать офицерскую честь.
…Собирались сюда раз за разом,
Дулись в карты, но вновь по утрам
Расходились они по разным,
Разделенным войной сторонам.
И опять начинались атаки.
Порох. Дым. Несусветная гарь.
Мяли черными траками танки
Вместе с пашней сельхозинвентарь.
Мир кричал, что мы все безголовы,
Рушим землю и собственный кров.
Мы-то были в себе и здоровы,
Это мир вокруг нас нездоров.
И однажды, вернувшись из боя,
Офицеры заметили враз:
За столом оказалось их двое,
А вдвоем не идет преферанс.
Не разлили дешевой мадеры,
Карты скинули со стола.
И ударили два офицера
Над погибшими залп в два ствола.
Одного похоронят в Сибири,
А другого – в суровой Чечне.
…О свободе, о братстве, о мире
Грезят два офицера во сне.
Это стихи народного поэта Башкортостана А. П. Филиппова. Я совсем не случайно цитирую их здесь, ибо следующий рассказ – о семье Бикметовых – непосредственно связан с чеченской войной, а один из сыновей Фидаля Гильметдиновича и Марьям Фатхлисламовны, Вильмир, воевал на Кавказе.
Из Кармаскалинского района в Чечне служили 22 человека, пятеро из них погибли смертью храбрых. Не могу сказать точно, сколько ребят из Бузовьязов воевало в Чечне. Однако боевую биографию Вильмира знаю даже в деталях. После окончания школы Вильмир был призван на военную службу, и практически сразу необученного паренька направили в горячую точку.
Кто развязал эту братоубийственную бойню – ответят со временем историки. Одно сейчас не вызывает сомнений: антироссийские силы, вскормленные чужеземным долларовым потоком, посеяли на Кавказе сорняк политических интриг, сколотили бандформирования и под видом освободительной войны втянули чеченцев в гражданскую междоусобицу. Исламские фундаменталисты, прикрываясь священным Кораном, волчьими стаями накинулись на Чечню, надеясь тем самым подорвать устои России, разжечь на Кавказе межнациональные распри. Кинули туда поток фальшивых долларов, чтобы развратить душу народа.
Но не тут-то было: гордые горцы быстро распознали, откуда ветер дует. Любящие Родину, они встали на ее защиту. И российские солдаты пришли им на подмогу.
Молодой солдат Российской Армии воочию видел кровь, смерть товарищей, наглотался порохового дыма. Успел он отправить на родину всего два письма – и пропал без вести для своей семьи. Месяц прошел, второй, а писем все нет и нет.
Кровью обливается сердце матери солдата. Письмо бы написать сынку, да ведь она неграмотная. В школу не ходила – не до учебы было сироте. Еще до войны, едва исполнилось ей 5 лет, умерли отец с матерью. Подошел ученический возраст, а в школу бедной девочке идти не в чем: ни обуви, ни одежды – ничего у нее нет. Да и платить за учебу нечем. Взяла ее к себе тетя, сестра отца. В грозовом 1941 году Марьям исполнилось восемь лет. И определила ее тетя, которая работала на овцеферме, пасти колхозную отару…
* * *
Непонятные бывают явления в природе. Когда люди начинают плохо жить, когда где-то идет война, и все мужчины уходят на фронт, в лесах вблизи деревень появляются волки и по ночам воем пугают людей. В окрестностях Бузовьязов тоже рыскали голодные волчьи стаи. Чуть ли не каждую зимнюю ночь волки смело пробирались в огороды, лезли ближе к сараям, особенно к фермам.
Помнит Марьям, как однажды ночью разбудил ее душераздирающий волчий вой. Выбежали они с теткой на крыльцо. Небо было усеяно звездами, светила полная луна. За изгородью, в огороде, на снегу недвижимо сидели волки и, задрав вверх морды, выли на луну. Тетушка схватила подвернувшийся под руку жестяной тазик и стала стучать по его днищу. Этот металлический звон в морозном воздухе разлетелся далеко.
Волчий вой разбудил не только их, всполошились люди и в соседних домах. Но истошные крики людей, звон ведер и тазов не отпугивали зверей – настолько, видимо, были они голодны. Волки не разбегались до тех пор, пока не раздался ружейный выстрел. Звери неторопливо выстроились в цепочку и вслед за вожаком засеменили к лесу…
Вовсе не случайно вспомнилась Марьям Фатхлисламовне та лунная ночь, волчий набег на сарай с немногочисленной скотиной. Дело в том, что не так давно, тоже ночью, пробралась на подворье к ней лиса – залезла в курятник. Но помешала корова – громко замычала и кинулась на нее. Лиса прыгнула на корову и искусала ее до крови.
Мычание коровы и квохтанье кур разбудили Марьям. Перепуганная, в чем была, выскочила она во двор, включила в сарае свет – и обомлела от страха: на корове сидела самая настоящая лиса, злобно и ехидно буравила глазами стоящую в дверях женщину. Кинулась Марьям к дому, схватила на руки трехлетнюю внучку и побежала по соседям, прося подмоги. Хлопала калитками, стучала в окна – никто не вышел, все как будто вымерли. Обежала несколько домов. На ее счастье, открылось окошко в доме Канбековых. Узнав, в чем дело, Резеда выбежала на крыльцо, схватила лопату, и вдвоем они ворвались в сарай. Лиса сидела в углу и лапами отбивалась от коровы. Озлобленному зверьку бежать было некуда. Лопатой да поленьями женщины добили ее.
Беда была не в том, что лиса покусала корову, и даже не в том, что она оказалась бешеной, из-за чего сельскому ветеринару пришлось усыпить корову. Беда в том, с горечью думалось Марьям-апе, что почерствели души людей, охладели они к бедам других, не бегут на крик о помощи всей деревней, как на волков той лунной ночью во время войны…
Вот и опять печалится Марьям-апа. Уже восемь месяцев не было писем из Чечни. По адресу, указанному на письмах, присланных Вильмиром, добрые люди от имени Марьям писали письма в гудящую Чечню. Но ответа на них не было. Вильмир как в воду канул. Вмешался тогда в эту ситуацию мой двоюродный брат Мидхат Сулейманов. Взял он у землячки адрес ее сына и, не дожидаясь помощи от райвоенкомата, сам поехал в Москву. Но в столице ничего конкретного ему ответить не смогли. Правда, пообещали вмешаться в это дело и даже объявить розыск. Несолоно хлебавши вернулся Мидхат Сулейманов в Бузовьязы.
Однако московский «поход» его не оказался безрезультатным. К розыску Вильмира подключился Кармаскалинский райвоенкомат. Не прошло и месяца, как в село на побывку приехал сам Вильмир Бикметов. Оказывается, он был ранен в бою. Засевшие глубоко в горах бандформирования поджидали у дорог небольшие отряды российских солдат и неожиданно нападали на них. Отряд, в котором служил Вильмир, отступил и спрятался в горах. Тропы были незнакомы, рацию разбили в бою, и связаться со своими не было никакой возможности. Несмотря ни на что, российские солдаты все-таки вырвались из скал, да еще и раненых вынесли.
Сейчас Вильмир вспоминает: «Если бы не Мидхат-агай, остался бы я без руки. К тому моменту, когда из Москвы посыпались запросы, приказы о розыске нас в горах, рука моя уже чернеть стала. Усадили меня в кабину бронетранспортера и вовремя доставили в госпиталь. Слава Аллаху, руку не потерял, даже отпуск заработал. Спасибо боевым товарищам».
Марьям-апа обнимает повзрослевшего сына и сквозь слезы шепчет: «Не перевелись еще добрые люди на земле!». Сколько дум передумала мать о без вести пропавшем сыне, сколько слез пролила… А вот вернулся сынок живым и здоровым. Рука что – долечат в больнице, заживет. Есть горе у людей, какое длится вечно. Есть раны на душе, какие не заживают до скончания дней! Помнит она доселе, как убитая горем почтальонша с тоской стучала в двери сельчан, разнося вести о погибших смертью храбрых.
В первые же дни Великой Отечественной войны ушел на фронт боец Абдюков, оставив дома жену с семерыми детьми один младше другого. Самой старшей – Гульсум – всего-то 15 лет исполнилось. Долго не решалась почтальонша открывать калитку дома Абдюковых, долго не решалась постучать в дверь. Немыслимую беду несет она в своей почтальонской сумке в эту многодетную семью. Вытащила она похоронку, снова прочитала скупые строки, извещавшие о гибели Байзы Абдюкова. Постояла немного на крылечке, смахнула слезы с глаз и зашла в избу.
Ребятишки, смеясь и балуясь, обступили ее со всех сторон, кричат на разные голоса: «Письмо пришло от папы, письмо! Ала, дайте скорее, дайте скорее!». Не сумела скрыть горе почтальонша, заметила Маргия ее заплаканные глаза. Руки отяжелели, не может шага шагнуть, не может руки протянуть за конвертом. Гульсум выхватила его, вскрыла и громко, с радостной улыбкой начала читать. Улыбка на детском лице потухла, она замолкла, присела на краешек кровати.
Первые же фразы этого недоброго извещения, как трассирующая автоматная очередь, пронзили грудь Маргии. Потеряв сознание, она упала на пол. Ничего не понимая, младшие дети наклонились над своей мамой, навзрыд заплакали. На следующий день от дома к дому люди передавали из уст в уста: «От разрыва сердца умерла наша Маргия…».
Все тяготы жизни легли на худенькие плечи несовершеннолетней девочки. Во многие дома тогда стучала костлявая рука голода. Гульсум осталась в семье за хозяйку. Что делать ей, как поступать – не знала. Когда двое младшеньких умерли, в правлении колхоза ей посоветовали определить братьев и сестер в детский дом. Ребятишки плакали, не хотели отрываться от старшей сестры и уходить из дома. Но безвыходность положения диктовала свое.
При себе Гульсум оставила лишь сестренку Гадилю, взяла ее работать на сортоучасток. Трое в детдоме, двое на сортоучастке – так дотянули до победного мая 1945 года. Потом, оканчивая класс за классом, поочередно шли работать в свой колхоз. В дальнейшем Гульсум стала там передовым бригадиром…
* * *
Два месяца пролежал Вильмир в уфимской больнице, долечивая рану. Побыв несколько дней дома рядом с матерью, опять уехал на Кавказ. За те два месяца, пока он был на лечении, армейские подразделения и милиция выбили из городов и сел Чечни бандитов, вытеснили их в горы. Вильмир вновь взял в руки автомат и с боевыми товарищами по горным тропам пошел на ликвидацию бандитских группировок. В открытый бой террористы не шли, прятались в укрытиях, минировали дороги, по ночам делали набеги на поселки. Открытый бой им навязывали наши солдаты.
И опять угодил Вильмир в жестокую схватку. Подкараулил его на лесной тропе какой-то головорез. Выстрел прогремел неожиданно. Вильмир прыгнул за камень и моментально дал автоматную очередь. В тот раз все обошлось.
Смерть подкарауливала повсюду: за каждым поворотом, в непролазном кустарнике, в горных ущельях. Бандиты дошли даже до того, что оставляли мины под убитыми солдатами. И однажды Вильмир вновь очутился буквально на волосок от смерти. После боя, уничтожив группу бандитов и убедившись, что оставшиеся в живых террористы скрылись в горах, поехали солдаты на грузовике подобрать убитых в бою товарищей. И хорошо, что вовремя заметили укрытую мину, – иначе беды было бы не миновать.
Отслужил Вильмир положенный срок и, демобилизовавшись, вернулся домой, в Бузовьязы. Отдохнул малость, помог матери по хозяйству и устроился в колхоз механизатором. Здесь работал и работает до сих пор его брат Виль. За отличный труд, за высокие урожаи республика наградила их, подарив трактор.
Братья пошли по стопам отца. Фидаль Гильметдинович долгие годы после окончания Ляховского училища работал механизатором. Так же, как и его жена Марьям, осиротел в раннем детстве: в 1941 году умерла мать, а в 1942 году на фронте погиб отец. Отличалась его судьба от судьбы будущей жены лишь тем, что воспитывался он в детском доме. Потому посчастливилось Фидалю окончить шестой класс, после чего подростка направили в Ляховское училище механизаторов. В колхозе он всегда числился среди передовиков.
Нельзя сказать, что семья Бикметовых сильно бедствовала: тогда все так жили, тянули лямку. Но когда за плечами пятеро детей, нехватка ощущалась во всем. У кого-то из ребят на зиму валенок нет, у кого-то пальтишко до дыр поизносилось, а кому- то учебников и тетрадей не хватило. В таких случаях бежала Марьям-апа к моим родителям. Отец с матерью чем могли, тем помогали им.
В день, когда в Бузовьязах состоялось импровизированное открытие колодца имени Магдании, Марьям-апа по-родственному, простыми словами сумела выразить теплое чувство сельчан к моим родителям.
– Дорогие земляки! – обратилась она к собравшимся. – Мы все хорошо знали Магданию и Мудариса Сулеймановых. Это была удивительная пара, они были созданы друг для друга. Никто из нас, наверное, не видел Мудариса сердитым и хмурым. Улыбка не сходила с его лица.
А сколько они помогали нам! Вспоминаю такой случай: когда в январе 1958 года я вышла замуж, хозяйства у нас никакого не было. И он, и я – круглые сироты, а свадьбу сыграть, хотя бы немудрящую, очень хотелось. У тетки моей был всего один барашек. Чуть ли не со слезами на глазах уговорила я тетю зарезать его для свадебного стола. На следующий день понесла овечью шкуру Мударису-агаю, он тогда заготовителем работал. Шкурка была маленькая, а денег за нее он дал мне, как за две. Я сказала об этом, а он тихонько с неизменной своей улыбкой прошептал: «Мы же родственники, поддерживать друг дружку должны». И кликнул Магданию. Та тут же поставила самовар. После чая со сладостями они дали мне всяческих гостинцев. «Живите в дружбе и согласии!» – пожелали на прощание.
Да, Мударис и Магдания всегда помогали людям. Вот и Айрат – их сын – весь в отца пошел, и обличием своим, и душой доброжелательный. Когда мою корову бешеная лиса покусала, мы с детьми лишились кормилицы. И опять же Айрат выручил – купил нам дойную корову. А цветастый платок, который подарила на свадьбу Магдания, я храню до сих пор как светлую память о ней. Вот так мы и жили. Если беда в мои двери стучалась, к ним бежала. Если радость приходила, поделиться ею тоже к ним шла…
…Тогда, на той импровизированной сходке, с добрыми словами воспоминаний выступали многие земляки. Я стоял среди них, и мне казалось, что дух моих родителей витал здесь, над собравшимися…
Человек на земле
Рамиль Ишмаков – это золотые руки, пытливый ум. Если бы меня спросили, с кем я пойду в разведку, недолго думая, в первую очередь я бы назвал школьного моего товарища Рамиля Ишмакова. Конечно, с детских лет и до сих пор окружали и окружают меня хорошие, стоящие, твердые характером люди. Со всеми можно и коней воровать, как говаривали башкиры, и в разведку идти.
Рамиля Гиндулловича назвал первым потому, что с ним мы бегали по одним и тем же тропинкам, вместе ходили в школу, учились в одном классе. Изредка, когда выкраивали время, с удочками в руках сидели на берегу Узени. У Рамиля, к сожалению, такого беззаботного времени почти не было. Ему и двух лет не исполнилось, когда умер отец. А в семье – четверо детей. Самому взрослому – всего 11 лет.
Какая-то странная закономерность получается: кого ни вспомню из сельчан, у всех одно и то же. Многие семьи оставались без отцов – то война их хоронила, то нелегкие послевоенные годы. Да и сам я остался без отца 10-летним мальчиком. Потому и знаю горькую долю таких семей.
После 8-го класса Рамиль пошел работать в колхоз. Определили его скотником на молочно-товарную ферму. Корма подвозил, убирал навоз, командовал водопоем коров. Резвый, побаловаться и пошалить всегда не прочь, в груди кипит юношеский задор… Впору поиграть с соседскими пацанами в футбол или лапту, да времени у него совсем нет.
Хания-апа, его мама, слыла в районе передовой дояркой. «Об одном жалею, – часто сокрушалась она, – Рамилю моему учиться не довелось. Без учебы сегодня далеко не уедешь. Сама работала в поте лица и детям особого покоя не давала».
Рамиль хоть и был младшим в семье, однако мог выполнить любую крестьянскую работу. Поздно вечером вернется с фермы, наскоро перекусит – и бежит то в огород, то к домашней скотине в сарай. Поставить изгородь, обновить ворота, подправить крышу – все он умел.
Домик у них был уютный, да маленький, как скворечник. Стоял он там, где когда-то давно располагалась усадьба его прадеда. На этом месте раньше была большая ямщицкая изба, в конюшнях содержались лошади. Предки Рамиля в прежние времена занимались извозом. Зимой на ямщицких санках, летом на тарантасах возили в Стерлитамак и оттуда людей. Неплохие заработки приносила перевозка товара первой необходимости – соли. Революция, гражданская война, само время унесли в небытие и ямщицкий дом, и конюшни. О прежнем житье-бытье рассказывала Рамилю бабушка. Предки его были мастерами на все руки, и сам он пошел в них.
Но недолго пришлось Рамилю ходить с кнутом да вилами в руках. Вмешался военком, и отправили допризывника в Уфу учиться в автошколу на водителя. Вернулся в село уже с правами, с хорошей профессией, которая очень пригодилась ему в армии.
Вдали от Родины, как говорится, земляк земляка видит издалека. В армии служил вместе с Рамилем парень из Михайловки, что под Уфой. Как-то вечером были они в наряде, сидели на скамейке и звезды считали. «У тебя есть девушка?» – спросил Рамиля земляк. «Нет, не успел обзавестись, – ответил тот. – Не до них было, в колхозе работал». «Эх, есть у нас в Михайловке девушка, – горячо сказал солдат, – писаная красавица, сам бы женился, да она на меня – ноль внимания». Задумался парень, на звездное небо взглянул и продолжил: «К тому же, нелюдимая она, домоседка, в клуб и то редко ходит». «Домоседка-соседка! – засмеялся Рамиль. – Может, адресок подкинешь?»
И пошло-поехало. Написал Рамиль письмо в Михайловку, под Уфу. Не сразу ответила Илюза. Видно, долго раздумывала. Как позднее выяснилось, вряд ли она решилась бы ответить незнакомому парню, если бы не сосед, сослуживец Рамиля, которого он упомянул в своем письме. Дождался все-таки Рамиль ответа от Илюзы.
Так началось их почтовое знакомство. Обменялись фотографиями, понравились друг другу. Потом вместе смеялись: «Мы звезды любви по письмам считали!».
Летом Рамиль вернулся со службы. К этому времени Илюза окончила лесотехникум. А уже в декабре сыграли свадьбу.
Хания-апа, как и прежде, работала дояркой. В газетах о ней писали, награды получала. Сколько помню ее, она постоянно была в работе. Быстрая, расторопная – любое дело спорилось в ее руках.
Недолго отдыхал Рамиль после солдатской службы. Всего неделя прошла, как вызвал его в правление тогдашний председатель колхоза А. Б. Абдеев. «Не хотел тревожить тебя, улым, – с мягкой улыбкой сказал он Рамилю, – да ведь в хозяйстве всегда чего-то недостает. Без водителя я остался. Не мог бы ты за руль сесть?». «Ладно, завтра утром выйду на работу», – согласился Рамиль. Опять улыбнулся председатель: «В том-то и дело, не завтра надо, а прямо сейчас. У нас в Гафурийском районе отгонное стадо пасется. Наведать колхозников надо». Сел Рамиль за баранку машины и повез председателя на отгонное пастбище…
Домой вернулся поздней ночью. Объяснил матери свое отсутствие. «Ну, слава Аллаху, – успокоено произнесла она, – а то я уж неладное подумала». «Все хорошо, только вот отдохнуть после армии не удалось», – вздохнул Рамиль. «Эх, сынок,
человек, к сожалению, отдыхает только в одном месте, – она обняла сына, улыбчиво заглядывая в его глаза, – сам знаешь где…»
Как сел Рамиль тем летом за баранку, так целых шесть лет и проработал водителем на разных машинах, в том числе на большегрузных. За свой труд в уборочную кампанию, завоевав призовые места, был награжден серебряной и бронзовой медалями ВДНХ. За какое бы дело ни брался Рамиль, всюду работал горячо и результативно. Постоянно в передовиках ходил, одними Почетными грамотами и дипломами можно, пожалуй, всю стену обклеить. Особенно памятны ему годы, когда назначили его заведующим на той же ферме, где он работал еще юным пареньком.



