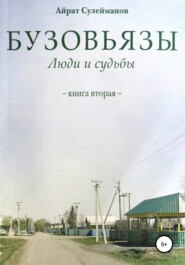 Полная версия
Полная версияБузовьязы. Люди и судьбы. Книга вторая
Но для отца падение Берлина еще не было концом войны. Несколько недель передышки – и снова он в пути, только путь этот лежал на Восток. Отец с нескрываемой гордостью изредка рассказывал о своем участии в Японской войне в августе-сентябре 1945 года.
– Пришлось мне тогда, – говорил он, – пройти и проехать с боями всю Маньчжурию, Мукден повидал… А войну закончил в Порт-Артуре.
Помню, как отец с какой-то горечью в голосе после некоторой паузы круто менял тему:
– Эх, ошибся все же Никита Хрущев, не надо было отдавать ему китайцам морскую крепость. Жалко до слез… Сталин сполна оплатил японцам за ошибки царя Николая. За гибель «Варяга», за падение Порт-Артура.
Вообще, отец дома редко вспоминал о войне. Только 9 мая и 7 ноября, когда приходили к нам гости – бывшие фронтовики, все они вспоминали лихое военное время. Многого я не понимал в их разговоре, изредка подавал голос. Однажды при упоминании Сталина я спросил отца:
– А что такое Цусима и Порт-Артур?
– Вот вырастешь, прочитай книги писателей Степанова «Цусима» и «Порт-Артур», тогда и узнаешь. Это те места, где мне пришлось когда-то воевать.
И еще один разговор о войне запомнился мне. Мама с папой сидели за столом и тихо беседовали. Мама завела разговор о том, что жизненный путь человека предопределяет прежде всего труд. Тот, кто много работает, тому и благоволит судьба.
– Мне кажется, – продолжала она, что свою судьбу человек строит сам.
– Так-то оно так, – поддержал разговор отец. – Однако в жизни все сложнее. Есть факты, которые говорят, что судьба у каждого своя. Порой не знаешь, из-за какого угла она подстерегает тебя. Вот нас, солдат, летом 1945 года перебрасывали с Запада
на Восток. Через Маньчжурию мы пробирались с боями. Японцы жестоко сопротивлялись.
В кузове грузовика ехал с нами один сержант, разбитной такой парень из Сибири. На малейшее подозрение, что где-то рядом затаились самураи, он выпрыгивал за борт машины и автоматными очередями бил по зарослям редкого кустарника, по посевам чумизы. Раза три-четыре действительно натыкался на японцев. Когда сибиряк, возвращаясь, залезал в кузов, гордо смеялся: «Пули меня не берут, всю войну прошел, Берлин брал и даже ранен не был. Судьба у меня такая».
Но от судьбы не уйдешь. Прошли мы Маньчжурию, и уже в Китае, когда до конца войны оставалась всего-то дня три, раздался одиночный выстрел. Сержант рухнул наземь. Мы подбежали к нему, а он уже мертвый. Пуля угодила прямо в сердце. Как тут не поверишь в судьбу…
Да, война не обошла стороной отца. Хотя и краем своим, но она коснулась его юности. Понюхавшим порох, прошедшим огненные пути Кенигсберга и Маньчжурии вернулся он домой. Война наложила свой отпечаток на его характер. В работе всегда был горяч и цепок, требовал с других и нам спуску не давал, но в строгости своей был справедлив.
На лице его постоянно сияла улыбка. Помню, уходя утром на работу, он, не переставая улыбаться, давал мне задание сделать что-либо по хозяйству. Не дай Бог, если к его приходу я что-то из указанного не делал. Улыбка сходила с его лица, и отец с твердостью в голосе упрекал меня за нерадивость.
К несправедливости относился жестко. Был, например, такой случай, о котором рассказала мне Акрама Хамитовна Бикметова. Отец работал тогда заведующим столовой в Бузовьязах. В районе проводились итоги работы Кармаскалинского потребсоюза за год. В Доме культуры собрались работники торговли пищеблока. Уже зачитали список победителей, как вдруг отец попросил слова. «Как это так получается, – обратился он к президиуму собрания, – самые высокие показатели, как видно по данным статистики, в нашей бузовьязовской столовой, а первое место почему-то присуждается другим?» В президиуме замешкались. Председатель президиума пошептался с представителем райкома партии и тут же перед всеми собравшимися признал ошибку. Первое место было присуждено столовой, которую возглавлял мой отец. Премия и подарки за лидерство получили работники его предприятия.
Трудовую биографию отца помнят до сих пор многие бузовьязовцы. По их воспоминаниям, не заглядывая в архивы, можно проследить его послужной список.
Рашид Нуруллович Рязяпов работал в райпотребсоюзе водителем.
– С Мударисом, – говорит он,– мы с первого класса учились вместе. С самого начала войны почувствовалась в колхозе нехватка мужчин. Учиться стали урывками. Дня два-три в школу ходили, потом недели полторы – на колхозных работах. В 1944 году Мударис на фронт ушел, а я был на год моложе, и потому попал в армию, когда война уже закончилась. Но вернулись из армии мы почти одновременно. Я баранку крутил, а Мударис разные должности занимал. Работал он в заготконторе, в страховом агентстве… Занимал, по районным масштабам, высокие посты: был директором универмага, заведующим чайной в Бузовьязах, председателем Уршаковского сельпо. Хороший был работник, заботливый…
* * *
Летний вечер выдался теплым-теплым. Мы босиком, в одних майках сидели с отцом на крылечке. В небе зажигались звезды, над крышами домов, за горизонтом опустилось солнце. Но и невидимое, оно продолжало излучать свет, золотые снопы прорезали темень небес. Мне тогда едва перевалило за десять лет, хотелось поребячиться, поговорить с отцом, а он молчал. От летней духоты, дневных забот на высоком лбу его серебрились капли пота. Отец вытащил носовой платочек и смахнул пот с усталого лица. О чем же думает он? Какие мысли тревожат его сердце? Даже незатухающей улыбки не было в его глазах.
Позднее мне припомнилась это вечерняя картина. Как-то он спросил у мамы, не она ли в день проводов на войну подарила ему платочек с десятью рублями? Мама, смутившись, ответила, что в тот день их, девчонок из Тугая, послали в Бузовьязы на демонстрацию и предупредили, что прямо оттуда будут отправлять новобранцев.
– Тогда вся женская часть деревни готовила подарки для фронтовиков, – сказала мама. – Был и у меня заготовлен платочек с вышивкой. До сих пор помню его.
– А почему именно мне? – улыбнулся отец.
– Ты же выделялся из всех… Самым красивым был, вот и облюбовала тебя.
Ближе мои родители познакомились на одном из вечеров в Доме культуры. Стали встречаться, а вскоре и поженились. Именно тогда я услышал из уст отца страшное слово – «Хиросима».
– Ясно помню, – говорил он маме, – день, когда американцы впервые за всю мировую историю войн сбросили атомную бомбу. Хотя и держалось все в большом секрете, все же до нас, солдат, моментально докатился слух об этой зверской бомбежке. И до этого на фронте ходили разговоры о какой-то атомной бомбе. Но это были только слухи. А в тот день, 5 августа 1945 года, нас подняли по тревоге. Командиры кричали: «Всем ждать очередной команды!». Приказывали то прыгать в грузовики, то обратно на землю. Вот так и допрыгался, платочек твой где-то впопыхах обронил. Может, и сейчас пользуется им какой-нибудь китаец…
В жизни всегда так: трагичное перемешивается с обыденным, великое – с низким. Намного позднее я узнал, что самолету, летящему на Хиросиму с дьявольским грузом, давались с земли радиосигналы, указывающие путь. В наушниках пилота звучала потрясающая мелодия «Болеро» французского композитора Мориса Равеля. Какое кощунство – соединять великую музыку с дьявольской бомбой!
Пишу эти строки, и в глубине души возникают слезы. Неведомо мне, что хотел выразить этой музыкой композитор. Но, слушая ее, перед взором моим рисуется картина горячей пустыни. По жгучему песку медленно движется караван верблюдов, которые несут в дальние страны и города продукты, товары, драгоценности, – несут людям радость. Несут терпеливо, долго – через песчаные степи, через неведомые края.
Медлителен путь к радости, к беде же – летит с неимоверной скоростью: путь пули измеряется секундами, воздушная дорога бомбардировщика к Хиросиме – двумя-тремя часами. Звучит «Болеро» Равеля. Замолкает оглушительный взрыв атомной бомбы. Но стоны пострадавших от нее слышны до сих пор.
Для тех, кто сгорел в сраженье,
Кто видел большой рассвет,
Есть только дата рожденья,
Даты смерти нет.
Память об отце я несу всю жизнь в своем сердце, она будет со мной до скончания дней моих. Вдвойне приятно, когда о нем помнят земляки на его родине, в Бузовьязах. Теплые и добрые слова их воспоминаний греют мою душу.
На несколько лет перерос я своего отца. За плечами у меня полвека. Ему же было 42 года. В работе он горел, любое дело спорилось у него в руках, с улыбкой, быстрым шагом шел он по земле. Как и у отца, нет у меня свободного времени, чтобы поразмышлять о смысле бытия или посвятить вечер разговорам с друзьями.
Вот выдалась минутка. Иду по луговой тропинке и вижу: ползет по земле улитка, упрятавшись ото всех и от всего в броню. Так же, как отец, улыбаюсь, вспомнив из детства: «Улитка-улитка, высуни рога – дам с калиной пирога». Не медлительной походкой прошел по земле мой отец. Он – как лучший Тулпар на беговой дорожке – красивым шагом летел вперед, к цели.
Пусть земля будет тебе пухом, отец. Троих сыновей оставил ты на земле, и не опозорят они светлой памяти о тебе!
Подруга матери моей
Есть в природе одна удивительная закономерность: когда по весне начинает зацветать черемуха, вдруг наступают холода. Казалось бы, только что стояла жаркая-прежаркая погода – и вдруг холод. А черемуха вся пенится белоцветьем, в прибрежном тальнике буйствуют соловьи… По всей округе воздух наполнен духмяными запахами весны. Вечером холодок довольно ощутим: в одной рубашке на улицу не выйдешь. Но как только осыплются белые лепестки черемухового цвета, солнышко опять набирает силу – долгожданная весна окончательно вступает в свои права. Все вокруг оживает, веселится, радуясь теплу и солнцу.
Порою мне кажется, что жизнь человеческая очень похожа именно на эту причуду природы. Человек рождается, подрастает, наконец, мужает – и уже начинает маячить такая нежданная, непредвиденная, угрюмая старость. Цветущая весна, солнечное лето, плакучая осень, седая морозная зима… Действительно, в этом есть сходство человеческих судеб и природы…
Было дело, засиделся я что-то в Уфе. Неотложные дела, необходимые заботы не давали покоя, не отпускали из города. Оглянулся назад – не увидел ни минуты покоя, посмотрел вперед – там то же самое. Махнул рукой на все и уехал в родные Бузовьязы. Всегда, когда на душе становится тяжко, меня все сильнее и сильнее тянет в родные края.
Как-то вечером я вышел из родительского дома на улицу. Шла страда, сельчане были заняты на уборке хлеба. Людей на улице почти не было. Вдруг вижу – на скамеечке у калитки одного из домов сидит бабушка. Дом этот известен мне с детства, да и бабуля хорошо знакома. Это подруга моей матери – почтальонша Фаузия Нурмухаметовна Бикметова.
Фаузия-апа после окончания Бузовьязовской средней школы в 1948 году начала работать почтальонкой. Потом ее отправили на учебу в Управление связи. С июня 1949 года работала в районной конторе связи оператором, а в 1970 году – заместителем начальника. Была очень старательной. Награждена многими Почетными грамотами. С мужем, Ахметгареем Давлетгареевичем Бикметовым, вырастили троих детей.
Еще до войны ее отец Нурмухамет по вербовке уехал вместе с семьей в Златоуст, где его определили работать на лесопильный завод. Перед самой Великой Отечественной случилась большая беда: во время распилки смолистой сосны неожиданно порвались стальные цепи пилы, и сучковатое дерево всей своей тяжестью навалилось на рабочего-пильщика. Трое детей остались сиротами, а молодая жена, Бисбикамал Нургалеевна, – вдовой. Вернулись они в родное село Бузовьязы сразу же после первомайских праздников. Вернуться-то вернулись, да их дом к тому времени был уже занят другими людьми…
Мать Фаузии по характеру была женщиной крутой и горячей. Жизнь обходилась с ней жестоко, да и остаться в таком возрасте вдовой с тремя малолетними детьми… Сгоряча она крикнула поселенцам: «А ну, выметайтесь из моего дома!». Новая хозяйка была сотрудницей райсобеса и сразу же с криком и плачем побежала к своему начальству. Пришли люди из правления колхоза, из сельсовета. Конфликт уладили, хоть и не без труда, и семья Бикметовых вновь поселилась в своем доме.
А уже в конце июня началась война. Немало горюшка хлебнул советский народ, в том числе и бузовьязовцы, мои земляки. Мужчины ушли на фронт, в селе остались женщины, старушки, подростки да дети…
…Я подошел к знакомой калитке, ласково поздоровался с подругой моей мамы, присел рядышком.
– Ой, Айрат-улым, – тихим голосом произнесла она, – приехал родные края навестить? От городской жизни немного передохнуть?
– Да, Фаузия-апа, – ответил я. – Когда на душе становится тяжко, меня зовут к себе Бузовьязы и отчий дом. Приеду сюда, успокоюсь немного – и опять за работу.
– Работа, конечно, красит человека, но и отдыхать тоже надо. Мы вот с твоей матерью немало на своем веку всяких дел перелопатили. Днем на казенной службе, а ранним утром да поздним вечером у себя хозяйство поднимали.
Она на какое-то время замолчала, загрустила о чем-то. Гляжу, на ресницах ее блеснули слезы.
– С твоей мамой, подружкой моей незабвенной, мы познакомились еще в нашем голодном детстве. Больно уж ситуация тогда выдалась тяжелой и неприятной. На окраине села у нас был колхозный ток. Зерно подсыхало там на солнышке, а потом его грузили в телеги и увозили сдавать государству. Однажды вдвоем с соседской девочкой Фанилей мы пошли туда, чтобы подмести площадку тока. Пришли к колхозным амбарам, а там уже с веником в руках орудовала какая-то маленькая девочка из Тукая. Помню, у нее была большая коса, свисающая до пояса. Это была твоя мама Магдания.
Мы подмели ток и всю пыль вместе с зернами ссыпали в холщовый мешок. Когда мы втроем шли домой, нас нагнал милиционер Зайни. Он подлетел к нам, выхватил тяжелый мешок из рук. Ругаясь и матерясь, сопроводил всю троицу в милицию. Тут же на нас составили протокол, будто бы мы украли с тока зерно. Нас заперли в какую-то кутузку. Три ночи и три дня мы просидели там. Порой нервы не выдерживали, и мы начинали громко рыдать. За дощатой переборкой в такой же кутузке сидели двое мужчин. Мы узнали их по голосу – это были наши сельчане Муслим-агай и Важан-агай. Через стенку они успокаивали нас – мол, вы еще маленькие, не плачьте, не бойтесь, вас они не могут посадить.
Действительно, на третьи сутки нас вывели из кутузки, завели в милицейский кабинет, чтобы подписать протокол допроса. Слышим, как уборщица говорит начальнику милиции: «Да отпусти ты детей, ведь в мешке одна пыль, третий день полы отмыть не могу». И нас отпустили… Так что суровость тех лет мы ощутили на своей шкуре, хоть и коснулась она нас лишь краешком. Вот так, Айрат-улым, мы и познакомились с твоей мамой. На всю жизнь подругами стали…
…Я слушал рассказ Фаузии-апы и думал о том, что трудами и заботами таких вот простых женщин, как она, как моя мама, держится и будет держаться мир…
Чуткие руки целительницы
Улица имени К. Маркса – небольшая, всего-то 15 дворов. Но тем она и славится, что живут здесь люди заметные, фамилии многих из них известны далеко за пределами села. К ним вполне резонно можно отнести местную знаменитость Разиму Хамматдиновну Канбекову.
Было ей всего три месяца от роду, когда умер отец. А случилось это так. Хамматдин-абый возил зерно на бричке. Однажды по дороге с поля сорвалось с оси колесо. Он отыскал валяющуюся слегу, поддел ее под угол повозки, уперся плечом, но удержать не сумел. Придавило его к земле – ни пошевелиться, ни крикнуть на помощь не мог. Потерял сознание. Возвращавшиеся с поля колхозники еле-еле вытащили Хамматдина из-под повозки и чуть живого привезли домой. Ночь простонал бедняга, а наутро умер. Брату Разимы Мидхату было тогда всего три года. Их мать Гафура осталась вдовой в 24 года.
В семь лет Разима пошла в первый класс, но учиться пришлось урывками – после окончания первого класса у ее матери не нашлось денег, чтобы оплатить учебу. В то время (до середины пятидесятых годов) за каждого школьника родители платили по 150 рублей. А колхозники получали за свой труд не деньги, а продукты. Судьба распорядилась так, что Разиме в восьмилетием возрасте пришлось пойти на колхозную работу – веять зерно на сортоучастке за 50 грамм муки в день.
Больше года проработала Разима на сортоучастке вместе со своим братом. Заработки были настолько малы, что в скором времени Мидхат уехал в Архангельский район на лесозаготовки. В леспромхозе труд был тяжелый, мужицкий. И паренек то с пилою в руках, то с топором, увязая по пояс в снегу, валил деревья, рубил сучья. Но чаще приходилось работать на вывозе древесины к берегам речки Инзер.
В те годы агрономом сортоучастка работала Раиса Николаевна Андреева. Как-то она увидела Разиму, маленькую девчушку, на току подле хлебных амбаров, подошла к ней, по-матерински погладила по головке и сказала: «Тебе, доченька, учиться надо, а не веялку с утра до ночи крутить». И первого сентября того же года Разима пошла во второй класс.
Раиса Андреева пришла работать на сортоучасток в 1937 году. В 24 года у нее уже был диплом агронома, а впоследствии она стала директором сортоучастка. До сих пор Разима вспоминает ее добрым словом, ведь она не только благословила ее на учебу, но и выписала ей как премию целый килограмм муки.
Зимой Разима училась в школе, а все лето работала то в колхозе, то на сортоучастке. Во время войны и в послевоенные трудные годы такие люди, как ее мама Гафура и брат Мидхат, совсем еще мальчишка, были основной силой в колхозе. На их хрупких плечах лежала вся тяжесть крестьянского труда…
А однажды случилось так, что Разима почувствовала в себе некий божий дар, и не по годам сильные руки ее стали творить чудеса. Осознание собственной особенности пришло к ней, когда осенью после окончания седьмого класса ее с подругой Гадилей отправили сопровождать два грузовика с зерном на Чишминский элеватор. Разима хорошо помнит, что в то время председателем колхоза был Сайт Нурмухаметов, заместителем – Халил Абдеев, парторгом – Диваев. Как раз он сопровождал машины с зерном и вез документацию.
Трагедией могла бы обернуться для Разимы и Гадили поездка на Чишминский элеватор. Дело в том, что в лаборатории элеватора колхозное зерно забраковали из-за излишней сорности. Парторг Диваев бегал по начальникам, но, ничего не добившись, в приказном порядке велел ссыпать зерно и вместе с порожними грузовиками уехал назад. Подружки оставались караулыцицами возле груды зерна. Парторг пообещал утрясти дело и завтра же вернуться.
Холодную ночь провели девчата на элеваторе. У Гадили разболелась нога: то ли она оступилась, то ли ударилась о борт кузова автомашины. На следующий день парторг не приехал. Вторую ночь просидели девчонки на куче зерна. Черствый хлеб, который им выдали на дорогу в качестве командировочных, они уже доели. Не вернулся парторг ни на третий, ни на четвертый день. Голод одолевал девушек. Они жевали недовеянную пшеницу, запивая горькую еду колодезной водой. Нога у Гадили разболелась так, что не было сил даже ходить. Да и сами девчата начали отекать от голода.
«Ой, нога болит! Ой, ноженьку ломит!» – стонала Гадиля. Слезы ручьем катились по ее щекам. Разима стянула с ноги подружки шерстяной чулок и обомлела. Нога – как колотушка, опухла до неимоверных размеров, кожа натянулась так, что, казалось, вот-вот лопнет. Разима протянула обе руки, слегка дотронулась до больной ноги – и тут вспомнила, как они, будучи еще малолетками, ходили в украинскую деревню Александровка. Жил там слепой старик по имени Федор. У него был большой огород, и девчонки летом нанимались к нему на поденную работу.
Однажды какой-то мальчишка вывихнул в огороде ногу. Дядя Федор, не очень-то испугавшись, успокоил паренька: «Ничего, сынок, это же простой вывих. Дело поправимое». Он положил его прямо на землю, взял в обе руки поврежденную ступню и сильно дернул ее на себя. Мальчишка дико заорал, а дед улыбнулся и буркнул в седую бороду: «Ляг на бок, полежи часок-другой спокойно…». И правда, часа через два паренек разогнул спину, приподнялся и встал на ноги.
Вспомнив все это, Разима сказала подружке: «Потерпи немного, я попробую что-нибудь сделать». И повторила ту манипуляцию, свидетелем которой стала в огороде дедушки Федора. Пальцы ее и ладони, словно рентгеновский луч, нашли то место на ноге, где был вывих. Гадиля причитала, стонала и плакала. Только к вечеру боль немного унялась, но подняться она все еще не могла.
Голодные, холодные, измученные, на восьмой день пребывания на элеваторе они сидели, обнявшись, и наблюдали, как мимо элеватора, пыхтя и отфыркиваясь, проходили порожние железнодорожные составы. Вечерний воздух был напоен приятным запахом убранного зерна; было по-осеннему свежо и прохладно.
«Умирать неохота», – плакала Гадиля. «Что ты мелешь, глупая! – отвечала ей Разима. – Мы самые трудные годы прожили, всего нахлебались. Теперь нам учиться надо и жить по-человечески. Вся страна на ноги поднимается, а ты тут о своей ноге ноешь! Плясать еще будем на твоей свадьбе!»
На девятый день их беспросветной голодовки увидели подружки, как мчит по дороге старенькая полуторка. Машина остановилась около них, и из кабины выпрыгнул заместитель председателя колхоза Халил Абдеев. Девочки, совсем обессилевшие, не могли даже приподняться с зерна. Он встал на колени, обнял их за плечи и заплакал вместе с ними. «Родненькие мои, – шептал он пересохшими губами сквозь слезы. – Такого издевательства мы не простим, кое-кто ответит за это!» Халил-абый помог Гадиле привстать, и она, сильно прихрамывая, но все-таки своим ходом дошагала до грузовика…
Дома Разиму поджидала другая беда. На печке лежал и громко стонал брат. Мать объяснила, что его вчера с болью в пояснице привезли с лесоповала товарищи. Разима и сама вся продрогла в дороге. Залезла она к брату на теплую печку, потрогала его поясницу – и опять рука четко ощутила то место, откуда истекала боль. Не знала она тогда про радикулит, но слышала от кого- то, что при болях в пояснице надо растирать спину докрасна. Вот так случайно начала Разима Хамматдиновна свою практику целителя. О ее феноменальных способностях узнали сначала соседи, а потом и все село…
Зимой того же года деревенская детвора после школьных занятий пошла в Адзитарский лес – запастись дровами. Деревья рубить категорически запрещалось, а вот подгнившие ветви рубить было можно. И ребятня на санках тащила к своим дворам заготовленные дровишки – немудрящее топливо для остуженных печей. Одежонка на детях была такая, что если сейчас увидишь – в обморок упадешь: в лаптях, ноги обмотаны портянками, кое-кто в старых, довоенного пошива овчинных полушубках или в фуфайках тюремного образца.
Ходил за дровами вместе со всеми и Фаниль Асянов, ставший позднее известным на всю республику писателем. Однажды он упал с дерева и вывихнул руку. Тут же рядом орудовала топором некая Шафига. Увидела она Фаниля – и обомлела. Он стоял на корточках в снегу и глухо стонал. Шафига тут же сообразила, в чем дело, и кликнула на помощь Разиму. Та стянула с него старенький полушубок, поколдовала над рукой – и чудо опять свершилось. Будущий писатель сумел даже привезти домой немного дровишек…
С горем пополам сумела все-таки Разима окончить десятилетку. В 19 лет вышла замуж за Анвара Бакирова – такого же колхозника, как и сама. До середины 70-х годов работала в полеводстве. Стала знатным свекловодом. За высокие показатели была награждена медалью «За доблестный труд».
Не забывала она и лечить людей методами нетрадиционной медицины: радикулит, вывихи, остеохондроз – вот те заболевания, какие легко поддавались ее умелым рукам. Порою решалась лечить и другие болезни. Молодых женщин, например, лечила от бесплодия.
О способностях сельской врачевательницы узнали в районной больнице и в 1975 году пригласили туда работать. Медицинского образования у Разимы не было, и потому ее оформили уборщицей. Так Разима Хамматдиновна стала летом трудиться на свекольной плантации, а после снятия урожая – в больнице. Она не только мыла да подметала полы, но и лечила больных.
Чудодейственные руки ее помогли многим людям. Помнит она, как лечила совсем молоденьких девчонок, которые в горячую уборочную страду вязали снопы и укладывали их в копны. Работа эта была ужасно тяжелой. Девчонки от усталости падали на жнивье, от работы у всех болели руки и поясницы. И Разима своими чуткими руками унимала их боли.
Уборка хлеба – основной момент полевых работ. Затягивать страду до глубокой осени нельзя: пойдут дожди, и весь урожай может погибнуть. Вот и трудятся колхозники во время уборки с раннего утра и до поздней ночи. В один из таких дней по деревне прошел слух: в Бузовьязы с концертом должна приехать знаменитая певица Фарида Кудашева. Бригадиры Янгарей Миргалеевич Бикметов и Валий (Герман) Мустаев, оба фронтовики, заявили девчатам, что на концерт пойдут те звенья, которые победят и перевыполнят норму по вязке снопов. Вот тут-то и разгорелась борьба за право посетить концерт башкирской певицы.



