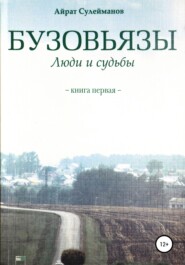 Полная версия
Полная версияБузовьязы. Люди и судьбы. Книга первая
Военно-патриотическое воспитание учащихся находится в центре внимания первичной парторганизации и дирекции школы. На партсобраниях и заседаниях педсоветов заслушиваются отчеты военного руководителя о состоянии начальной военной подготовки.
Но в нашей работе имеется и ряд существенных недостатков. У нас очень слаба материально-техническая база начальной военной подготовки, особенно по разделам гражданской обороны и военно-технической подготовки. Школа все еще не обеспечена современным учебным стрелковым оружием. Районная фильмотека и школы не располагают в достаточном количестве кинофильмами по начальной военной подготовке, предусмотренными в программе. Не организованы тиры в населенных пунктах.
Мы принимаем меры для улучшения военно-патриотического воспитания школьников.
Р. СУЛЕЙМАНОВ.
Их колыбель – земля кармаскалинская
Отец и сын. Их судьбы – и разные, и схожие. Но они дополняют друг друга. Нынче Султану Ахметхазиевичу Мустаеву исполнилось бы 90 лет. Но, увы, вот уже четверть века нет его среди нас.
Детские годы его прошли в тяжелых условиях, связанных с гражданской войной, коллективизацией, с нищетой, повальными болезнями, с годами, когда от тифа, чумы, холеры вымирали селения. Уже в 13 лет он встал за плуг, от зари до зари пахал землю. Часто со старшим братом Махмутом колесил между Бузовьязами и Уфой, зарабатывая на хлеб насущный, не раз подвергаясь нападениям разбойников.
Так он рос, мужал, приобретал житейский опыт. В 1936-38 годах работал рядовым колхозником, учетчиком, бригадиром. В те годы, несмотря на тяжелую жизнь, молодежь отличалась активностью в общественной жизни села – устраивала спектакли, показывала концерты.
В спектакле «Галиябану» моему отцу было суждено создать образ главного героя Халиля. В те же годы он познакомился с моей будущей матерью Ханией Саитгалеевной. Вскоре они поженились.
Жить бы да радоваться – ан нет! Волна преследований коснулась и его – как сына кулака. И он вынужден был уехать в Узбекистан. Мне тогда было шесть месяцев. В 1942 году из Узбекистана он попал в пекло войны. Участник Курско-Орловской битвы, освобождал Варшаву, форсировал Вислу и Одер, проявлял отвагу в сражениях за взятие Берлина. Несколько раз был тяжело ранен, контужен. Заслужил многие государственные награды.
В 1946 году он вернулся к семье в Узбекистан. Здесь от рядового тестомеса вырос до генерального директора торгового комплекса. Здесь нашел призвание. Его труд неоднократно поощрялся. Но тоска по малой родине взяла вверх, и в 1956 году мы вернулись в с. Бузовьязы.
В 1957 году его пригласили на работу лесником. И с того момента у него открылось второе дыхание. Он настолько полюбил эту профессию, увлекся ею так, что другой профессии для себя не представлял. Поэтому всю энергию, силы посвятил охране леса, приумножению природных богатств. Он гордился, что пришлось работать с такими знаменитыми личностями, как А. Мальцев, Г. Хайруллин, Ш. Макаев, – не только в округе, но и далеко за ее пределами. Это по его инициативе сотни гектаров были засажены молодняком хвойных пород в Каратале, на старом кладбище в Бузовьязах, вдоль тракта Бузовьязы – Ишлы. Саженцы с особой любовью и нежностью выращивались в питомнике, который считался одним из лучших в Аургазинском лесхозе.
Сколько деревьев посадил -
Нескончаемо, не счесть!
Сколько приложил он сил,
Огромная гордость в этом есть!
Помнится, как отец ранней весной тоннами собирал березовый сок, перевыполняя доверенное задание.
Он особенно трепетно относился к озеру Адзитар-куль. Оно служило зоной отдыха не только для бузовьязовцев, но и для приезжающих гостей. Там устраивались сабантуи, культурно-массовые мероприятия, спортивные соревнования. Сколько поколений выросло, любуясь красотой этого уголка!
По инициативе отца дно озера было углублено, территория обсажена деревьями, определены специальные места для купания. Очень жалко, что сейчас неописуемая красота поблекла, озеро оказалось в запустении.
Понятно, не все шло гладко. Не мог отец пройти мимо тех, кто незаконно вырубал лес, кто пас стадо в лесу, кто после «отдыха» оставлял гору мусора, кто допускал хищнический отстрел зайцев.
Он жил в ладу с природой, с ее несметными богатствами. Четверть века своей жизни посвятил охране «легких» природы, красе земли. Находясь в объятиях сокровища, отец получал истинное удовольствие, наслаждался им. Вольно-невольно, он запевал. А его репертуар был очень богат. И частенько многие, кто занимался сенокосом, кто собирал грибы, кто заготавливал дрова, кто просто отдыхал на лоне природы, услышав его песни, бросали свои дела и окружали его кольцом, вызывали, как говорится, на бис.
Деревья умирают стоя. И мой отец, Султан Ахметхазиевич, скончался на посту.
Ушел от нас ты навсегда,
Встреч не будет никогда.
Сохраняя память о тебе,
Поставили памятник тебе.
…Выезжаю в леса, где работал мой отец, и радуюсь: вон как взмыли ввысь деревья! Смотрю на них, и перед взором встает образ отца – довольный, с доброй улыбкой, веселый…
Марс МУСТАЕВ.
Жизненный путь
Он рано остался без родителей. Чтобы зарабатывать себе на хлеб, неокрепший юноша гнул спину на баев. Заметные изменения произошли в его жизни после Великой Октябрьской революции. Петр служил в Красной Армии, окончил курсы красных командиров. С наступлением мирных дней поступил работать на завод «Севкабель», что в Ленинграде. Трудолюбия ему было не занимать. Вскоре он стал одним из лучших вальцовщиков. Затем его избрали секретарем завкома.
Более восьми лет Петр Прокопьевич трудился в снабсбыте – заместителем начальника инструментального отдела, старшим инспектором государственного контроля. Одновременно повышал свою квалификацию – окончил курсы выдвиженцев по снабжению промышленности.
Именно в эти годы он приобщился к рабкоровскому занятию. Его корреспондентские заметки появлялись в различных газетах.
П. БОЛОТИН.
Как опытный лоцман
Автору этих строк посчастливилось ступить на журналистскую стезю во времена, когда районом руководил Николай Яковлевич Батанов. Нет, я не был посторонним созерцателем. Он регулярно брал меня в командировки, неоднократно давал поручения, я впитывал его добрые наставления. Наблюдал, как он общается с простыми людьми. И в моей памяти он остался как лоцман, уверенно стоящий за рулевым колесом корабля, бороздящего безграничные волны бушующего океана.
***
Поздно вечером завершилось отчетно-выборное собрание в колхозе «Октябрь». Собравшиеся внимательно слушали выступление Николая Яковлевича Батанова. Потому что он убедительно показал, какие резервы пока что находятся под спудом. Потому что он говорил не абстрактно, а приводил конкретные факты и примеры, аргументированные подсчеты. Говорил не огульно, ибо до собрания он успел побывать на фермах, в бригадах, в ремонтных мастерских, побеседовать с людьми, узнать их мнения.
Сразу же после собрания Николай Яковлевич собрался к отъезду, хотя правленцы настойчиво приглашали его на ужин.
«Газ-69», за рулем которого сидел участник воины, водитель с солидным стажем Мансур-ага, легко несся по тракту, без особых усилий преодолевая заносы.
Буран усиливался. За беседой мы не заметили, как оказались на Булгаковском перекрестке. А там – вереница машин.
Николай Яковлевич вышел из машины, подошел к водителю последнего «ЗИСа» и поинтересовался:
– В чем дело?
– Разве не видите, как замело тракт! – сердито буркнул тот. – Никому дела нет до людей. Могли же заранее вывести технику на очистку дороги. Безобразие!
– Вы потерпите, – успокоил разгневанного водителя Николай Яковлевич. – Заверяю, в беде вас не оставят.
И он степенно зашагал к своему «газику». Открыв дверцу, приказал:
– Мансур, поехали обратно в Бекетово.
Когда мы подъехали к конторе колхоза, она оказалась запертой. Правленцы, конечно же, «чаевничали» в доме после такого мероприятия. Пьяная охранница, долго упиравшаяся, все-таки открыла дверь. Первый сразу же взялся за телефонную трубку. Телефонистка быстро набрала телефон заместителя председателя исполкома райсовета Андреева.
– Николай Кондратьевич, почему вы не контролируете обстановку на тракте? Десятки машин застряли, десятки людей оказались отрезанными от мира. Немедленно выводите всю дорожную технику, позаботьтесь, чтобы устроить людей в гостиницу, накормить, напоить горячим чаем.
Пока первый вел телефонный разговор, прибежали председатель колхоза Трофим Беляев и секретарь парткома Файзрахман Якупов. Они-то, наконец, уговорили Николая Яковлевича поужинать.
Стол ломился от изобилия яств. Бесспорно, во сто крат скромнее и беднее был он, чем сейчас умудряются хозяева накрывать столы. Но все равно было чем утолить голодный желудок.
Николай Яковлевич, подняв бокал шампанского, предложил тост за трудолюбивых, безупречных тружеников колхоза, за их благополучие, процветание. И осушил бокал полностью. Видимо, почувствовав нашу неловкость, он сказал:
– Да вы не стесняйтесь, на меня не смотрите. Не грех после такой большой работы снять стресс.
И мы дружно опрокинули стаканы с водкой.
Застолье продолжалось недолго. И мы, поблагодарив хозяев, выехали в путь. Что удивительно – на дороге не застали ни одного застрявшего транспортного средства, хотя метель бушевала вовсю…
Через день-другой в райком партии на имя первого секретаря поступило письмо от тех, кто невольно оказался в снежном плену. Его авторы выразили слова искренней благодарности службам района за то, что их не оставили один на один со стихией.
***
Особенно запомнились два заседания бюро райкома партии, ибо на них предметом обсуждения стали статьи, подготовленные мною.
Большой резонанс вызвала критическая статья под заголовком «Почему обидели рабкора?», написанная в защиту рабкора из Прибельского поселка, режиссера театра Я. Кулыпарипова.
А суть заключалась в следующем. Руководства сахарного завода, молочно-консервного комбината отказались платить за коммунальные услуги, оказанные Кулыпарипову. И районный суд оказался на их стороне, отказав в удовлетворении иска на том основании, что, мол, Кулыпарипов не имеет соответствующего образования. А у нас были совсем другие доводы: руководители предприятий, дескать, мстят за то, что рабкор постоянно остро бичует недостатки на страницах районки, невзирая на личности. У меня был еще и другой «козырь»: нашел соответствующий пункт в нормативном документе, где черным по белому написано, что учеба в Московском университете культуры дает право на льготы по коммунальным услугам. Более того, прежде чем подготовить материал, от имени редакции я обратился к Генеральному прокурору СССР. На заседании бюро райкома партии присутствовали все стороны, были выслушаны их мнения.
Как всегда, итоги подвел Николай Яковлевич. Он высказался примерно так:
– Это явное ущемление со стороны руководителей двух крупнейших предприятий законных прав товарища Кулыпарипова. Хотели, видите ли, сэкономить деньги! Это же настоящая вакханалия. Не пойму, как же народный суд мог идти на поводу у нарушителей закона? Неужели советский суд не должен стоять на страже интересов человека? Хорошо, что Генеральная прокуратура поставила точку над «i». Решение суда отменено. Законные права человека восстановлены.
Жаль, что и автор допустил оплошность. Суждение, что рабкора обидели за критику, явно несправедливое и ничем не подкрепленное. Поэтому я бы посоветовал товарищу Резяпову быть впредь в таких ситуациях более разборчивым. Тем более это непростительно редактору, товарищу Алдакаеву, давшему статье зеленый свет.
Такая объективная оценка была дана нам – и руководителям предприятий, и журналистам – первым секретарем райкома партии.
Не менее остро шло обсуждение членами бюро райкома партии фельетона, подготовленного мною. Там писалось о злоупотреблениях бывшего секретаря парткома колхоза «Победа» А. Ш. Он, пользуясь своим служебным положением, за мизерную сумму купил легковую машину в колхозе, допустил и другого рода злоупотребления. Критика в газете ему не понравилась, и он застрочил жалобу на автора. Да и на заседании бюро пытался опровергнуть все эти факты.
Я, в свою очередь, убеждал членов бюро в том, что злоупотребления секретаря парткома рассмотрены комитетом партийно-государственного контроля, что имеются соответствующие акты проверок.
Обсуждение шло довольно-таки долго, оценивался каждый факт. В памяти запечатлелись слова Николая Яковлевича.
– Возможно, – начал он, – автор допустил хлесткие выражения. Но, как бы там ни было, вы, как секретарь парткома залезли в государственный карман, тем самым пренебрегли партийной моралью, этикой коммуниста, совестью советского человека. Так что вам необходимо либо вернуть все присвоенное незаконным путем, либо приобрести машину за полную ее стоимость, при этом все надо делать на законных основаниях.
– А тебе, молодой журналист, – обращаясь уже ко мне, продолжил Николай Яковлевич, – при подготовке материалов, при выборе выражений следует быть особенно осторожным. Ведь важно, чтобы слово не оскорбляло честь человека, не ущемляло его достоинство при всех его недостатках, упущениях. Не зря же народная мудрость гласит: газетное слово не вырубишь топором.
Эти два факта наглядно подтверждают: Николай Яковлевич Батанов умел подойти к вопросу всесторонне, непредвзято, объективно, тем самым ему удавалось найти верные решения при любой запутанной ситуации.
***
Заведовал я тогда отделом писем редакции. Вызвали к первому. Сердце колотилось бешено: что там натворил, за какой материал?
– Разрешите, Николай Яковлевич? Здравствуйте. Вызывали? – полушепотом спросил я.
– Да, сынок, проходи, – последовал ответ. – Садись.
Николай Яковлевич поинтересовался моей работой, делами, планами. Азатем, помолчав, произнес:
– Сынок, мы тут посоветовались и решили рекомендовать тебя на должность первого секретаря райкома комсомола. Знаем, как ты работал секретарем комсомольской организации колхоза им. Жданова. Знаем, что ты являешься членом бюро райкома комсомола. Нам нужен талантливый вожак молодежи.
Я опешил и, не задумываясь, промямлил:
– Спасибо, Николай Яковлевич, за высокое доверие. Я все – таки прикипел к журналистике, журналистика – моя стихия.
– А кто тебе запрещает писать? Сейчас у тебя больше простора, больше возможностей создастся. Подумай, а завтра к 8 часам зайдешь.
Покинул кабинет. Под ногами не чую землю. В голове – рой мыслей. И ночью толком не спал. Утром, не дождавшись назначенного времени, я уже стоял в приемной.
И снова изложил выученные фразы, дескать, все-таки хочу работать в редакции, что работа дает мне истинное удовольствие.
– Не спеши, сынок, с ответом. Вон твой брат, Фаниль, тоже работал в редакции. Затем избрали первым секретарем райкома комсомола. Высшую партийную школу окончил. Сейчас стал известным писателем в республике. Почему же не последовать его примеру? Поэтому с конкретным ответом жду тебя завтра.
Я снова покинул кабинет. Опять прошла бессонная ночь. И снова стою на пороге кабинета первого.
– Я очень благодарен Вам, Николай Яковлевич, за доверие. Очень прошу Вас, Николай Яковлевич, оставить на прежней работе.
Эти слова вывели, видимо, спокойного Николая Яковлевича из равновесия. В растерянности я уловил лишь первую его фразу:
– Во-он из кабинета!
Ей богу, тяжелый осадок остался. Думаю, все – тебе, Мидхат, крышка.
Прошла неделя. Опять вызывает первый.
– Давай, сынок, готовься, выезжаем в командировку в Архангельский район, – последовало указание.
На душе стало легче. И через несколько минут спидометр отсчитывал километр за километром. Николай Яковлевич вел со мной душевный разговор…
По прошествии многих лет удивляюсь своей дерзости – юношеской дерзости.
* * *
Тогда здравоохранение в райцентре и в районе переживало не лучшие времена: здания были допотопные, материальная база оказалась никудышной. Поэтому по инициативе первого и при поддержке республиканских органов в Кармаскалах началось строительство корпусов больницы.
И Николай Яковлевич решил обратиться за помощью к населению райцентра. С этой целью ранним утром он явился на студию местного радиовещания.
– Как вы знаете, дорогие кармаскалинцы, – начал он свое выступление, – мы приступили к строительству дома здоровья. Вряд ли стоит убеждать вас, как он нам нужен. Отрадно, что финансы выделены, материалы завозятся. Но явно не хватает рабочих рук. Поэтому я обращаюсь к руководителям всех рангов, коммунистам, ветеранам, комсомольцам, молодежи, рабочим, служащим, всем тем, кто неравнодушен к своему здоровью, к здоровью своих детей, матерей, родных, близких, соседей, принять живейшее участие в массовых субботниках.
Забегая вперед, скажу, что это обращение нашло горячую поддержку у населения. Люди, проникнувшись чувством высокой ответственности за судьбу медицины в районе, трудились на строительных площадках с особым энтузиазмом, тем самым способствуя досрочной сдаче в эксплуатацию жизненно важного объекта.
Отмечу, Николай Яковлевич постоянно использовал радиовещание как один из важных инструментов при решении проблем в той или иной сфере.
Да и районная газета была его постоянной трибуной для общения с населением. Кстати, каждую статью писал он сам, писал с глубоким знанием дела, конкретно, деловито. Каждое слово продумывалось им тщательнейшим образом. И не только слово. Взвешенно, продуманно подходил он к каждому знаку препинания.
Вспоминаю такой курьезный случай. Николай Яковлевич подготовил статью. Я ее прочел, никакую правку не внес, правда, одну запятую выбросил. Номер отпечатали. Утром звонит Николай Яковлевич.
– Сынок, спасибо, что статью опубликовали. Но есть у меня и претензия: почему ты выкинул в том выражении запятую?
Я пытался оправдаться, сославшись на нормы грамматики.
– А я выделил это выражение запятыми специально, чтобы читатель осознал важность и актуальность ситуации.
На этом разговор завершился. Сейчас я, имея за плечами солидный стаж работы, понимаю, насколько был прав Николай Яковлевич. Теперь сам следую его примеру – ставлю тот или иной знак препинания по своему внутреннему убеждению. Так что и запятая порой становится всесильной.
Мидхат РЕЗЯПОВ.
Конкретно, убедительно
Уборка урожая – большой экзамен и для нас, культпросвет-работников. Хотя в ней приходится участвовать не первый год, тем не менее, испытываешь серьезное волнение оттого, что тебе доверяется душевно настроить людей на ударный труд. И мы стараемся оправдывать это доверие партийной организации.
Мы, библиотекарь Савия Жданова и я, закреплены агитаторами на току второй комплексной бригады колхоза им. Жданова.
В первую очередь, позаботились о наглядном оформлении тока. Под беседку отвели небольшое помещение. Там есть столик со свежими газетами и журналами. В короткие минуты отдыха здесь можно просто посидеть, послушать беседу, поговорить с товарищами, узнать итоги соревнования. Заведующий складом Наиль Бикметов, заведующий током коммунист Газим Акбашев, электрик Миннивали Канбеков, моторист ЗЛВ-20 Фаузят Ишмаков помогли нам привести это помещение в надлежащий вид.
Говоря о наглядном оформлении, следует подчеркнуть, что мы вывесили следующие лозунги: «Претворим решения XXV съезда КПСС в жизнь!», «Планы партии – планы народа», «Ознаменуем первый год десятой пятилетки – пятилетки повышения эффективности производства и качества работы – новыми трудовыми успехами!».
Под аншлагом «Больше зерна – богаче Родина» постарались наглядно показать, во что могут обойтись потери зерна на уборке урожая и хлебозаготовках. Под подзаголовком «Хлебороб, помни, путь складывается из граммов» мы провели ряд подсчетов. Если на каждом метре 100-километровой дороги потерять хотя бы пять зерен, то недосчитаешься 50 кг зерна. Если на каждом квадратном метре оставишь 5 колосьев, то на каждом гектаре потеряешь 50 кг зерна. Оставишь в каждом колоске одно не-обмолоченное зерно – на каждом гектаре потеряешь 150 кг зерна. В целом по бригаде, потеря зерна каждого колоска означает недобор более 14280 пудов хлеба.
Такая конкретность, по нашему убеждению, оказывает большее воздействие на людей, заставляет их размышлять, использовать резервы увеличения производства зерна.
Оформили библиотечный плакат «В помощь комбайнеру». Он дает краткие сведения о книгах «Пособие комбайнера», «Справочник по комбайнам “Нива” и “Колос”» и т. д. Над аннотациями следует такое выражение: «Комбайнер должен не только хорошо знать устройство комбайнов, жаток и приспособлений, но и правильно регулировать и использовать их в зависимости от убираемой культуры, ее зрелости, влажности, соломистости, от погодных условий и других факторов».
Здесь же хлеборобы смогут познакомиться с нормами выработки, с расценками, с рабочим планом членов второй комплексной бригады на период уборки урожая и хлебозаготовок, с обязательствами трудящихся республики на 1976 год. Через «молнии» и «боевые листки» мы стремимся как можно шире пропагандировать героев страды, тем самым поднимая дух состязательности. Так, один из номеров «молнии» посвятили кавалеру ордена Октябрьской Революции Фариту Мустаеву, показывающему истинное мастерство, добивающемуся высокопроизводительного использования техники. В очередном номере «боевого листка» повели разговор о неотложных задачах тружеников бригады – об усилении темпа заготовок кормов, мобилизации с/х средств на своевременное и высококачественное проведение уборочных работ.
Освещая положительный опыт, мы не проходим мимо недостатков, которые мешают успешно организовать летние полевые работы. Бичуем бракоделов, тех, кто работает с ленцой.
Серьезное значение придается организации бесед. Сейчас мы знакомим тружеников бригады с письмом Генерального секретаря ЦК КПСС товарища Л. И. Брежнева, адресованным трудящимся Краснодарского края, с ответами Л. И. Брежнева на вопросы корреспондента газеты «Правда», продолжаем разъяснение решений XXV съезда КПСС. Политинформатор-международник Урал Зайнетдинов готовится к проведению очередной политинформации перед участниками страды.
Приятно, что мы своим словом способствуем развертыванию социалистического соревнования среди земледельцев. Они уложили в валки горох, косят овес, вырывают погожие часы для подборки валков.
Впредь мы намерены еще конкретнее, целенаправленнее вести агитационно-массовую работу среди хлеборобов.
Ф. ИШМАКОВА.
Мать
Собрала мать возле себя всех четверых детей и зарыдала.
– Мам, мам, не отчаивайся. А если по ошибке похоронка-то? Отец, может, живой? Мне кажется, вот-вот он откроет дверь, – погладил по волосам матери своими ручонками самый старший, 15-летний Риф.
– Нет-нет, никогда не откроет ваш папа дверь, – всхлипывая, говорила мать. – Вся моя надежда – вы, мои детки.
– Не печалься, мама, мы тебя одну не оставим…
Дети видели, как таяла их мать: на нее было тяжело смотреть – лицо исхудало, осунулось, глаза запали. И соседки не могли оставаться безучастными к ее судьбе, поэтому всячески старались помочь ей.
– Горю слезами не поможешь. Ты одна, что ли, овдовела? У нас те же похоронки, как у тебя. Пора тебе, Хадича, взять себя в руки!
…Работала Хадича-апа, не щадя себя. После работы возвращалась в избенку, где ее охватывала неизбывная печаль – жгучее, как, рана, чувство утраты… Болью отзывалось ее сердце, когда порой нечем было кормить детей, сутками не бравших в рот ни крошки хлеба. Питались лебедой, крапивой, гнилой картошкой. Чему удивляться? Так жила каждая семья. И никто не роптал, ибо каждый знал, что все эти лишения – временные, ради победы над врагом.
Не считалась с лишениями Хадича-апа и тогда, когда ее направили на ферму. Там ухаживала за телятами. А ее сын Венер пас свиней. Вообще, вся семья жила прямо на ферме. Каждый помогал матери. Риф целыми сутками пропадал в поле – на лошадях пахал землю, вместе со взрослыми возил снопы. Когда подрос – выучился на шофера. Комплексной бригадой руководил, автомехаником работал. Да недолго. В один из дней его вызвали в правление колхоза и предложили:
– Риф Миннигалимович, принимай строительную бригаду.
– Вы что, шутите? – удивился он. – Какой из меня строитель!
– Тебе как коммунисту доверяем важный участок работы. Где трудно будет, поможем, когда потребуется – подскажем.
Словом, уговорили. Верно, орешек достался крепкий, но не пасовать же перед трудностями, не уходить же от проблем. А их оказалось гораздо больше, чем предполагал Риф. Нет соответствующей материальной базы. Строители сосредоточены в разных бригадах. Не хватало настоящей трудовой дисциплины среди них.



