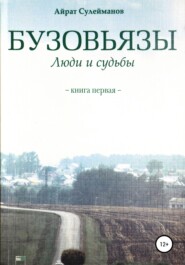 Полная версия
Полная версияБузовьязы. Люди и судьбы. Книга первая
«Олененок». Рассказы. (Уфа, Башкнигоиздат, 1979);
«Вечный огонь». Стихи. (Уфа, 1985, 32 с.);
«Тайна». Рассказы. (Уфа, 1992);
«Серебристый лес». Стихи. (Уфа, 1993);
«Мелодия скрипки». Рассказы. (Уфа, Китап, 1996);
«Хлеб и золото» (Уфа, Китап, 1997);
«У песни нет начала и конца» (Уфа, Китап, 1998);
«Божественный распорядок» (Уфа, Китап, 2003);
«Паутина» (Уфа, Китап, 2004).
Свил гнездо в ее ладонях соловей
Предстоящий приезд в Уфу сына татарского поэта-классика Хади Такташа в связи с юбилейным вечером отца, возможность встречи с живой кровинкой поэта, в котором вулканическая мятежность и набатность загадочно сплавлены с проникновенным лиризмом, – волновали. И шел я в филармонию окрыленным, не забыв, однако, прихватить сборник стихов поэта в русском переводе.
Выступление сына поэта, Рафаила Такташа, профессора- искусствоведа – интеллигентного, многогранно-эрудированного, почтительно-трепетного к каждому штриху биографии отца, – просто не могло оставить равнодушным. В памяти же пульсировали строки посвящения, сделанного отцом сыну. Я решил взять автограф рядом с этими строчками. И вот тогда, после завершения вечера, я и встретил поэтессу Дилю Булгакову, чье поэтическое дарование заочно знал по лирическим стихам, счастливо окрылившимся в популярные песни. Чего стоила песня на ее стих «Кыр казлары» («Дикие гуси»), мелодию которой написал талантливый композитор Нур Даутов! Со светом доброты в голубых глазах, Диля Булгакова привлекла своей чуткостью. Она уловила, что я не зря держу в руках сборник Такташа, но несколько робею подойти к сыну поэта. Спросила:
– Автограф хотите взять?
– Так точно! – неожиданно для себя выдал я армейскую фразу.
Она понятливо улыбнулась. Поинтересовалась, какие из стихов мне особо дороги. Я назвал «Мукамай», любимое стихотворение своей бабушки Минсылу, и то, что было созвучно мне, – «Вулканы». Доверительный разговор сложился легко, и когда Булгакова узнала, что у меня четырехлетний сын, то с материнской участливостью и ласковой предусмотрительностью по отношению к моему малышу неожиданно для меня посоветовала:
– А вы попросите автограф для вашего Артурчика.
– Так он же еще не читает!
– Зато вырастет и оценит вашу заботливость. Пусть будет «автограф навырост».
–А что, интересно! – обрадовался я. – Знаете, а в имени «Артур» сокрыто английское слово «art» – «искусство»…
– Никогда не задумывалась об этом, – весело отозвалась поэтесса.
И когда мы вместе с ней подошли к сыну Хади Такташа, тот своим «кардиограммным» почерком написал: «Маленькому Артуру с пожеланием вырасти в Большого АРТура!»
Так лучик заботы Дили Булгаковой остался в сердце. Тогда же я узнал от нее, что она родилась и выросла в Бузовьязах. Окончила Уфимское медучилище, медик. Имеет поэтический сборник на башкирском, но многие стихи крылатыми птицами разлетелись по песням. Узнал, что она работает в специфичной среде системы МВД, и сам мир ее общения взывает к психологической прозе. Сюжеты сочиняет жизнь… «Детективщина» не влечет, влечет мир человеческой души: боли, утраты, раздумья о Вечном, отысканные сердцем маяки… Такое осмысление будней ее многохлопотной работы меня не могло не привлечь, вызвало закономерный журналистский интерес…
…Когда мне предложили работать на стремительно обретшем популярность радио «Шарк», я, захваченный новой работой, зная популярность творчества Дили Хамзиевны Булгаковой, предложил пригласить на радио ее. Кто-то недоверчиво сослался на ее образование, но я тотчас начал цитировать ее стихи, сотворив своеобразный попурри-букет… И сомнения отступили. Ее творческий накал стал счастливым приобретением для первого альтернативного радио, к ней охотно и радостно потянулись люди искусства. Я же тогда, будучи режиссером, наработал по ее рассказу двухчастевый моноспектакль «Гэрэба» («Янтарь»), выбрав в качестве главной героини студентку Фину Валееву (исполнительница блистательно справилась с ролью). И радио дало широкое дыхание прозе Дили Булгаковой, расширив палитру ее творчества. Быстро сложился ее сборник психологических рассказов «Сер» («Тайна»). Замечательные актеры охотно потянулись к исполнению ее рассказов. А радио обрело новую привлекательную черту. Я же в Диле Хамзиевне неизменно улавливал свет материнской заботливости, сделал запись диалога с ее отцом-фронтовиком Хамзы, бравым тальянистом и острословом, и художественно одаренной матерью Эммэгульсум, величавой и мудрой.
Разве мог я предполагать, что придет время, когда именно мне редактор издательства «Китап» предложит написать предисловие к ее сборнику рассказов «Паутина»? И не нужно будет мне «напрягать» перо, чтобы поведать о литераторе, который прошел суровые жизненные университеты, неся в себе щедрый свет доброты и милосердия. Давайте заглянем в страницы предисловия…
…Умеем ли мы ценить то, что рядом, когда всего в избытке: и солнца, и друзей, и свободы, и щедрой красоты природы с ликующим ее многоголосием? Нет, увы, начинаем мы ценить что-то, лишь потеряв… Так постигаем бессонную щедрость заботливых материнских ладоней, так начинаем с просветленной нежностью вспоминать учителей, которым прежде лишь досаждали, лишь после утрат приникаем к чистым родникам, которые, оказывается, поят нашу память до сих пор.
Герои ее рассказов замкнуты в четырех стенах тюремных камер. И даже забор, отделяющий их от свободы, опутан предусмотрительно скрученной колючей проволокой, змеистой спиралью, с угрюмой настороженностью охраняющей их несвободу.
Если смотреть на небо снизу от неприступного забора зоны, бдительно просматриваемой с вышек часовыми, которые готовы в любой момент вскинуть оружие и полоснуть огнем, покажется, что само небо царапает не тело – душу – черными, колючими трещинами.
Описывать замкнутый четырьмя угрюмыми стенами быт заключенных – дело неблагодарное. Тем более ей – удивительно тонкому поэту-лирику с песенной, романтичной душой. В прошлом году в издательстве «Китап» для детей дошкольного и младшего школьного возраста вышла книга «Хлеб и золото» с двумя ее прелестными сказками в стихах.
И все-таки она пишет и, я уверен, будет писать вновь и вновь о людях, чьи судьбы замкнуты в четырех стенах тюремной камеры, потому что знает их жизнь. Диля Хамзиевна Булгакова работала медсестрой – анестезиологом поликлиники МВД. Кровь людей – одного цвета. И боль в переводе с языка на язык не нуждается, стоит только заглянуть в человеческие глаза… Не нуждаются в переводе с языка на язык и слезы, которые льют любимые и матери тех, чьи родные кровинки волею совершенного преступления или сложившихся обстоятельств находятся там, за этими мрачными тюремными стенами. Описания сурового тюремного быта у поэтичной по самому складу души Дили Булгаковой обретают неожиданную для дорожащих ее творчеством читателей графическую строгость, какой-то хирургический аскетизм.
Но поэтесса, которая от книги к книге все ярче самореализовывается в искусстве прозы, убеждена: мир человека не может быть заключен в четырех стенах. И именно здесь, в тюремном заключении, за стеною, отделяющей от свободы, память, мысль, мир чувств людей нар каждый вечер наперекор дулам оружия бдительных часовых совершают побег в Память. Счастливыми они резво бегут из камер солнечными тропинками своего детства, присев на корточки, недоверчиво протягивают ладони к бриллиантящейся росе, ласково прикасаются к морщинистым рукам матерей, обнимают своих любимых, задыхаясь от прилива невиданной нежности, виновато касаются шершавой щекой ласковой кожицы щек своих детей.
Этот застенный мир заключенных – мир их мыслей, воспоминаний, грез в лирически-просветленном описании Дили Булгаковой – цветной, солнцем раззолоченный, ароматами Природы опьяняющий, завораживающий!
И этот контраст – жесткой тюремной реальности, с ее культом силы паханства, и мира идеалистичного, с трепетным любованием Природой и лучшим в мире человеческих отношений, – захватывает. Заставляет невольно на сторожко покачивающиеся чаши осмысления на Весах Жизни бросить вместо гирек прописных истин обыкновенный пряный осенний лист осени, который внезапно покажется необыкновенным. Ибо и он – листок – неповторим, как и листок отрывного календаря, уносящий твой рассвет и закат, уносящий день твоей жизни, который мы редко проживаем вровень своим возможностям.
И все-таки лирик в ней побеждает. Ее рассказы покоряют даром сострадательности. Для Булгаковой характерен мелодизм в построении фразы, но это не гасит чутко улавливаемой автором индивидуальности речи ее персонажей, каждый из которых говорит своим голосом, отражая в нем себя – свою психологию, свой взгляд на жизнь.
Изумительны, говоря режиссерским языком, «монтажные стыки» в ее рассказах – переход от описательного эпизода к воспоминаниям. Мышление ее ассоциативно, ибо автор – тонкий психолог, умудренный наблюдениями знаток жизни в разных ее проявлениях и оттого знающий цену вечных ее ценностей.
Есть в татарском языке слов «сэрдэш». Оно означает самого близкого друга, которому доверяют сокровенные тайны. Трогательным «сэрдэш» в рассказе Дили Булгаковой «Черемуховый глаз» неожиданно оказывается… мышка, которую выловил в своей камере заключенный. Этот комочек живой жизни, прирученный в неволе, пробуждает в герое повествования такую участливую сердечность и неожиданные откровения, что трудно не быть покоренным этой трогательной доверительностью человека отчетливо жесткого, острохарактерного, лидерствующего, чьи глаза и здесь, на зоне, способны вмиг мстительно сощуриться для того, чтобы «возвратить должочки».
Захватывает властная драматургия рассказа с трагедийным его финалом, рождающим в душе гневный протест против глумливого торжества немотивированной жестокости стража порядка. А в памяти остаются искрящиеся «черемуховые глазки» доверчивого мышонка, который в тюремной камере-одиночке поверил теплу человеческой ладони, ласке участливости.
Предельно собранная за листом бумаги Диля Хамзиевна Булгакова может иметь «поэтическую» рассеянность в жизни. Однажды с ней случился курьезный случай. Ходила она меж прилавков торгового павильона рынка, погруженная в женские хозяйственные заботы, с распахнутой, как обнаружила потом, хозяйственной сумкой, внутри которой дразняще пестрел кошелек, с которого, оказывается, не сводил глаз один не замеченный ею человек…
Бывший заключенный – из матерых карманников – подошел к ней и доверительно сказал: «Мать, я с полчаса секу, как бы у тебя кошелек не стибрили. Наши вмиг усвистят». И дал совет, куда его понадежнее спрятать. Сказал об этом просто, с житейской рассудительностью профессионала.
А потом она узнала, что он слышал по радио «Шарк» ее рассказ из жизни заключенных, который довел до слез его родную маму.
– Такой «рецензии» я не получу больше никогда, – улыбнулась писательница. – Парень хлебнул в жизни лиха. Запиши его судьбу, какова она есть, сама она – горький, за сердце берущий рассказ.
Ее целительные руки медика бывшие ее пациенты помнят и поныне, а более ста песен на ее стихи исполняют самые популярные певцы. Подхватывают их люди разных поколений, не задумываясь, что строки этих песен родились в сердце моложавой, обаятельной женщины, у которой уже две внучки и внук, что уже учится сочинять под гитару мелодии собственных песен. Одна из двух ее дочерей, подхватив медицинское призвание своей мамы, избрала беспокойную профессию врача и успешно трудится терапевтом, стремительно наращивая свой медицинский опыт, ибо унаследовала подвижнический материнский характер. Обе дочери пишут полные женственного изящества стихи.
Публикуемые в этой книге рассказы, которые, я уверен, станут преданными «сэрдэш» – самыми верными собеседниками, свидетельствуют: мир человека не замкнуть четырьмя стенами…
Я понимаю, что нежные лиловые граммофончики цветов-вьюнков никогда не обовьют змеящейся колючей проволоки, тянущейся вдоль тюремных стен. Но внезапно подумалось, что трепетно-нежные рассказы Дили Булгаковой с их покоряющим светом Гуманизма подчас предстают в моем воображении именно этими цветами – вьюнками мудрой сердечной участливости, способной в холодный наш век обвить колючую проволоку наших утрат, чтобы не было пугающих трещин в наших душах.
Когда мне довелось снять видеоклип по песне Рамиля Миндияра на стихотворение Дили Булгаковой в исполнении Айдара Галимова, в Казани одна из пожилых женщин, открыв подаренный уфимской поэтессой маленький сборник лирических стихов «Серебристый лес», с поразившей меня ласковостью сказала:
– В ее ладонях свил гнездо соловей…
Может, это было пророчеством? Ведь в 2003 году поэтесса Диля Булгакова за вклад в развитие башкирской эстрады была награждена призом «Хрустальный соловей».
А еще есть у поэтессы неповторимые «изобразительные стихи» – нежно вышитые бисером портреты дорогих ей поэтов, главенствует среди которых неугасимый Габдулла Тукай.
Двенадцать книг ныне у замечательной поэтессы и прозаика Башкортостана, более ста песен написано на ее стихи. Спасибо за щедрый бисер Ваших притягательных строк, дорогая юбиляр! Пусть неизменно радуют Вас успехи Ваших замечательных дочерей, внуков и внучек, Вашего правнука… Пусть щедрым на песни будет радующий нас дивный соловей Вашего дарования!
По материалам газеты “Истоки ”.
Бегущая кинолента жизни
Когда бы я ни приезжал в родное село, в любое время года здесь есть свои прелести. По весне, как только сойдут снега, и солнышко прогреет землю в палисаднике, каждый день улицы обновляют свой весенний наряд. После первых редких островков зелени над домами и подворьями встают целые цветные облака, буйствуя красками и дурманящими запахами. Белоснежной фатой черемух покрываются по весне не только новые, молодые, но и старые избы. С простенькой девчонкой-черемухой соперничают пышные красавицы-яблони. Их перламутровые лепестки тянутся к свету, торопясь завязать плоды. Душистая сирень в капельках утренней росы своими тяжелыми влажными гроздьями ласкается, заглядывает в окна домов. Пусть она не даст плодов на стол, но посеет семена радости и красоты в душу на всю жизнь. За деревней – бесконечные трели соловьев, которые, конечно же, не хуже курских. Над лесной поляной плывет одинокий печальный голос кукушки. Сколько лет она гадает нашему прекрасному краю! Вот и живет он долго…
А вот в середине сельской улицы – колодезный сруб. Над ним тесовая беседка с затейливой резьбой, просторная и прохладная. Колодец этот носит имя моей мамы Магдании Гатаулловны.
Когда я вспоминаю маму, появляется особое настроение – радостное и чуть щемящее, как всегда бывает, когда вспоминаешь самое родное и дорогое сердцу… Этот теплый свет и легкая грусть со мною по сей день, на всю жизнь.
Отец умер совсем молодым. И у матери, Магдании Гатаулловны, остались на руках четверо детей – трое сыновей и дочь.
Она была человеком трудолюбивым. Ведь на четверых детей она одна – и по хозяйству надо, и на государственной службе нужно быть, план необходимо выполнять. А в те времена торговым работникам давали планы и строго следили за их выполнением – в случае неуспеха ругали, лишали премии. Изо всех сил мать старалась успеть все сделать вовремя. Помню, как пятилетним мальчиком я с мамой поехал в Салават на стареньком «газике». Она прихватила еще 8 мешков картофеля. Так как в Салавате в то время было много жуликов, мама брала меня, чтоб я караулил товар. Базарных воров все местные знали в лицо, а таким, как мы, приезжим, откуда их знать? Мама продавала книги, да и нашу крупную картошку быстро раскупали. Я с нетерпением ждал, когда мы закончим дела, и мама купит мне чебуреки за 17 копеек. В городе всегда продавали такие вкусные чебуреки… И я завидовал городским людям. Думал – вот где хорошо живут. А в деревне у нас каждый день была одна и та же пища: картофель, молоко или катык. Когда из города приезжали родственники, то среди гостинцев их были кренделя, булки, а иногда и вкусная колбаса. Но гостинцев много не бывает: отрезали тебе твою долю, вот это и съешь, и лишний раз к столу не подходи.
Ввиду того что родители были трудолюбивыми, нам не приходилось голодать. У нас был большой сад-огород. Выращивали и фрукты, и овощи. Каждое лето бочками солили огурцы, капусту, помидоры. Чтобы все это вырастить, требовался колоссальный труд деревенского мальчика. Воду для огорода таскали ведрами – ломило спину, отекали руки. Но если не поливать каждый день, то и такого урожая не будет. Кроме того, и сено для скота надо приготовить на зиму, и дров привезти, наколоть, и решетки покосившиеся починить. В деревне работа никогда не заканчивается, особенно летом, – и детям, и родителям хватает забот и хлопот.
С приближением очередного школьного года родителям добавляется еще одна очень важная забота: подготовить детей к школе. Одежда старшего ребенка остается следующему за ним, а самому ему, подросшему за лето, надо покупать новую одежду. Мы, дети, всегда знали цену обновкам и искренне радовались, когда «вне плана» кому-то из нас покупали сандалии, рубашки… И я всегда мечтал о том, чтобы у меня были нештопаная одежда и незалатанная обувь. Но пока мы вырастали, донашивали одежду старших.
Работала мама в книжном магазине села Бузовьязы. Но много ли заработаешь от продажи книг в деревне? Да и сельчанам в те трудные годы было не до книг. Поэтому, будь то зимняя вьюга, летний зной или осенняя слякоть, невзирая ни на что, она ездила на рынок в Стерлитамак продавать книги. Я тоже с ней ездил. Какой-никакой, а помощник.
В школе учеба давалась мне тяжело, но я изо всех сил старался быть в числе «хорошистов». Первые дни учебного года в нашей школе почти всегда начинались с мордобоя. Мальчишки любые споры и разногласия разрешали на кулаках. Сначала, когда меня били, было обидно – до слез. Но потом я научился постоять за себя и дело до драки не допускал.
Из школьных предметов сердце лежало к английскому языку и ботанике, также я любил уроки географии и литературы. В душе я был романтиком. Когда учитель географии по карте «водил» нас по странам и континентам, я мечтал объездить весь свет. Старательно изучал географическое и экономическое положение каждой страны. Если меня сегодня среди ночи разбудят и попросят назвать столицу какой-нибудь страны, я моментально отвечу.
Замечательные были учителя в нашей Бузовьязовской школе, каждый из них был фанатично влюблен в свой предмет и старался донести до наших сердец и умов те знания, которые накопил сам. Например, начальные знания, которые закладывала в нас первая учительница Наиля Насибулловна, пополнялись с каждым уроком других талантливейших деревенских учителей. Спустя годы, став уже взрослым человеком, я вновь и вновь буду возвращаться в свою родную школу. Зная нужды деревенской школы, буду делать для нее все, что в моих силах.
Я, наверное, был очень сентиментальным мальчиком. На уроках литературы всегда переживал вместе с героями. Когда читали рассказ «Муму», я не мог удержаться от слез, текших по щекам и капавших на страницу учебника. Чтобы никто этого не заметил, я сидел, облокотившись на руки и опустив голову.
Иногда в кабинете физики нам показывали фильмы про войну, про белогвардейцев. Помню, всем классом смотрели «Повесть о настоящем человеке». Мы, мальчики, восхищались мужеством Мересьева, тем, как он, безногий, управлял самолетом. В этом фильме есть щемящий до боли эпизод, где безногий летчик учится танцевать на протезах. Он хотел доказать врачебной комиссии, что если он танцует, то может и летать. Вот на таких людей хотели мы равняться, такие фильмы учили нас преодолевать трудности и не унывать ни при каких обстоятельствах.
Да, мальчишки моего поколения обожали кино. Чтобы ходить в клуб, у нас не было денег. Но каждый раз мы находили способ заработать 5 копеек (билет на односерийный фильм в нашей деревне стоил именно столько). Весной и летом ходили в небольшой лес Каратал, который находился в 5 км от нашей деревни. На делянке собирали ветки. За это лесхоз каждому платил по 10-15 копеек, а иногда мы зарабатывали даже по рублю. Рубль в те времена был целым состоянием!
Однажды десятки мальчишек с нашей улицы собрались на «заработки». Нам в лесхозе обещали заплатить каждому по рублю за чистку делянки, среди нас были и мои ровесники, и дети помладше. Еду и воду с собой не брали, а в лесу пришлось работать до вечера. Мы так увлеклись, что даже не заметили, как начало темнеть (а в лесу быстро темнеет). Тут все дружно вспомнили, что пора возвращаться по домам – встречать стадо. Начали пробираться сквозь лес в деревню. Никого из взрослых не было. Шли мы долго, но никак не могли выйти на проселочную дорогу. Тут мы и поняли, что заблудились. Младшие начали испуганно плакать и хныкать. У кого-то живот разболелся. Кто-то пить захотел, кто-то ногу поцарапал… Все мы были голодные, уставшие, и всех охватила паника. Казалось, что из-за всех кустов и зарослей за нами наблюдают мифические чудовища, про которых мы читали только в сказках…
Чтобы как-то успокоить ребятишек, те, кто был постарше, младших детей взяли на руки. Вдруг меня осенило: «Можно же найти дорогу домой по приметам!». Наблюдая за кронами деревьев, мы все-таки определили, где север, а где юг. Например, вспомнили, что южные стороны крон деревьев густые, а те, которые смотрят на север, – редкие. Когда мы, наконец, добрались до дома, оказалось, не только наши родители – вся деревня поднялась на ноги. Искали нас с фонарями по всему лесу…
А когда уже был студентом, долгожданные каникулы проходили в заботах и трудах. Брат Марат работал в городе, а братишка Айдар и сестренка Фаниля были еще малы. Главной целью было помочь матери – ей и так доставалось одной. Поэтому все огромное хозяйство мамы на летнее время ложилось на мои плечи. И сенокос, и выгон скота, и огород, и ремонт покосившегося сарая или ветхого забора – все было на мне. Вставал чуть свет, пробегался от дома до речки, купался в утренней прохладной воде и принимался за работу. Трудно было. Но все равно моему поколению повезло: молодость наша впитала идеологию патриотизма, жажду свершений для страны и народа. В стране шли самые бурные поиски, пробы, эксперименты. И многое пробовалось, начиналось, создавалось именно в нашу молодость. Перед глазами жизнь моей мамы – как бегущая кинолента. Увлеченная, вся в порыве, неутомимая, она – то на работе, то в хозяйстве, все хлопочет, что-то делает.
Заработать на хлеб насущный простому человеку всегда было нелегко. Она всю себя посвятила воспитанию нас, своих детей. Но дети вырастают и улетают из-под родительского крыла…
Сажусь я на дощатую скамейку возле неиссякаемого колодца, гляжу в синеющие дали, и меня охватывает неистребимое и теплое чувство – я вспоминаю… Как будто по тропам памяти, мальчишкой-школьником пробегаю я босиком по околицам села. Здесь мой дом. Здесь папа с мамой впервые объяснились в любви, в скором времени поженились. Поблизости, в соседней деревне, жил мой дедушка Гатаулла Асянов. Хорошо помню, как я ходил навещать его. Днем мы то рыбачили на речке, то собирали на лесных полянах душистую землянику. А вечером, при свете луны, дед рассказывал мне о нелегкой жизни крестьян, тяжелой работе на земле. Здесь же, в Бузовьязах, жил мой дед Сулейман. Кстати, во время ВОВ он был председателем колхоза.
В далеких сумерках прошлых веков мне видится мой предок Башир Мукаев, который не пожелал когда-то сменить веру и принять христианство. За это противодействие властям он был лишен дворянского звания. Сейчас я ни на малую толику не сожалею и не печалюсь, что предки мои вышли из дворян. Были они работящими людьми, любящими землю, умеющими работать, не покладая рук. А человек, не гнушающийся тяжелой работы, всегда найдет свою стезю. Говорят же, что Михайло Ломоносов пришагал в Москву с северных окраин Руси в одних лаптях.
Наше немалое семейство Сулеймановых, сколько я помню себя, было всегда в работе. И оба деда моих трудились на земле, и отец с мамой не знали передыху в труде. Сижу сейчас у колодца имени своей матери и думаю не только о ней, а о тысячах матерей, о судьбах их семей, из которых и сплетается судьба народа.
Да, наши предки, россияне, горюшка хлебнули немало. Какая бы власть ни управляла в разные годы, простому народу легко никогда не жилось. Оба деда моих, и по отцовской, и по материнской линии, вели крестьянский образ жизни. Утратив свои поместные земли, растеряв немалую собственность, они постепенно перешли в статус крестьян. Вели свое хозяйство, арендовали бросовые земли. Поливая их обильным потом, превращали в пахотные угодья, стараясь получить обильный урожай. До революции 1917 года уже бытовал в народе совсем не оскорбительный термин: лапотные дворяне. Таковыми были и мои далекие предки.
Отец мой, Мударис Сулейманович Сулейманов, родился 7 апреля 1927 года. Он – участник Великой Отечественной войны, на которую ушел совсем мальчишкой 7 ноября 1944 года. И хотя война близилась к концу, немало ему пришлось пройти и проползти по фронтовым дорогам да полям. Был неоднократно и контужен, и ранен. Тем не менее, провалявшись какое-то время в полевых госпиталях, вновь вставал в строй.



