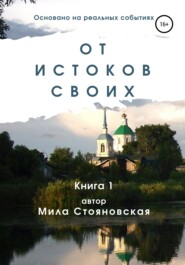скачать книгу бесплатно
– Та-ак! – протянул Павел, – И что это за известие, душа моя? – поинтересовался он.
Маша, не в силах дальше скрыть свою новость, не дожидаясь ужина, радостно защебетала:
– Я нынче была у своего врача, так он сказал, что к лету у нас с Вами будет маленький! Ах, я так счастлива, наконец-то, у нас будет малыш! – Маша кружилась по комнате, прижимая руки к груди и мечтательно вздыхая, – А Вы, Вы рады, мой друг? – смущаясь, обратилась Маша к мужу.
– Машенька! Душенька моя! Как же я счастлив! – Павел подхватил Машу на руки и кружил её по зале, покрывая поцелуями и крепко прижимая к себе.
С этого дня Павел стал втрое внимателен к жене, исполнял все её прихоти и желания, лишь только она делала какой- либо намёк. И в начале июня 1902 года Мария Мефодиевна благополучно родила сына. Мальчика назвали Николаем.
Маша по, сложившемуся веками, обычаю, не должна была кормить малыша своей грудью. Поэтому для Николеньки нашли кормилицу из приличной крестьянской семьи, которая поселилась в доме Стояновских и неотступно была с ребёнком до двух лет. Николенька рос, обласканный любовью родных, кои души в нём не чаяли. Маша много времени уделяла своему маленькому сыночку, понимая, что с ним она будет только до семи лет. Потом, согласно законам этикета, их отлучат друг от друга. С семи лет сына будут готовить к служению Родине и это полностью забота отца. Матери же останется лишь следить за успехами сына. И сейчас она спешила заниматься с ним, старательно вникая в его интересы и расширяя круг его детских знакомств.
Рождество 1903 года прошло на удивление весело, тут были многочисленные подарки и подарочки от родственников и друзей, фейерверки и балы. Толпы ряженных, разгуливали по улицам и веселили народ. Катание на тройках, украшенных ленточками и серебряными колокольчиками, очень нравилось маленькому Николеньке. Праздничные ярмарки пестрили яркими товарами, заманивали людей зимними аттракционами и играми.
Наступил новый 1904 год. Праздновали его в семье Стояновских скромно, по-семейному. Кроме праздничного обеда и катания в кибитке с, запряжёнными в них, лошадьми, да красивой большой ёлки, поставленной в гостевой зале, ничего особенного не было.
А в конце января началась война с японцами. Уже накануне её велись разговоры о том, что государю нужна маленькая, победоносная война, которая могла бы обеспечить приоритет на Дальнем Востоке. Государь император российский уверен был в силе своей армии. Он считал, что маленькую Японию Россия просто закидает шапками. Да и что такое Япония против огромных размеров России? Однако, что война эта начнётся так скоро, никто не ожидал.
В России не понимали целей этой войны, шла она где-то очень далеко от Москвы и Петербурга, и даже далеко от Томска, на чужой территории. Добровольцев, поучаствовать в ней, было очень мало. Но война шла, и в ней были раненые и убитые.
Павел не забыл, что его обязанность лечить больных и раненных. Он просил об отставке по службе в городской управе и срочной мобилизации его на фронт.
Накануне он переговорил с тестем, Мефодием Гавриловичем о своём решении, чем привёл того в полное замешательство.
– Что это Вы, батенька мой, удумали, однако? Куда голову в пекло намереваетесь положить?! Уж, довольно врачей там и без Вас найдётся! А как же Маша без Вас и сынок Ваш, Николенька, они-то в ком опору найдут? – растерянно спрашивал он, – Хотя, поступок весьма благородный и достойный всяческой похвалы, но дочь наша и Николенька… собирались же на лето в имение, – разводил он руками.
– Не позволяет мне честь в конторах сидеть и бумаги разбирать, когда Отчизна в помощи моей нуждается, я присягу государю императору нашему давал! А Машу, уж, простите, я надеюсь, Вы с Елизаветой Николаевной поддержите. И маменька моя поможет, коли какая нужда в этом будет. Да, я уж и прошение об отставке подал, – ответил Павел.
Мефодий Гаврилович, обхватив голову руками, заходил по кабинету в раздумьях и смятении от всего услышанного. Павел присел на стул. Он был твёрд в своём решении, и это ясно читалось на его лице. Через некоторое время такого молчания, Мефодий Гаврилович остановился возле Павла, взял его за плечи.
– Ну, если не скука Вас туда гонит, а действительно, долг перед Отчизной, то значит, так тому и быть. Поступок мужской и достоин уважения. Поезжайте, Павел Матвеевич. А нам здесь одно только и остаётся: молиться за Вас. А о дочери с внуком мы уж с Елизаветой Николаевной позаботимся, будьте покойны. И себя берегите для нас, – напутствовал зятя Мефодий Гаврилович.
Теперь Павлу предстояло самое трудное: объяснение с женой. На удивление Маша выслушала его спокойно, только слезинка покатилась тихо по её щеке.
– А я уже давно ждала, что Вы, со дня на день, сообщите мне о чём-то подобном. Я даже не держала сомнений, что Вы поступите именно таким образом, друг мой. Не в Вашем характере поступить по-иному. И я горжусь Вами. Как бы тяжело не было мне расставаться с Вами, дорогой мой, я благословляю Вас и буду молиться о скорейшем Вашем возвращении к нам, – теперь слёзы непрерывно катились по щекам Маши и она горестно всхлипывала.
Павел в порыве нежности прижал любимую жену к сердцу. Он целовал её во влажные щёки, ощущая солёный вкус на губах, гладил по голове и шептал:
– Благодарю Вас, милая моя. Вы – ангел мой, Машенька! Я обязательно вернусь, верьте мне. И мы навсегда будем вместе.
Прошло почти два месяца, и Павел отправился на войну в составе Российского Общества Красного Креста. Дорога до Харбина заняла почти месяц. Медики прибыли в этот китайский город уже в конце августа 1904 года. Павел получил распределение в Харбинский центральный госпиталь. Но он решительно настаивал на отправке его на передовую. Его помощь, как ему казалось, там будет особенно востребована. Вскоре Павел был переведён в место недалеко от Порт-Артура и зачислен полковым хирургом.
По своему обычаю, он погрузился с головой в работу, а её было много. Каждый день Павел делал до десятка операций. Он спал урывками, как придётся, чаще всего здесь же, в палатке лазарета, расположенного вблизи передовой. Выглядел он усталым, похудевшим, с ввалившимися глазами. Через три месяца после начала работы в полевом лазарете Павел получил первое письмо от Маши, отправленное ею ещё в сентябре, а нынче на дворе был уже конец ноября. Павел сначала прижал письмо к своей груди, представив на миг, что обнимает Машу и Николеньку, затем с волнением открыл его и жадно начал читать. Перед глазами замелькали изящные буковки кружевного почерка Маши:
«Милый друг мой, незабвенный мой муж, Павел Матвеевич! В первых строках своего письма спешу уведомить Вас, что мы с Николенькой, волею Господа нашего, находимся в полном здравии и полны дум о Вас. Ежедневно молимся о Вашем здоровье и благополучии. Берегите себя, друг мой милый.
Спешу так же сообщить Вам, что нет больше с нами папеньки моего, Мефодия Гавриловича, не услышим мы более его голоса, не увидим взгляда его доброго. Осиротели мы, дорогой мой, в один день. Батюшка мой, будучи на последней летней охоте, упал с лошади, что внезапно понесла его. Он ударился головой о камень, разбился сильно. И, в беспамятстве, через несколько часов отошёл в мир иной. Мы же с маменькой остались в большом горе и неутолимой печали, в коей находимся и теперь. Матушка моя, Елизавета Николаевна, после похорон прямо сама не своя сделалась. Плачет каждый день, от еды отказывается, пребывает в совершеннейшей меланхолии. Меня, друг мой, её состояние очень тревожит. И врач наш, Антон Иванович, беспокоится о её здоровье и за её рассудок переживает. Назначил он ей успокаивающие настойки. Так она их не пьёт! И что делать, ума не приложу.
Ваша матушка, Дарья Кирилловна, здорова, лишь изредка на мигрень жалуется. Дважды уже, после похорон моего незабвенного упокоившегося батюшки, навещала нас с Николенькой. Просила передать Вам поклон и своё родительское благословение, ежели буду я писать к Вам. Дарья Кирилловна зачастила в церковь, почитай, каждый день службу стоит.
В нашей с Николенькой жизни всё по-прежнему. Николенька растёт, уже много слов знает. А Вас, дорогой мой муж, папенькой зовёт и Вашу карточку целует перед сном. Мальчик бойкий и умненький и всё больше на Вас, милый мой, похож с лица. Вот и отрада сердцу моему.
А ещё хочу сообщить Вам, что слуга Ваш, Митрофан, очень плох. Доживёт ли до встречи с Вами? Недуг какой-то приключился с ним и врач сказал, что недолго ему осталось.
А я очень скучаю по Вас и страстно жду нашей встречи, милый муж мой, Павел Матвеевич, храни Вас Господь. А в конце письма своего прикладываю Вам отпечаток ладошки сыночка Вашего Николеньки и шлю Вам тепло сердца моего. За сим, любящая Вас, жена Ваша, Мария Мефодиевна».
Далее шла дата написания письма и витиеватая подпись Маши. Павел ещё какое-то время подержал письмо у губ, ощущая тонкий запах Машиных духов. Несмотря на то, что письмо шло долго, оно пахло домом. И Павлу взгрустнулось от нахлынувших воспоминаний. Лёгкая, печальная улыбка тронула его губы. Ему хотелось ещё углубиться в воспоминания, но сестра милосердия, появившаяся на пороге палатки, позвала его к раненному. Павел только успел подумать ещё:
– Бедная Маша, должно быть нелегко ей теперь. Отца не стало и мама больна. Нет у неё теперь опоры, в случае какой надобности, одна совсем. Сколько же война эта продлится, никому не известно. Когда я смогу домой воротиться?
Вот уже несколько дней Павел, занимаясь привычной работой в госпитале, мыслями возвращался к письму Маши. Сердце его сжималось от грусти и нежности, от желания скорее всё здесь закончить и вернуться домой. Тревожили мысли и о слуге матушки Митрофане.
– Что с ним приключилось? Был бы я дома, может, облегчил бы его состояние? А что, как его не станет? Матушка так привыкла к нему, никто её привычек и желаний не может предугадать так, каково одному Митрофану удаётся. Да и то, уж более двадцати лет он на службе у Стояновских. Как же она без него? – думал Павел.
Павел всегда лояльно относился к своим слугам и, вообще, к простому люду. Он платил своей прислуге хорошее жалование, лечил их сам или нанимал для них докторов. Отдавал ребятишек своих слуг в учение, где они осваивали грамоту. Если и наказывал за провинность своих слуг, то только рублём, категорически избегая телесных наказаний.
Он часто думал, почему жизнь так обделила этих простых людей, ничем не отличавшихся по уму от высшего класса.
– Образованности им недостаёт – это да! Так разве ж они в том виноваты? Все двери хороших учебных заведений перед ними закрыты. А уж, сколько среди них самобытных музыкантов, поэтов, отличных художников и строителей, обладающих навыками учёных архитекторов. А чего только не мастерят они своими руками такого, что без определённого таланта, и придумать-то невозможно. Вот если бы на земле все были уравнены в правах и достатке, должно жизнь была бы много лучше. И здесь, уж столько «скотов» среди моей ровни! Иногда и смотреть противно. А как относятся к своим подчинённым, ровно божок какой. Случается, ведут себя омерзительно и преподло, недостойно офицера и человека. Пропивают всю полковую казну, над солдатами ни за что измываются. Разве это черта порядочного гражданина и дворянина? – с возмущением думал он.
Мысли его вновь возвращались к Митрофану.
Осматривая раненых, он расспрашивал их о самочувствии, о настроении, думал про себя:
– Если Митрофану мне уже не помочь, я должен попытаться вылечить, хотя бы, как можно больше этих бойцов, ведь где-то у них есть матери, жёны, дети, которые очень ждут их домой.
Глава 7
Война с японцами
Иван и Порфирий прибыли на фронт к концу мая. И уже через два дня они получили боевое крещение. Первый бой ошеломил их. Цепи японцев, сверкая на солнце штыками, двинулись на окоп русских. Новобранцев сковал страх. Оцепеневшие, с ужасом следили они из-за бруствера за стройными рядами врага, несущими на своих штыках смерть. Командир роты, молодой поручик, охрип, призывая солдат подняться из окопа и достойно встретить противника.
– Страшно-то как! Вона каки вышколены! Как баранов заколют, погибнем все… – бились мысли в возбуждённом мозгу солдат.
Со стороны японцев прогремел залп из винтовок. Пули визжали над головами, пригибая и без того испуганных солдатиков.
Несколько японских пуль срикошетили от камней в стенах окопа. Вид крови и крики раненных словно подкинули новобранцев. Плотной волной, не сговариваясь, в одном порыве выдвинулись они из окопа. С яростными криками рванулись в сторону японцев. Рукопашной было уже не избежать. Бой был коротким и жестоким. Русские яростно молотили врага, чем придётся: штыками и прикладами винтовок, ногами и кулаками с такой силой и злостью, что не давали японцам шансов на жизнь. Через короткое время ряды неприятеля были полностью уничтожены. Немало полегло и русских солдат. Уцелевших бойцов окружали трупы, беспорядочно лежащие на земле, слышались стоны раненных, всюду валялись винтовки убитых. После боя некоторые новобранцы и не пытались унять дрожи, рыдали и не могли преодолеть рвотных спазмов от страха близкой смерти. И сами выжившие солдаты были с ног до головы в крови. Тяжело дыша, они пытались утереть пот с багровых, разгорячённых лиц, ещё более пачкая их, делая страшными. Горящими от возбуждения глазами, с ужасом оглядывали они картину своего первого сражения.
Иван вспомнил свои ощущения накануне боя, когда ему хотелось зарыться в горячую, поросшую выженной травой землю, и устыдился.
– Вота, значитси, кака она, война-то… А япошек бить можно, не след страх свой перед имя казать!
В составе пехотной дивизии запаса Порфирий и Иван воевали второй месяц. Друзья считали себя уже опытными бойцами, многое умели и знали из военной жизни, даже характеры их изменились. Из простодушных, любопытных и доверчивых, стали они суровыми и сдержанными. Все понимали, что война закончится не так скоро, как бы хотелось. Все сочувствовали бойцам и жителям Порт-Артура с мая 1904 года находящимся в осаде. Но и здесь, снаружи осаждённого города было нелегко.
Японцы делали вылазки на расположение русских в основном ночью, проникали в землянки и вырезали всех, кто там находился.
– Опять на соседев справа японцы набёгли, всех порезали до единаго, инда страшно глядеть. Как жа теперя их бабы с малятами, на кого теперя им надеетси? Кого ждать? – переговаривались мрачно солдаты, потягивая самокрутки.
Бойцы дивизии были разного возраста. Умирать, конечно, не хотел никто. Но, если молодёжь шла в бой бесстрашно, то те, кто был постарше из вояк, симулировали всяческие болезни, стремясь обеспечить себе службу полегче да поспокойнее. Сорокалетним труднее было совершать марш-броски и лезть на сопки. Они пристраивались где-нибудь при обозе, кухне, в лазаретах или ординарцами при начальстве. Особенно бузили мобилизованные рабочие из городов, подбивая солдат побросать своё оружие и возвращаться домой к своим семьям. От одного окопа в другой передавалась байка о том, как группа таких вот воинов из крестьян повстречала колонну вновь прибывших новобранцев во главе с офицерами.
– А чаво, значится энта дорога на Россию идёть? – спросил один из группы солдат.
– Так ты в Россию собрался? А винтовки ваши где, собаки? А кто за дело государево сражаться будет? Дезертировать?! – вскричал офицер, оголяя шашку.
– А ты нас не «собачь», Ваше благородие. Да, какой из меня «стражатель», коды вона дома у мяне восемь ртов осталося? Кто об их озаботиться? Дитёв шестеро, мал мала меньше, жена хворая, да мать старая. Мяне землю пахать надобно, а не стражаться, – спокойно ответил солдат.
Дело это добром не кончилось: наказали беглецов и снова в окопы загнали.
Не понимали солдаты конечной цели этой войны, не было в их душах патриотизма. В русских газетах, с лёгкой руки императора российского, японцев часто называли макаками. Прижилось это прозвище и в российской армии.
– Для чё головы здеся кладём, стражаемся с «макаками» энтими? И земля округ чужая… Пушшай наш государь со своими генералами тута воюеть, коль у его надобность така, – ворчали вояки.
Стычки с противником были почти ежедневно. Иногда случались и настоящие сражения, в которых стрелять приходилось так много и часто, что приклад винтовки слегка обугливался. А четырёхгранный штык накалялся и чуть сгибался так, что его приходилось выпрямлять с помощью молотка после сражения.
Выстрелы гремели со всех сторон, пулемётные очереди прошивали пространство между противниками. Взрывы от артиллерийских орудий поднимали вверх столбы земли, разрывали в клочья тела солдат. Всё сливалось в один протяжный воющий и свистящий звук. Бойцы отважно карабкались на сопки под огнём противника. Бесстрашно бросались они в рукопашную, покрывая японцев отборной бранью. Крики русских «Ура!» и японцев «Уй-я!» или «Банзай!» смешивались с лязгом оружия и другими звуками боя. В сравнении с великанами-бородачами русскими японцы были много меньше по росту. Но сражались они ожесточённо, не жалея себя. Маленькие, юркие они бросались наземь и кололи штыками снизу, пока смерть не настигала их.
Друзья и в бою старались держаться вместе, зачастую буквально спина к спине. Пули обходили Ивана и Порфирия стороной. Бог как будто оберегал их даже в самых жестоких сражениях, где исход битвы решала штыковая атака или рукопашная схватка.
Цепь русских, скатившись во вражеский окоп, крушила японцев направо и налево. Всё было пущено в ход: звериные зычные крики солдат, сокрушительные удары прикладами по черепам и куда придётся, удары штыками и кулаками, ногами в область живота и детородных органов. Повсюду слышался хруст ломаемых костей, треск разбиваемых черепных коробок, стоны, крики и хрипы адской боли. Гулко шлепались на землю тела убитых. Во все стороны летели струи и сгустки крови, ошмётки кожных покровов, лоскуты, раздираемого в неистовой, жёсткой драке, обмундирования.
После рукопашной долго ещё дрожали ноги, и руки ломило от чрезмерного нервного напряжения, испытанного во время боя. В таких схватках почти всегда победа была за русскими. Японцы, как правило, несли большие потери, так что командующий японской армией даже издал приказ: в рукопашный бой не вступать, если нет превосходства в силе не менее чем в четыре раза.
Однажды во время такой атаки, Иван, влекомый общим кличем: «Вперёд!», рванулся из окопа, Порфирий ринулся за ним, но споткнулся обо что-то мягкое. Невольно взглянул он вниз под ноги. В окопе, закрыв глаза и обхватив голову руками, сидел молодой, лет двадцати, солдат.
– Чаво расселси?! – заорал Порфирий, – А ну, бягом! За мной, мать твою через коромысло! Бягом! ** **** мать! – рванул он новобранца за гимнастёрку, – Впярёд!
Порфирий ринулся вперёд, увлекая за собой молодого бойца.
– Делай как я! – орал он парню, скатываясь с сопки прямо на голову японцам, размахивая прикладом, как дубиной, круша одним ударом сразу несколько черепов.
Японцы кучами врывались в цепь противника. Русские стервенели в рукопашной. В голове и в сердце у Порфирия была в такие минуты абсолютная пустота, никаких чувств, ни боли, ни жалости. Только взгляд, из-под сдвинутых грозно бровей, судорожно искал ненавистные жёлтые околыши.
– Вота оне! Мишени для ударов прикладом, штыком. Ага! Штык вместе с дулом вошёл в японца, проткнул его насквозь! Ай, молодца, робята! Вона како ловко подняли низкорослого японца сразу на три штыка! – мелькнула азартная мысль в горячей голове Порфирия.
Краем глаза заметил он, как бездыханное тело молодого японца, отброшенное назад, сорвавшись со штыков, шмякнулось о землю.
А японцы всё лезли и лезли. И ад боя всё длился и длился. Звучали выстрелы, раздражая визгом пуль, стрясал землю грохот орудийных залпов. Повсюду огонь, гарь и чёрный дым. Ноги бойцов вязли в жирной грязи, смешанной с кровью, блевотиной, ошмётками тел и одежд.
Неожиданно артиллерийский снаряд разорвал край окопа. Образовалась большая брешь, в которую валом покатились японцы. Сражаться в тесноте окопа стало гораздо труднее. И началась «свалка», где в ход пошли кулаки и зубы, камни, земля и всё, что попадало под руки.
Рядом, широко расставив ноги, так же сражался Иван. Лишь после того как полегли все японцы, солдаты перевели дух, стали отряхиваться от земли и прочих последствий боя, утирая пот вместе с кровью с разгорячённых лиц.
– Испужалси? – спросил Порфирий новобранца, которого за грудки вытащил из своего окопа и увлёк за собой в бой.
– Было малёха, – слегка растерянно ответил тот.
– Ничо, быват, – устало сказал Порфирий, – тольки трусить это ж последне дело. Япошки тольки и ждуть такого случа?я, чтобы труса на свой штык поднять, ровно порося. А то и ночью сонных порежуть. Бить их надыть без страха, не жалеючи, тоды можа и война быстрея кончится, – уже твёрдо закончил он.
Уцелевшие в бою солдаты, ряды которых значительно поредели, сидели и полулежали на грязной земле, переводя дух. Они озирались в надежде увидеть живыми своих друзей среди груд поверженных тел.
После боя по окопу прокатилась весть, что вскоре будет готова банька и бойцы оживились, обрадовано заулыбались, предвкушая нечастое удовольствие. Баню обычно обустраивали в какой-нибудь землянке. Грели камни-голыши в костре рядом, затем ещё горячие сваливали их в землянке. На кострах грели много воды. И давай – мойся в своё удовольствие! Солдаты очень любили помыться в бане. А после, отдыхая в чистой истоме, попеть протяжные, красивые песни. Это всегда удивляло японцев, до которых лишь отдалённо доносились обрывки прекрасных незнакомых мелодий.
Уже много было убитых и раненых, коих сразу отправляли в лазарет, а война всё продолжалась, и конца её не было видно.
Между тем подошла осень. Сопки, покрытые экзотическими растениями, сменили сочный, зелёный наряд на огненно красные одежды. Друзья любовались местной природой, вспоминая родную сторонушку осенью. Хотелось домой, в свою берёзовую рощу, где шелестят, опадая, жёлтые листья. Где журавлиный клин, рассекая небесную высь, курлычет над опустевшей пашней, прощаясь с любимым краем до следующей весны.