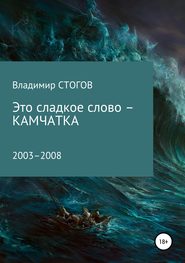скачать книгу бесплатно
Но всё это будет. А покамест двухмесячный груздевский воспитанник был размером с две составленные друг с другом меховые рукавички. Всю последнюю неделю в доме по полу он перемещался шагом уже довольно уверенно, но стоило ему перейти на рысь, как тяжеловатый задок смешно заносило на сторону и… – вся упитанная тушка заметно отклонялась от изначально избранной на бег траектории. Одним словом, брать с собой в многодневный стокилометровый поход вот такое чудо-юдо выглядело затеей вполне рисковой. Но ведь и у самого Груздева теперь не оставалось другого выхода: щенок пришёл к нему так необычно и стоил столь дорого, что он – суеверно! – просто опасался выпускать его из своих рук.
Для начала человеку следовало каким-то доходчивым для зверёныша образом объяснить: что с сегодняшнего утра двое их – маршрутная пара; хозяин – ведущий, а щенок – ведомый. Но Груздев едва-едва успел запереть входную дверь на висячий замок, как Нукер уже почти целиком скрылся в дыре под крылечком, там завлекательно пахло крысами. Бесцеремонно же извлечённый оттуда за задние лапки он было закряхтел, закрутил увесистым задком, пробуя освободиться, но, ощутив щенячьим голым пузцом успокоительное тепло хозяйской ладони, примирительно стих. Тем временем «начальник маршрутной пары» кое-как, одной левой, приторочил себе на спину полуторапудовый рюкзак, а поверх него умостил на плече пару широких охотничьих лыж и самодельное спиннинговое удилище. Причём все три не связанных меж собой продолговатых предмета с первых же шагов расщеперились у него за спиной веером…
Но от его домика до вертолётной площадки вверх по пологому склону, по хорошо набитой в снегу стёжке, было метров сто пятьдесят от силы. Ещё с полсотни шагов к востоку и перед путниками распахивались такие дали, от которых у Груздева в очередной раз слегка перехватило дыхание, а на глаза поневоле навернулись слезинки восторга. Так что он решительно посбрасывал с себя всё лишнее, предварительно бережно посадив на снег Нукера, и весь безраздельно отдался ритуалу созерцания.
Сама вертолётная площадка, его домик, да и вся Заповедная улица располагались на обратном, отлогом склоне берегового уступа. Зато противоположная его сторона крутым сорокаметровым обрывом ниспадала прямиком в Тихий океан.
Всходило солнце. Пронзая чистейший, насыщенный только лишь водными испарениями воздух, светило набухало, прорезывалось и отваливалось от голубовато-стального лезвия океанского окоёма – свежайшим арбузным ломтем. Тогда как привычные его размеры где-то с футбольный мяч – такого гигантского утреннего диска Груздев не наблюдал доселе нигде! – должно быть, вся вовлечённая в процесс восхода неимоверная толща надокеанической атмосферы действовала как одна огромная оптическая линза.
Преувеличенные размеры, незамутнённые краски, девственная неприкосновенность – ведь если встать спиной к посёлку, как он сейчас, то в поле зрения не оставалось ни единого намёка на сомнительные блага и достижения современной цивилизации. Здесь ещё можно было вдруг ощутить себя астронавтом, прибывшим на планету Земля во времена доисторические, изначальные. Дело в том, что наросты одномоментных с ним человеческих поселений на теле планеты Груздев недолюбливал: при этом как джунгли из небоскрёбов на том берегу, так и эклектичный архитектурный стиль родной державы, который чем дальше от обеих столиц на восток-северо-восток, тем с большим основанием можно было охарактеризовать всего лишь одним словом – барачный.
И как бы в противовес всем этим густо забитым людишками термитникам к чистому северу от него уходили, громоздились, перекрывали друг друга и истаивали в сиреневатой манящей дали горы и долы – заповеданные, доселе либо мало, либо вовсе человеком не обжитые. Кроноцкий заповедник как таковой был учреждён советским правительством в 1934 году. Но задолго до того, ещё при царе-батюшке, по добровольному соглашению промеж камчадальских охотников-промысловиков никто из них в здешних угодьях пушнины не ловил: дабы особо крупный и ценный камчатский соболь в этом природном заказнике плодился-множился и по окрестным землицам рассеивался. А ещё раньше из-за скопления шибко крутых сопок и многочисленных проявлений вулканизма эти же места у ительменов и коряков почитались – дурными, «чортовыми», а посему лежали в стороне от традиционных кочевий и стойбищ.
Нависающая над ближайшими окрестностями сдвоенная вершина горы Зубчатки. За нею сглаженные отроги старика Кихпиныча, породившего своенравную красавицу-дочь – Долину Гейзеров. А вон как бы высвобожденная, вычлененная из общего росчерка береговой линии низовой полоской прибрежного туманчика – невесомо и зримо зависла в воздухе! – Кроноцкая сопка. Третья по высоте и первая по красоте вершина Камчатки за счёт своего выгодного – почти у самого уреза воды – местонахождения она была видна сразу и целиком: во всём безупречном великолепии своего изумительно стройного, грациозного и симметричного трёх с половиной километрового в высоту конуса. С чуть-чуть зарозовевшей в утреннем свете принакрытой вечными снегами вершиной и, ниже по склонам, с продольно-полосатым чередованием долинных ледников и сочно-серых рёбер скальных выходов.
Ещё дальше к северо-северо-востоку далеко вдавался в океан сильно вытянутый по горизонтали прямоугольник – плато Железнодорожного. Разумеется, ни о каких реальных рельсах на Камчатке ни ныне, ни присно, ни в проектах века и речи не велось; просто с расстояния в сто километров и более – все второстепенные подробности этого довольно гористого и изрезанного полуострова настолько обобщались и сглаживались, что он, в самом деле, напоминал этакую строго параллельную поверхности океанических вод, ровнёхонько отсыпанную железнодорожную насыпь.
Кстати, при всей своей замечательной – издаля! – сглаженности именно плато Железнодорожное считалось полюсом относительной недоступности для всего заповедника в целом. Поскольку, во-первых, принадлежало к самому северному, а значит, маломощному и немноголюдному из четырёх заповедных лесничеств. Во-вторых, от накатанной внутризаповедницкой магистрали – прибойки – как раз этот полуостров отъединялся быстротекущими и полноводными, а следовательно, не проходимыми ни вброд, ни по льду реками. И наконец, его возвышенное и одновременно изрезанное крутобокими долинками небольших речек плато раз за разом оказывалось не по зубам массированным, с применением самоходной техники заповедным десантам.
Так что молодому и по-своему честолюбивому Ростиславу Груздеву очень легко было вообразить себя в передовом отряде отважных исследователей – с лёгкой десантной надувной лодкой в рюкзаке и в связке с выросшим и окрепшим Нукером, – закрывающими вот это, одно из последних выпавших на их долю «белых пятен». Такое предприятие казалось ему тем более осуществимым, что ту же «долину смерти» – расположенную всего лишь в двух часах ходьбы от самого посещаемого заповедного кордона! – совершенно случайно открыли обыкновенные туристы и сделали это буквально лет за пять до его появления здесь.
Планы и мечты о грядущих свершениях вновь настроили нашего путника на деловой лад. И не без усилия оторвав свой взор от манящих далей, Груздев перевёл его вниз: отблёскивая серебром, океан неспешно ворочался, мирно вздыхал мёртвой зыбью у него под ногами, неизменно оставляя не затопляемой узкую полоску валунно-песчаного пляжа у самого основания обрыва – отлив! Что ж, первые семь километров предстоящего им на сегодня пути по Косе дадутся им с Нукером сравнительно легко.
Г л а в а Ч Е Т В Ё Р Т А Я
Покончив с обзором, Груздев тем не менее прилаживать лыжи к сапогам-бродням пока не спешил. Хотя окрест, куда ни глянь, повсюду лежали неистребимые камчатские снега. Но первые метров пятьсот их сегодняшнего пути на север проходили по самому взлобку прибрежного увала. И на этом участке их ожидали несколько протяжённых проталин, образованных не за скуповатый счёт ранневесеннего солнышка, а ещё зимними штормовыми выдувами. Достигнув первой из них, Груздев выпустил на проталину щенка. При этом изрядно забитые утренним заморозочком запахи – уже пробующей оттаивать на полуденном припёке земли, прелой растительной ветоши и перебродивших ягод – явственно достигли обоняния наклонившегося к ним человека. Псишку же они по ноздрям просто… – ударили! Ведь доселе в его небогатом жизненном опыте присутствовали: тёплый и духовитый материнский бок в наглухо заваленной снегами родильной конуре да миска с кашей на поклацивающем под коготками полу в хозяйской избе. Замерев, как был поставлен на полусогнутых, щенок быстро-быстро гонял чёрным подрагивающим пятачком пахучий, волшебный, невообразимый воздух.
Но через минуту-другую предприимчивая породная любознательность взяла верх над понуждающей к затаиванию щенячьей робостью. Нукер переступил шаг, второй и вот уже, как заправская охотничья собака, прихватив путеводную струю одному ему ведомого запаха, потянул строго повдоль проталины – в нужном им направлении. А Груздев, знай себе, неспешно вышагивал следом и констатировал: что отныне в ихней маршрутной паре поприбавилось – и на уникальный собачий нюх, и на незаурядный лаячий слух, да и на лишнюю пару глаз.
Но вот проталина закончилась, и вместо того, чтобы по узкой снеговой перемычке перебраться в соседнюю, «крепко взявший след» Нукер заложил крутой вираж вбок… Беззлобно чертыхнувшись, Ростислав снова подхватил его на руки, да так и донёс до самого конца выдувов. Отсюда отлогим и размашистым серпантином уходила вниз неплохо накатанная трасса, ведущая к Перевозу. Груздев быстро, одну за другой, приладил к сапогам лыжи на самодельных креплениях и неспешно заскользил вниз.
Отныне главными жизненными впечатлениями для двухмесячного несмышлёныша были: необозримая снеговая пустыня вокруг, торный путь под ногами и неотвратимо удаляющаяся спина хозяина. Призывно взвизгнув и… – не получив ровно никакого ответа! – щенок дробным неуклюжим галопцем поспешил вниз. Новая маршрутная пара – заработала!
Организованный ещё в далёкие тридцатые годы на краю земли Кроноцкий заповедник – при подобных-то просторах – был спланирован так, чтобы основные его контуры, по возможности, совпадали с естественными природными рубежами. Вот и южная с юго-западной его границы были проведены по руслу реки Семлячик. Не особенно протяжённый , километров на шестьдесят, но по-камчатски полноводный и быстрый Семлячик в нижнесреднем своём течении представлял собой серьёзную водную преграду. А перед самым впадением в большую солёную воду и вовсе размахнулся аж на целый лиман! Вообразите себе: полупресноводное озеро километровой ширины и не менее семи километров в длину. Благодаря своим всегда мутноватым и вечно неспокойным, из-за приливно-отливных течений, водам Семлячикский лиман снискал себе сомнительную славу акватории – непредсказуемой и по-настоящему коварной…
И дабы хоть как-то оградить своих сотрудников от связанного с переправой риска, а заодно и обеспечить надлежащий контроль за всеми в заповедник с юга входящими (равно и исходящими) при лиманном горле был учреждён круглогодичный пост – Перевоз. На протяжении многих лет Перевоз обслуживала семейная чета лесников Киселёвых – Николай Пименович и Прасковья Ильинична, а по-заповедницки просто тётя Паша. От конторы лесничества в Жупанове и до Перевоза клали три полных километра. И будучи уже на ближних подступах к лиману, Ростислав не переставал думать о том, что во всём предстоящем ему недельном маршруте самым узким местом является – Перевоз!
То есть, получив от лесничего «добро», Груздев тем самым приобретал и автоматическое право быть перевезённым туда-обратно. Да и изнывающий от апрельского простоя Пименович только рад будет – лишнему поводу! – запустить свою моторку. Просто личные груздевские взаимоотношения с многолетним заповедницким Хароном, мягко говоря, не сложились…
Пожалуй, виною всему оказалась охота. Старшего сына Ростислава снаряжали на Камчатку всем семейством – папа, мама и уже женатый брат Илья. Вопрос вопросов: брать или не брать с собой в столь легендарные угодья огнестрельное оружие – в смысле, можно ли охотиться, работая в заповеднике? А если брать, то какое? Дело в том, что Ростя с четырнадцати лет оказался счастливым обладателем семейной реликвии – немецкого охотничьего ружья «три кольца» фирмы «Зауэр», перешедшего к нему из рук в руки от дедушки. Но вот охотничий триумвират постановил, и мама Груздева своих мужчин единогласно поддержала: «Зауэром» на Камчатке лишний раз не рисковать! Но взамен выдать Ростиславу из внутрисемейного фонда сильно подержанную курковую «тулку»: ту самую, которую ещё дедушка во время Великой отечественной от немцев в донскую землю закапывал…
Само собой, ни о какой пальбе – в пределах заповедника! – и речи не велось. Но, принимая во внимание, что лесоохрана на местах снабжалась из центральной усадьбы круглый год исключительно консервами, мукой да крупами, в общем, и охоту и рыбалку заповедное начальство всячески поощряло и поддерживало, но при условии: соблюдения всех правил, сроков и в, так называемых, свободных угодьях. Кстати, само Жупаново посреди них и располагалось. Но для жителей посёлка тут же возникала заковыка: местная погранзастава требовала неукоснительного соблюдения двухкилометровой «зоны спокойствия» (без выстрелов!) повдоль государственной границы. А на Камчатке таковой являлась… вся береговая линия; нечего и говорить, что основная водоплавающая дичь только в её пределах и кучковалась. Конечно, можно было всякий раз перед утиной зорькой испрашивать личное разрешение у командира заставы. К сожалению, сей субъект очень часто руководствовался в выдаче таких вот разрешений пожеланиями…– своей левой пятки.
Но даже при таком, патовом, противостоянии одна правовая лазейка всё же имелась: юрисдикция пограничников на заповедные территории не распространялась. И тогда многомудрое заповедное начальство протащило в жизнь соломоново решение: Перевоз – объект бесспорно заповедный (даром что расположен на самом побережье); далее, официальная граница заповедника – именно здесь проведена по главному речному руслу; таким образом вся южная часть Семлячикского лимана, по сути своей те же свободные угодья, на время охотсезона превращалась в зону ружейной стрельбы «для своих».
И начавший работать в заповеднике с мая прошлого года Груздев угодил с корабля на бал – прямо к открытию весенней охоты по перу. Угадать-то угадал, да не всё у него ладилось. После нескольких лет в земле внутренность стволов «тулки» была покрыта такими «раковинами», что ружьё выдавало приемлемую кучность боя шагов…– на двадцать пять. Ростислав же (при своём «Зауэре»!) попривык бить на более серьёзные дистанции. И здесь из охоты в охоту бездарно мазал, делал подранков, горячился и… – сам того не заметил, как в отлив (то есть почти посуху!) перескочил ту самую протоку, которая и отделяла зону охоты от собственно заповедника. На что ему – тут же! – попенял вездесущий Николай Пименович. Причём стыд и раскаянье невольного нарушителя были настолько искренними, что оплошку (промеж собой) тут же и замяли. Но, как показали дальнейшие события, зарубочка-то осталась…
Не далее, как прошлой осенью и вновь на утиной тяге Груздев – опять же из-за слабости ружейного боя – сделал весьма досадного для себя подранка. Это когда подстреленный им в зоне охоты матёрый кряковый селезень, тем не менее, сумел подняться на крыло и перепорхнуть в самое лиманное горло. Была верхняя точка отлива, и полуживую птицу тут же повлекло в океан, в самые буруны… При этом извлечь её оттуда – ни живой, ни мёртвой! – явно уже не было никакой возможности. Так что прицельный, с двадцати шагов завершающий дуплет Груздева был не более, чем актом своеобразного охотничьего милосердия: селезня затянуло в буруны уже бездыханным… Всего этого не мог не видеть и не понимать Киселёв, хотя – чисто формально! – всё лиманное горло принадлежало уже заповеднику.
Но в тот же день на зама лесничего по инстанции – то есть на стол Хохла! – легла докладная, в которой, помимо всего прочего, был упомянут и весенний, новичковый его огрех. Само собой, лесничий ухватился за столь счастливую возможность обеими руками; и с первым же попутным вертолётом на Груздева в центр ушла порядочная "телега". Правда (к вящему разочарованию супругов Яценок) нарушитель-рецидивист отделался всего лишь простым выговором…
Ну, да ладно бы ещё одни хохлы – их психология для Ростислава загадки не представляла. Но Пименович-то – хорош! А ему ведь ещё не один год с Груздевым в одном лесничестве бок о бок работать. И с самой осени перед Ростиславом стояла весьма непростая дилемма: с одной стороны, гордо и уверенно держать планку выше мелкого и обыденного отмщения (а ему случалось полностью подменять Хохла и на месяц, и на два!); но, с другой, всё же каким-то образом по отношению к Киселёву себя вести. Как ни странно, единственно верное решение – в столь ажурной психологической материи! – продемонстрировал ему вскоре сам Пименович, который вёл и держал себя с Груздевым так, как если бы между ними ровным счётом ничего не произошло. И Ростислав довольно быстро перенял для себя эту его манеру. Чисто внешне, разумеется, а вот в душе… В душе Перевоз для него был и есть – самое узкое место!
Подойдя ближе, они, как и полагается, застали Пименовича на посту. Груздеву уже была известна эта внутризаповедницкая хохмочка: из окошка Киселёвского домика чернеющие на снеговом фоне фигурки путников были заметны издалека. И, выставив в открытую форточку казённый бинокль, бывалому стражу лишь оставалось уточнить – кто там на подходе? Ежели чужаки, можно продолжать действовать скрытно, как из засады, а можно и строгости с ходу им напустить… Ну, а ежели свои и погода позволяет – Пименович завсегда на посту!
То есть в своём всесезонном, вылинявшем до неопределённого цвета ватничке и серо-голубых, для холода абсолютно непробиваемых, надёжно подбитых изнутри собачьим мехом штанах лётного образца восседал на перевёрнутой кверху килем дюралевой лодке. Чуть выцветший – но не утративший своей зоркости! – серо-стальной взгляд бездумно скользит по водной глади; на груди привычно подвешен, в случае чего интересного, уже расчехлённый бинокль.
Не спеша поднявшись навстречу пришедшему с насиженного места, Киселёв много утратил от своей забронзовевшей, как у всякого изваяния, значимости. Ибо оказался человеком совсем небольшого росточка и почти миниатюрного сложения, к тому же по-стариковски заметно уже задеревеневшим в суставах и позвоночнике… Но зато снабжённый чуть бубнящим и по-командирски зычным баритоном; да и дорогого (на фоне ихней подрасхристанной лесной братии) стоили всегдашняя его выбритость-стриженность и свойственная лишь отставным военным аккуратность, чистота и подтянутость, пусть даже самой затрапезной, рабочей одежды, одним словом – выправка!
– Здравствуй, Николай Пименович!
– И тебе – здорово! Далёко собрался, на Ключах попариться?
– Да нет, на этот раз подале будет, на Шумную.
– Это с ним-то? – Пименович пренебрежительно кивнул на как раз подковылявшего к ним Нукера, вздумавший улечься с дороги псишка покрутился было вокруг своей оси на одном, затем в другом месте, но повсюду был сырой и солёный морской песок, но вот, наконец, пристроился – на единственно сухом и тёплом островке груздевского рюкзака.
От этого небрежения Ростислав аж весь вспыхнул: дело выращивания из первого в его жизни щенка настоящей охотничьей собаки успело стать для него столь сокровенным и значимым, что тут он не спустил бы любому… Но ответил, всё ещё сдерживаясь:
– Пускай… тренируется.
Но и Пименович держал ушки востро и тут же – дипломатично! – поменял и тон, и тему:
– Я вчерась по лицензии нерпу стрельнул. Так моя супружница с утра пораньше пирожки с нерпичьей печёнкой затеяла, отпробовать не желаешь?
Так получилось, что – в узковатом для Груздева – лиманном горле Перевоза именно тётя Паша играла роль предохранительного обводного канала. При этом, что для Ростислава необычайно было важно, ничуть перед ним не заискивала, но и до, и после инцидента с селезнем оставалась неизменно доброжелательной, по-матерински заботливой и слегка по-женски к холостяку-горожанину, живущему здесь своим хозяйством, снисходительной.
Оставалось добавить, что взращённый собственной мамой настоящим гурманом Груздев тем не менее находил парную нерпичью печень (в отличие от её же отдающего рыбой мяса) ничуть не хуже говяжьей; пышные же пирожки с начинкой из чего бы то ни было всем ихним лесничеством почитались тёть Пашиным коронным блюдом…
Но, незаметно сглотнув слюну, на этот раз всё-таки решил характер выдерживать до конца:
– Спасибо. Но я и сам с утра пораньше нарочно плотно позавтракал. Я ведь это, планирую уже сегодня заночевать на Пятой…
От Перевоза и до кордона на Пятой речке клали вёрст двадцать с хорошим гаком, к тому же теперь большая их часть по чертоломной снежной целине, да всё это под стартового веса рюкзаком! Так что, даже ещё не перехватив недоуменный взгляд Пименовича, Груздев, вновь краснея, понял, что подзагнул…
Обоюдно исчерпав все нейтральные темы для поддержания разговора, помолчали неловко. Но вот, хоть как-то желая загладить свой последний ляп, Груздев задал ветерану вопрос абсолютно беспроигрышный:
– А погодка, как думаешь Пименович, постоит?
Тот, глянув орлом из-под насупленных бровей на убаюкиваемую мёртвой зыбью синь океана, на чистенькое утреннее светило и на глазах истаивающий в его лучах низовой, прибрежный туманец, безапелляционно предрёк:
– Денька два-три ещё постоит, а потом как задует!
Зато в дальнейшем действовали уже слаженно и молча: поставили дюральку на киль и – без труда – по отлогому песчаному скату стащили её на воду. После чего, раскатав сапоги, Груздев удерживал её кормой к берегу, а Пименович тем временем, натужно покряхтывая, притащил из соседней сараюшки лодочный «Вихрь» и – по-прежнему сам-один! – сноровисто и умело его закрепил. Ростислав же с тяжестями ему помочь не спешил, зная наперёд, что старик этого терпеть не может… Вслед затем в лодке были размещены: бензобак с гибким резиновым шлангом, пара вёсел, груздевское барахлишко и возбуждённо попискивающий Нукер всё также поверх уже вполне освоенного им рюкзака.
Весь в лупящейся от старости, блекло-голубой покраске «Вихрь» тем не менее завёлся с первого же рывка – чувствовалась рука мастера! Опять же не ухарски напрямик, а по благоразумно вписанной вглубь лимана дуге (дабы, если не дай бог откажет мотор, успеть выгрестись-уйти из отливной стремнины на одних вёслах) перемахнули на ту сторону.
По инерции, с разгона пришвартовав-уткнув лодку носом в прибрежный песочек, Пименович широко развёл в стороны обеими руками: мол, извини, до кунгаса сегодня не получится…
По высокой воде на моторке без опаски проскакивали до самого нашедшего в лимане свой последний причал рыбацкого кунгаса, и это экономило путнику верные три километра. Но в отлив можно было и зацепить…
На что Груздев, согласно кивнув головой в ответ, немедленно приступил к разгрузке. Но, забирая последней ходкой Нукера, всё-таки не удержался и проговорил с интонацией излишне просительной:
– Ну, а назад-то меня перевезёшь, Пименович? Гляди, ровно через неделю к вечеру буду!
– А куда ж я денусь? Сигнальный флажок навесишь, в железку постучишь. Счастливо!
– А вам счастливо оставаться.
Таким вот образом Груздев с Нукером очутились в заповеднике, на Косе. Коса сама по себе являлась достаточно любопытным геологическим образованием. В сущности, это был береговой бар или естественная плотина, изначально возникшая за счёт наносов от разгрузки местных, прибрежных течений и волнового прибоя. Но стоило ей зародиться и слегка приподняться, как напорные речные воды – а для них восставшая со дна перемычка стала препятствием, темницей, – с внутренней, лиманной стороны всячески старались её размыть, разрушить… Но – парадокс! – наново вымываемый ими осадочный материал самой плотины, равно и взвеси песка с глиной постоянно привносимые рекой Семлячиком с окрестных гор при своём выходе в открытый океан тут же вездесущим прибоем подхватывались, тем самым с морской стороны тело бара неустанно подновляя и наращивая. И теперь – уж кто кого пересилит! В данном конкретном месте на протяжении последних веков пересиливала океанская сторона, а значит, существовал лиман и существовала Коса.
Вообразите, слегка приподнятую над океанской поверхностью отлогую и округлую волну из чистого песка… Кстати, о песке – на Камчатском полуострове он в основном вулканического происхождения, то есть тёмно-серого, почти чёрного цвета в смоченном водой состоянии и буровато-серый на обсыхающих пляжах. Итак, на первые метры над поверхностью океана приподнятая – в обе стороны отлогая – песчаная волна, но уж зато в сто-двести метров ширины и на целых семь километров длиной! И хоть нацело состоит из наносного песка, ни о каких дюнах – на манер прибалтийских – на Камчатке не может быть и речи. Во-первых, летний муссонный климат, иными словами, изобилие пресных дождевых осадков. Во-вторых, именно вулканический песок из всех наивозможных песков – самый плодородный! Так что чисто песчаной сохраняется лишь незначительная оторочка в волноприбойной зоне – более широкая с мористой и поуже с лиманной стороны. Всё же остальное – во власти растительных покровов.
На самого Груздева Коса, вопреки выраженной шиловидности своих очертаний на карте, производила впечатление неизгладимо женственное. Прежде всего, наверное, из-за её плодородной щедрости. Настоящие дерева – сказывалась близость солоноватых грунтовых вод – укорениться на ней не могли. А вот знаменитая камчатская жимолость и не менее знаменитый дальневосточный морской шиповник, наливающий оранжево-красные толстомясые плодики размером с небольшое яблочко и идущий на изготовление янтарного варенья, ни вкусом ни цветом не уступающего айвовому… Оба эти ягодные кустарника произрастали на Косе в подлинном изобилии. Водились здесь и голубика с брусникой, а также поражающая воображение своей рясностью, аборигенная и мазучая ягодка – шикша. Недаром в ближайших окрестностях Жупанова именно Коса почиталась лучшими ягодниками, и до сих пор (с разрешения лесничего) местное население от её щедрот пользовалось. Одновременно на самом её носу располагались и неплохие сенокосные угодья. Правда, такое её использование – уже при Груздеве – начинало уходить в область преданий… Но бывалые лесники вспоминали: как заводили круглогодично пребывающий на Косе тракторок типа «фордзон» и быстренько им накашивали-сгребали, а затем уже вручную смётывали стожок по форме и размером с киргизскую юрту! И как последний уцелевший по лесничеству конь – меринок по кличке Мальчик – так всю зиму напролёт возле этого стожка и ютился, вжимаясь от злющих штормов и пург в него с подветренной стороны своим горячим конским боком…
Но ранней весной всё это растительное богатство было надёжно погребено-запрятано в метровой глубины сугробы. Ибо подвижные рыхлые да пухлявые снежные массы – ещё от осенних снегопадов – надёжно застревали-захватывались густейшей травянисто-кустарниковой щёткой, а последующие неистовые зимние пурги дело завершали, их перераспределяя, спрессовывая и укатывая. Так что в том же апреле одолевать снежную целину Косы пешедралом было сущим наказанием: поскольку вроде бы такой надёжный с виду наст вес путника под рюкзаком выдерживал вполне – первые десять шагов! – но зато на втором десятке шедший, шаг за шагом, сквозь него начинал проваливался… Но не лучшим образом чувствовал себя здесь и лыжник: выпуклые и ребристые снеговые заструги – ропаки – начинающие подтаивать на полуденном припёке и схватываться льдистой корочкой по ночам, нудновато сбивали и с ноги, и с темпа.
Ещё неприступнее сейчас выглядела лиманная сторона: изобильный пресноводный лёд неустанными течениями гонялся туда-сюда и, цепляясь за берег, вдоль него торосился. Солёный и открытый океан на широте Жупанова не замерзал вовсе. Но время от времени из более высоких широт наносило плавучие льды. Которые в первый же попутный шторм на берег выбрасывало, где они – на морозном ветру! – вмерзали в мокрый песок намертво. Так что единственной природной магистралью между бастионами вмёрзших льдин и белопенными языками океанского наката оставалась прибойка. Но и она скатертью стелилась под ногами лишь при умеренном волнении и в отлив.
По этим обоим разрешительным условиям на сегодня им с Нукером – пофартило! И Груздев, сам того не заметив, проскочил до отметки кунгаса без передыху. Нукер, быстренько удостоверившись, что игручие и шелестящие о берег волны на самом-то деле живыми не являются, а лишь таковыми прикидываются, прилежно семенил сзади, оставляя за собой на сыром песке по-щенячьи, слегка на раскорячку, трогательную в своей беззащитности цепочку следов.
И когда Груздев уже совсем было вознамерился передохнуть, вдруг с прибойки – метрах в двухстах впереди – начали взлетать один за другим белоплечие орланы. Самый крупный пернатый хищник всего северного полушария, занесённый в Красную книгу эндемик Камчатки – даже единичная встреча с ним заслуживала отдельной дневниковой записи. Здесь же птицыщи по-сытому тяжело отрывались от земли, натужно поработав крыльями, поднабрав высоту и перейдя на привычное им парение, раскруживались в разные стороны – целыми группами! И Груздев, продолжая идти на сближение, первым делом попробовал их пересчитать:
– Две, пять, семь-восемь…
Но тут, вперемежку с орланами, с того же самого места начали вспархивать и чёрные вороны, хоть и более лёгкие на подъём, но тоже далеко не мелкие «птички» – даже в сравнении с орланами! Поначалу успешный подсчёт поневоле смешался…
Навскидку получалось: до полутора десятков взрослых и молодых орланов и не менее дюжины воронов. Такое сочетание, а главное, небывалое скопление прибрежных пернатых хищников и чистых падальщиков могло означать только одно: впереди на прибойке лежало исторгнутое морем большое и съедобное нечто…
И только-только покончив с подсчётами, Груздев – подрагивающими от нетерпения пальцами – извлёк из подвешенного у него на груди бархатно-кожаного футляра свой подарочный цейсовский бинокль, но, едва наведя его на резкость, аж отшатнулся… – от выхваченной и шестикратно приближенной окулярами неожиданности!
Прямо перед ним на прогретом солнышком пляжном песочке, уютно умостившись на нём брюхом, накрепко зажав порядочный кус в передних лапах и характерно – по-собачьи! – поводя головою из стороны в сторону, дабы отрывать-откусывать неподатливую плоть не сравнительно слабыми передними резцами, а острокромчатыми коренными – пировал медведь! И не предупреди птицы Груздева о морском выбросе загодя, да не схватись он сам за бинокль, встречи с хищником – нос к носу! – ему бы не избежать: поскольку светло-бурый и ещё по-зимнему пышный медвежий мех и уже подсохший буроватый же песок прибойки по фону совпадали вполне.
Между тем зоологами-практиками были сформулированы три запрещающие принципа: мать-медведица с малышами-сеголетками, медвежья свадьба и любой крупный хищник возле свежезадавленной им жертвы – во всех этих случаях людям вообще (а человеку-одиночке в квадрате!) к зверям лучше было близко не подходить… И хотя в данном случае многотонный морской выброс (а в бинокль сразу за медведем просматривалось протяжённое и маловразумительное нечто) быть медвежьей давлениной никак не мог, следовало учитывать: что, во-первых, топтыгин вылез из зимней берлоги голодным, а во-вторых, пусть и не кровавое уже, но исторгнутое океаном нечто всё же являлось чьей-то плотью!
Вдосталь наглядевшись на медведя в бинокль, Груздев внимательно по сторонам осмотрелся. К сожалению, как раз в этом месте Коса обуживалась шагов до ста пятидесяти, и местность вокруг не только вполне открытая, но ещё и заснеженная… Так что вовсе незамеченными им с Нукером мишку облезть едва ли получится. Но надо хотя бы попробовать!
Приняв решение, Груздев – наконец-то! – сбросил с себя рюкзак и извлёк из продолговатого бокового кармашка морской сигнальный фальшфейер, а также предусмотрительно расстегнул на внушительном охотничьем ноже фиксирующее рукоять кожаное кольцо-антапку. После чего последовательно: вновь впрягся в уже потемневшие от пота рюкзачные лямки, разместил на левом плече по-прежнему им не увязанные лыжи и удилище, а правой прихватил ожесточённо, но молчаливо барахтающегося Нукера и фальшфейер. В таком виде он вновь, как давеча утром, почувствовал себя особо неуклюжим и громоздким… Но выбирать не приходилось и, прорулив между льдинами, он ступил на ненадёжный снег.
С океана – вместе со смиренными валами мёртвой зыби – тянул лёгкий сквознячок, уносящий на себе прочь, через Косу, все подозрительные запахи. А плеск и шорох небольшого прибоя тем не менее неплохо скрадывал все посторонние звуки. Снаряжение и верхняя одежда на Груздеве были цвета умеренно выгоревшего хаки, то есть, не хуже медвежьей шкуры, совмещали свой тон с общим фоном прибойки. К тому же, обладающий монохроматичным (не цветным) зрением медведь не может похвастаться на особую его остроту. Все эти факторы были не только хорошо известны Груздеву, но и – в полной мере! – им задействованы за время наблюдения.
Но стоило Груздеву полностью выйти на контрастный снег, как зверь тут же оторвался от трапезы и повернул морду в сторону непрошенного гостя. Заметив это, Ростислав в свою очередь приостановился и гикнул во всю мощь своих лёгких. Медведь, не меняя телоположения, то есть мордой по-прежнему в сторону предполагаемой опасности, живо вскочил на все четыре конечности. При этом разглядывающему весь его силуэт в профиль человеку стало ясно видно: как раздалось и провисло у зверя брюхо – нажрался! Груздев гикнул повторно; топтыгин поджал уши и разлапистой рысцой припустил наутёк по прибойке вглубь заповедника. Желая закрепить успех, Ростислав сбросил с рук на податливый наст Нукера, приподнял над головой на вытянутых руках все три продолговатых предмета и, победно заулюлюкав, рысью же поспешил за противником вслед. Но предательский наст отмерил ему пробежки ровно на пять шагов, а на шестой человек со всего маху увяз в сугробе по самые некуда… И покамест из сугроба вытрюхивался, медведя и след простыл.
Не особенно этим обстоятельством удручённый исследователь заспешил к океаническому выбросу. То ли истирающей силой морского прибоя, то ли стараниями падальщиков, а вероятнее всего, и теми и другими вместе туша уже была начисто лишена всех кожных покровов и мощного слоя подкожного жира, не просматривалось также и плавников. Цилиндрической формы остов в восемь с половиной метров длиной и около метра в диаметре казалось нацело состоял из хитроумного переплетения многочисленных кровеносных сосудов, нервных волокон и жил. Такое изобилие кровеносных сосудов сразу под слоем предполагаемого кожного жира могло принадлежать только морскому млекопитающему, судя по длине и форме тела – средних размеров китообразному. При этом с обоих концов, во всяком случае в том положении, в каком располагался сам остов на момент его обнаружения, ротовой полости не просматривалось. Затевать же вскрытие охотничьим ножом в уже начинающем ощутимо попахивать гигантском трупе Груздев просто побрезговал… Так что ограничился простейшими обмерами и схематической зарисовкой в «дневнике наблюдений».
Более ничего примечательного при движении по прибойке вплоть до самого устья ключа Горячего им за сегодня не встретилось. Зная наверняка, что именно Горячий и является первым по счёту значимым, пресноводным потоком, Груздев тем не менее погрузил в его воды свою проверяющую руку – ощутимо тёплые! Как раз на этом тепловом эффекте и выстраивался их заключительный двухкилометровый рывок до самого одноименного с ключом кордона. Горячий ключ протекал по глубоко врезанной им же самим в податливые вулканические породы русловой долинке, которую за долгую зиму пурги от души заваливали снегом, но повдоль неустанно подогреваемого водного потока неизменно поддерживалась где-то метровой ширины прирусловая проталина. Впрочем принимая во внимание факт неустанного наращивания и спрессовывания долинных снегов, к марту месяцу это была уже не просто проталина, а настоящая снеговая траншея где вровень с плечами и даже макушкой высокорослого Груздева, а где и перекрывающая его с головой. То же и по ширине: ключ бурлил перекатами и низвергался водопадиками, круглился омутками и расползался на рукава, далеко неодинаковым был также и отмериваемый пургами на каждом конкретном участке приток снеговой массы – в результате отнюдь не на всём своём протяжении траншея была комфортной для движения под загрузкой. Кое-где приходилось с рюкзаком сквозь неё с усилиями пропихиваться, а то и взгромоздив заплечный мешок себе на голову, и вовсе протискиваться бочком.
Предполагая назавтра спускаться к океану тем же путём, Груздев наконец-то смог разгрузиться от порядком ему наскучивших за перекладыванием с одного плеча на другое лыж и удилища. Но ежели удилище позволительно просто воткнуть комлевым концом в приметный сугроб, то подбитые свежеснятой нерпичьей шкурой лыжи могли вызвать гастрономический интерес и у росомахи, и у тех же медведей. Так что Ростислав присмотрел подходящую каменную берёзу с главной развилкой метрах в четырёх от земли, привязал к поясному ремню пятиметровый страховочный шнур, на другом конце которого были надёжно принайтовлены обе лыжи, покорячился немного, карабкаясь по-медвежьи, в обхват, по лишённому сучьев четырёхметровому стволу. Но зато накрепко увязав их в развилке всё тем же шнуром, за ближайшую судьбу своего основного средства передвижения мог быть абсолютно спокоен.
Но стоило им одолеть два десятка шагов повдоль путеводной проталины, как буквально на ровном месте заартачился Нукер. Достигнув первого реального брода, псишка до этого полдня ковылявший по самой кромке солёного и более чем прохладного океанского наката входить в пресную и приятно подогретую водицу отказался наотрез… Услышав его протестующее повизгивание, Груздев нехотя обернулся: самый первый в предстоящей им череде перебродов, поджимов и омутков выглядел шутейно – воробью по колено и при ровном неспешном течении. Если и начинать тренироваться, то как раз на таком, и человек вновь прибегнул к уже испытанной утренней тактике, то есть показал щенку свою неуклонно удаляющуюся спину. Повизгивание усилилось, в нём прорезались жалостливо-просительные нотки, затем всё резко смолкло. Молодец, справился! Ростислав победно оборотился: не тут-то было! Воспользовавшись естественной выположиной, Нукер на своих острейших, ещё не затуплённых ходьбой, щенячьих коготках сумел-таки выкарабкаться из прирусловой траншеи и вприпрыжку догонял сейчас Груздева, торжествующе перемещаясь по вполне выдерживающему его вес насту где-то вровень с головой хозяина. Каков!
При движении таким вот образом, на два яруса, они одолели с
зполкилометра. Но всё хорошее рано или поздно заканчивается; долинка постепенно обузилась до каньона в миниатюре, и это обстоятельство неизбежно спроецировало свои трудности как при перемещении по руслу, так и наверху. Груздев как раз с остервенением пропихивал свой рюкзак хотя и в скользковатых, но зато успевших поднабрать ледовой крепости объятьях прирусловой траншеи, когда всё нарастающий визг несколько сзади и на уровне его левого уха оповестил, что и у Нукера возникли проблемы… В человеке уже сказывалась дневная усталь, и мысленно пообещав себе, что как только преодолеет трудный участок, так не медля разгрузится от рюкзака и налегке вернётся за незадачливым компаньоном, Ростислав продолжил движение. Между тем повизгивание за спиной достигло своего апогея, а затем оформилось в явственное – бульк! После чего всё стихло. В титаническом порыве, едва не оборвав рюкзачные лямки, Груздев осуществил свой разворот на все сто восемьдесят градусов: на его глазах посреди взбулгаченного падением полуметровой глубины омутка возникла чёрная головёнка Нукера и, рефлекторно отфыркиваясь, теперь уже деловито и молча погребла в сторону до слёз то ли укорённого, то ли умиленного владельца.
Остаток пути до кордона Нукер проделал на руках у Груздева неумело, по-мужски спеленанный в ни разу не надёванную подменную портянку. Первое в жизни купание щенка произошло в приятно подогретой водице, но как только в крутосклонный каньон перестало заглядывать предзакатное солнышко, как тут же вступивший в свои права морозец начал ощутимо покалывать и с вымоченными в ходе спасательных работ рукавами запястья рук, и разогретые ходьбой щёки.
Кордон на Горячих ключах заметно выбивался из череды типовых хибарок, для тепла оббитых толем поверх неизменной доски-пятёрки, и с внутренним жилым помещением ровно наполовину отведённым под нары. Это было просторное и светлое, почти квадратно го сечения строение из полноценного, хорошо проконопаченного, древесного бруса, с жилой стороны к тому же отделанного листовой фанерой под белой эмалевой покраской – роскошь для заповедника неслыханная! Так что остановиться в нём на ночлег в условиях камчатско-полевых уже само по себе было событием эмоционально приподнятым. Но ещё притягательнее его делало наличие природной ванной.
То есть природными были испокон веков бьющие здесь геотермальные родники, которые и формировали истоки всего Горячего ключа. Здравая же идея использовать их под ванну принадлежала поднаторевшим у себя на родине в подобных традициях японцам. Груздев правда так до конца и не разобрался: о каких именно японцах в изустных заповедницких преданиях велась речь? Ведь если уже около трёх веков территория Камчатки была бесспорно российской, то начавшие осваивать ключи для своих оздоровительных целей японцы, вне сомнения, были браконьерами. Но браконьерами из какой исторической эпохи? Времён ли попустительства при царе-батюшке, лихой годины гражданской войны или нашего уже недосмотра из-за крайнего дефицита сторожевых кораблей на тихоокеанской окраине в непростые предвоенные годы.
Во всяком случае деревянное тело сруба, заглублённого где-то на метр в источающий термальные воды грунт, было столь древним, что в пору и при царе-батюшке. Саму же ванну-сруб размерами в метрах около трёх на два кое-как, с трёх сторон и от возможных атмосферных осадков прикрывал дощато-толевый навес. По виду не менее ветхий и древний, но судя по материалу и манере исполнения – наш, кондовый, российский, а значит и более поздний, возможно, пра-заповедницкий.
Растопив разом загудевшую от доброй тяги массивно-металлическую, сварную печь и водрузив на неё неизменный чайник, Груздев поспешил в ванну. Водица в здешних родниках при её выходе на дневную поверхность была ровно такой температуры, что тело, как в хорошей парной, первое погружение выдерживало не более одной минуты. После чего следовало охолонуться всей кожей, исходящей на вечернем морозце лёгким парком. Второе погружение закрепляло привыкание минут на пять. И наконец, с третьего уже можно было смело приступать к процедуре восстановления. Лично для себя Груздев разработал такой способ. Под задницу подкладывался из поколения в поколения перекатываемый по дну ванны специальный седалищный валун. И благодаря такой вот подставке у Ростислава получалось: сидя в воде по самое горлышко и опёршись затылком о верхний венец сруба на одной его стороне, надёжно облокотиться лодыжками вытянутых ног на противоположном его крае. А дальше начинала сказываться разница температур. Во всём теле, погружённом в весьма горячую воду, кожные капилляры раскрывались по максимуму, а в выставленных на вечерний холод голове и ступнях, напротив, обуживадись. И Ростиславу ощутимо начинало казаться: как чув-чув-чув, словно маленьким насосиком, с каждым ударом пульса вытягивает из ног дневную усталь. Он уже знал наверное, что как бы ни уходился, ни наломался под рюкзаком за день, после четырёх-пяти таких вот погружений на следующее утро будешь свеж, как огурчик.
И ещё одна подтверждённая на личном опыте закономерность: чем сильнее наломался, тем ощутимее и слаще внутриванновый отходняк – настоящий походный кайф!
Г л а в а П Я Т А Я
Встав вместе с солнышком, обновлённый и радостный Груздев растопил гудящую от хорошей тяги печь и сварил себе с Нукером самую быструю из каш – пшённую. Сам он принадлежал к той счастливой породе людей, которые не могут пожаловаться на аппетит в л ю б о е время суток; так что сдобренная изрядным кусом сливочного масла каша проскочила в него, как в утку. Оставалось сполоснуть за собой посуду и в путь.
За что он ещё особенно ценил кордон Горячие Ключи, так это за сугубую простоту и скорость вот этой, наименее для него приятной из всех, бытовой повинности. На Ключах достаточно было прихватить с собой весь ворох использованной за вечер и утро посуды и прямо в походных сапогах влезть с нею в самую середину ручья – вода в нём была гарантированно проточной и в меру подогретой. Покончив с посудой, он в считанные минуты сложил наполовину разобранный с вечера рюкзак, после чего сделал запись в «Тетради посещений кордона». Всё – можно выступать!
Погода стояла, и по тому, как с самого раннего утра всё у него в руках кипело и ладилось, он уже знал наверное: денёк – задался! И как бы в первое ему в том подтверждение Нукер, вообразивший видно, что после вчерашнего с головой ему теперь и море по колено – бесшабашно и с ходу брал брод за бродом!
С утренними силами и под горку они проскочили ключ на одном дыхании. И он в первый раз скинул с себя рюкзак только затем, чтобы слазить в развилку берёзы за лыжами. Ещё километра с полтора у них под ногами – вновь под утренний отлив и мерные вздохи океанской зыби – ковровой дорожкой стелилась прибойка.
Далее характер побережья разительно менялся: вместо однообразно выположенной и плавно изгибистой береговой линии здесь прорастала целая щётка из коротковатых и энергично-скальных мысков, перемежаемых слабо врезанными и открытыми всем ветрам бухточками. На этом участке пути разумнее было придерживаться набитой ещё туристами тропы, проложенной на некотором удалении от пляжа. Саму тропу, естественно, замело-перемело-высугробило, но маркировка красной и синей краской на стволах берёз была достаточно яркой, чтобы не сбиться. При этом Нукер исправно семенил сзади по наново прокладываемому лыжником пути.
Постепенно втягиваясь, врабатываясь в подзабытый уже ритм лыжной ходьбы, бездумно следуя всем извивам грамотно вписанной в местный рельеф тропы, Груздев полумашинально отметил, что с дорогой ему по-прежнему везёт. В самом деле, под защитой прибрежных березняков снег всё ещё сохранял свою былую зимнюю податливость: здесь начисто отсутствовали нудновато сбивающие лыжника с ноги ледовой крепости снежные заструги – этот бич открытых пространств. Вместе с тем, неоднократно подтаивающий и смерзающийся всё более крупными кристаллами, начинающий ноздреть снег уже не был настолько пухляв, чтобы широченные охотничьи лыжи утопали в нём с головой, а вместо того с характерным похрупыванием сминался у него под ногами во вполне приемлемую лыжню.
И под этот монотонный хруст так легко и приятно думалось о своём…
…Отец, Груздев-старший, сам профессионально и небезуспешно занятый поисками месторождений урана, мечтал о семейной династии геологов. Как раз заканчивающий десятилетку Ростя с выбором жизненной цели ещё настолько не определился, что ухватился за отцовскую подсказку едва ли не с благодарностью. Вуз на семейном совете наметили попрестижней – геологический факультет МГУ.
И вот сейчас Ростислав вспоминал: как погожим июльским утром в безнадёжно отставшей от столичной моды белой сетчатой рубашке с коротким рукавом, взопревшим от собственной дерзости провинциалом пробирался вдоль высоченной чугунной ограды на Воробьёвых горах, символично отделяющей простых смертных – от студентов Московского университета! Ключом к поступлению для него, в общем-то золотого медалиста, являлась сдача на «отлично» первого экзамена – письменной математики. И когда из пяти предложенных ему в его варианте заданий первые четыре он одолел с ходу и лишь над последним призадумался – минут на пять – Груздев был сильно разочарован: как, это всё?!
Два первых года учёбы у него ушли на выживание в республике под названием общага. На третий он в новых условиях настолько освоился, что стал по сторонам оглядываться и обнаружил: что сильно прогадал – при поступлении. Родной геолфак с некоторых пор уже не казался ни престижным, ни сколько-нибудь интересным – причём последнее в глазах самого Груздева в той степени, что он всерьёз начал подумывать об уходе. Но взамен на первую производственную практику на всё лето закатился аж на Чукотку, и она на какое-то время его примирила: если не с самой геологией, как наукой, то уж по меньшей мере – с геологическим образом жизни.
И лишь к пятому курсу личные пристрастия и вкусы Ростислава окончательно откристаллизовались в триаду: либо филфак своего же университета, либо сценарный факультет ВГИКа, либо литинститут имени Горького. Но в корне менять что-либо за полгода до защиты диплома было всё-таки поздновато… – с точки зрения здравого смысла, но только не самого Груздева!
Если доселе преуспевающий студент-пятикурсник по ему одному ведомым соображениям игнорирует зачётную сессию, значит, он уже в с ё з н а е т: так или примерно так рассуждали препод за преподом – в результате, все пять зачётов Ростиславу проставили «автоматом». Но ведь как раз на стопроцентном заваливании последней сессии и был построен план ухода Груздева: он валит всё что ни попадя – его, естественно, отчисляют за академическую задолженность; после чего, оттрубив два года действительной армейской службы, он имеет все права начать свою студенческую жизнь с чистого листа.
Но, потерпев полное фиаско с заваливанием зачётной сессии, в самый разгар экзаменационной Груздев счёл за благо приобрести авиабилет к родителям, в Казахстан.
– Мама, ты только не волнуйся; Илья завалил сопромат, а я бросил университет, – эта, произнесённая Ростиславом прямо с порога фраза пахнущей валерьянкой и валидолом бронзой была навеки отлита в семейных анналах клана Груздевых. Ибо младший брат Илья, одолевавший в ту пору второй курс Московского геолого-разведочного, в отличие от своего более продвинутого брата был далеко не благополучным студентом. То есть с двух первых экзаменов в эту сессию его уже «вынесли», и неуд по третьему – а им-то как раз и являлся грозный сопромат! – и для младшего означал неизбежное отчисление…
В ту кризисную для семейства Груздевых зиму первое чудо совершилось неожиданно быстро: Илья, которому явно уже терять было нечего, сразу после сопромата подгадал – против своего обыкновения! – не в пивбар, а на пересдачу одного из ранее заваленных им экзаменов и на троечку его спихнул!