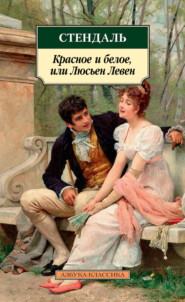скачать книгу бесплатно
– Июльский ли он герой, столяр или сын какого-нибудь жирного богача, пусть будет он кем угодно, но на коне он сидит премило, – сказала госпожа де Сов д’Окенкур. – Уж он-то во всяком случае, поскольку его отец продался, будет избегать разговоров о политике и окажется лучшим собеседником, чем наш Васиньи, который удручает своих друзей постоянными сетованиями и вечными догадками. Скорбные вздохи следовало бы запретить, по крайней мере после обеда.
– Приятный мужчина, свечной фабрикант, столяр – все, что вам угодно, – сказал пуританин Людвиг Роллер, рослый молодой человек с черными, гладко зачесанными волосами, обрамлявшими бледное, угрюмое лицо. – Вот уже пять минут, как я не свожу глаз с этого молодчика, и готов держать пари на любых условиях, что он недавно поступил на службу.
– Значит, он не июльский герой и не свечной фабрикант, – с живостью возразила госпожа д’Окенкур, – потому что после Славных дней прошло уже три года и у него было достаточно времени набраться апломба. Это, должно быть, сын какого-нибудь благонамеренного толстяка, мало чем отличающегося от клики господина де Виллеля[19 - Жан-Батист Серафен, граф де Виллель (1773–1854) – французский государственный деятель эпохи Реставрации.], и возможно даже, что он научился грамоте и умеет держаться в гостиной ничуть не хуже других.
– У него вид не совсем заурядный, – заметила госпожа де Коммерси.
– Но он не так уверенно сидит в седле, как вам это кажется, сударыня, – возразил задетый за живое Людвиг Роллер. – Он держится слишком напряженно и манерно; достаточно его коню чуть-чуть оступиться – и он полетит на землю.
– Это было бы второй раз за один день! – воскликнул господин де Санреаль с торжествующим видом глупца, не избалованного вниманием слушателей и собирающегося рассказать что-то занимательное.
Господин де Санреаль был самым богатым и самым толстым из всех местных дворян. Ему выпало редкое для него удовольствие видеть, как глаза всех присутствующих повернулись в его сторону, и он долго наслаждался этим, прежде чем решился внятно рассказать историю падения Люсьена. Так как своими потугами на остроумие он сильно запутал повествование о столь интересном случае, ему стали задавать вопросы, и он, к великой своей радости, принялся вторично излагать происшествие, однако все время старался выставить героя в более смешном свете, чем это было на самом деле.
– Можете говорить, что вам угодно, – воскликнула госпожа де Сов д’Окенкур, когда Люсьен в третий раз проезжал под окнами ее особняка, – но это очаровательный юноша, и если бы я не зависела от мужа, я пригласила бы его на чашку кофе хотя бы для того, чтобы доставить вам неприятность!
Господин д’Окенкур принял ее слова всерьез; его кроткое и почтительное лицо побледнело от испуга.
– Как, дорогая моя, неизвестного человека? Человека без роду и племени, может быть, рабочего? – умоляюще обратился он к своей прекрасной половине.
– Хорошо, отказываюсь от него ради вас, – прибавила она насмешливо, и господин д’Окенкур нежно пожал ей руку. – А вы, человек могучего телосложения и сведущий, – обернулась она к Санреалю, – от кого вы узнали эту клевету о падении бедного юноши, такого худенького и такого красивого?
– Не от кого иного, как от доктора Дю Пуарье, – ответил Санреаль, сильно задетый насмешкой над его полнотой, – от доктора Дю Пуарье, который находился у госпожи де Шастеле как раз в ту минуту, когда этот герой вашего воображения шлепнулся наземь, как дурак.
– Герой он или нет, но этот молодой офицер уже имеет завистников – начало недурное; я, во всяком случае, предпочла бы, чтобы мне завидовали, нежели завидовать самой. Его ли вина, что он не похож на Вакха, возвращающегося из Индии, или на его спутников? Подождите, пока он станет старше на двадцать лет; тогда он подомнет под себя любого противника. Больше я вас не слушаю, – сказала госпожа д’Окенкур, направляясь в другой конец гостиной и открывая там окно.
Стук распахнувшейся рамы заставил Люсьена повернуть голову, а у Лары вызвал неожиданный приступ резвости, задержавший коня и седока на одну-две минуты перед взорами этой благожелательной компании. И когда Люсьен уже почти проехал мимо открывшегося окна, Лара стремительно подался назад, по-видимому вопреки желанию всадника.
«Это не та молодая дама, что была утром», – подумал он с легким разочарованием и, сдержав сильно возбужденную лошадь, удалился медленным шагом.
– Фат! – промолвил Людвиг Роллер, с гневом отходя от окна. – Это, должно быть, какой-нибудь конюх из труппы Франкони[20 - Франкони – семья знаменитых цирковых наездников, содержавшая в течение многих лет цирк в Париже.], преображенный июльскими днями в героя.
– Действительно ли на нем мундир Двадцать седьмого полка? – с видом знатока спросил Санреаль. – У Двадцать седьмого другие выпушки.
Это интересное и веское замечание дало повод заговорить всем сразу. Обсуждение вопроса о выпушках заняло добрых полчаса. Каждый из этих господ пожелал обнаружить свою осведомленность в той области военной науки, которая вплотную смыкается с портняжным искусством и когда-то доставляла немало радости одному великому королю, нашему современнику.
От выпушек перешли к монархическому принципу, и женщины уже начали скучать, когда подоспел, весь запыхавшись, исчезнувший на короткое время господин де Санреаль.
– У меня новости! – крикнул он с порога, едва переводя дыхание.
Тотчас же монархический принцип был самым жалким образом забыт. Но Санреаль внезапно онемел: в глазах у госпожи д’Окенкур он уловил любопытство, и из него пришлось, так сказать, вытягивать слово за словом его историю. Конюх префекта служил раньше лакеем у Санреаля, и пылкая любовь к исторической правде привела благородного маркиза в конюшню префектуры. Там его бывший слуга сообщил ему обо всех обстоятельствах, сопровождавших сделку. Но случайно во время разговора маркиз узнал от своего собеседника, что, судя по всем данным, овес должен подняться в цене, ибо помощник префекта, ведающий справочными ценами, распорядился немедленно сделать запас для конюшни префекта; и сам он, богатый землевладелец, заявил, что больше не будет продавать овес. Эта новость придала мыслям благородного маркиза совершенно иное направление; он был признателен самому себе за то, что пошел в префектуру; он напоминал собой актера, который, исполняя на сцене роль, узнает, что горит его собственный дом. У Санреаля был овес, предназначенный к продаже, а в провинции малейший денежный интерес сразу затмевает всякий другой: забывают о самом увлекательном разговоре, оставляют без внимания скандальнейшее происшествие. Возвратившись в особняк д’Окенкуров, Санреаль был глубоко озабочен тем, чтобы не проронить ни слова насчет овса: это было необходимо потому, что в гостиной сидело несколько богатых землевладельцев, которые могли бы извлечь из этого выгоду и продать овес раньше, чем продаст он.
В то время как Люсьену выпала честь сделаться предметом общей зависти лучших представителей нансийской знати – ибо стало известным, что лошадь приобретена за полтораста луидоров, – сам он, удрученный убогим видом города, уныло сдавал Лару в конюшне префектуры, пользоваться которою в течение нескольких дней ему разрешил господин Флерон.
На следующий день перед полком в полном сборе полковник Малер де Сен-Мегрен представил Люсьена в качестве корнета.
После парада Люсьен, будучи дежурным, обошел казармы; не успел он вернуться домой, как тридцать шесть трубачей, расположившись под его окнами, приветствовали его тушем. Он с честью выпутался из всех этих церемоний, не столь занимательных, сколь необходимых.
Он был невозмутимо холоден, однако недостаточно; несколько раз, помимо его воли, в углу рта у него появлялась легкая усмешка, не оставшаяся незамеченной. Так было, например, когда полковник Малер, обняв его перед выстроенным во фронт полком, неловко осадил своего коня и тот подался немного в сторону от коня Люсьена; но Лара, восхитительно повинуясь легкому движению повода и шенкеля седока, плавно последовал за несвоевременно отступившей лошадью полковника. Так как на командира полка смотрели с еще большей завистью, чем на франта, приезжающего из Парижа готовым корнетом, этот ловкий маневр не ускользнул от взоров улан и доставил много чести нашему герою.
– А еще говорят, что английские лошади тугоузды! – сказал вахмистр Лароз, тот самый, который накануне вступился за Люсьена, когда молодой человек упал на землю. – Они тугоузды для тех, кто не умеет держать повод. Этот желторотый юнец, во всяком случае, хорошо сидит в седле. Видно, что он подготовился, прежде чем вступить в полк, – с важностью прибавил он.
Уважение к 27-му уланскому, сквозившее в этих словах, приятно пощекотало самолюбие соседей вахмистра.
Однако, выравнивая своего коня с конем полковника, Люсьен, сам того не чувствуя, усмехнулся краешком губ. «Проклятый республиканец, я тебе это еще припомню!» – решил про себя полковник, и с той минуты у Люсьена оказался враг, имевший возможность благодаря своему служебному положению причинить ему много зла.
Когда наконец Люсьен избавился от поздравлений офицеров, от дежурства по казарме, от тридцати шести трубачей и т. д., он почувствовал, что ему невероятно грустно; надо всем всплывала только одна мысль: «Все это довольно пошло. Они говорят о войне, о неприятеле, о героизме, о чести, а неприятеля вот уж двадцать лет нет и в помине. И мой отец утверждает, что скупой парламент никогда не решится отпустить деньги на мало-мальски серьезную войну. На что же мы годимся? Только на то, чтобы проявлять рвение, словно продажные депутаты!»
Придя к этому глубокомысленному заключению, Люсьен, окончательно потерявший всякую бодрость, собирался прилечь на диван провинциальной работы, но под тяжестью его тела одна из ручек дивана обломилась; он вскочил в ярости и разнес вдребезги старую рухлядь.
Не лучше ли было сходить с ума от счастья, как это случилось бы в положении Люсьена с молодым провинциалом, воспитание которого не стоило ста тысяч франков? Значит, существует ложная цивилизация? Значит, мы еще не достигли высшей ступени цивилизации? А между тем мы с утра до вечера изощряемся в остроумии над бесконечными неприятностями, сопутствующими ее успехам!
Глава шестая
На следующий день утром Люсьен снял на центральной площади квартиру у господина Бонара, торговца зерном, а вечером узнал от господина Бонара, которому об этом сообщила маркитантка, поставляющая водку к столу унтер-офицеров, что подполковник Филото открыто выступил в качестве покровителя Люсьена, защитив его от не совсем благожелательных намеков полковника Малера де Сен-Мегрена.
Люсьеном овладело сильнейшее раздражение. Этому содействовало все: и безобразие города, и грязные кафе, заполненные офицерами, носившими такой же мундир, что и он; и то, что среди стольких лиц он не увидел ни одного, на котором лежала бы печать даже не благожелательности, но хотя бы той простой вежливости, какая в Париже встречается на каждом шагу. Он зашел навестить господина Филото, но это уже был не тот человек, с которым он вместе путешествовал. Филото защитил его и, чтобы дать Люсьену почувствовать это, принял по отношению к нему важный и грубо покровительственный тон, еще усиливший дурное настроение нашего героя.
«И все это для того, чтобы зарабатывать девяносто девять франков в месяц! – думал он. – Что же должны были вытерпеть люди, обладающие миллионами? Как! – с яростью возвращался Люсьен к той же мысли. – Пользоваться покровительством! И чьим! Человека, которого я не взял бы себе в лакеи!» – Несчастье склонно преувеличивать.
Будь его хозяин достойным парижанином, они не обменялись бы и десятью словами за целый год при той суровости, едкости и несговорчивости, какими в эту минуту отличался Люсьен. Но толстый господин Бонар имел лишь одну слабость – любовь к деньгам, вообще же был общителен, услужлив, уступчив, поскольку речь не шла о том, чтобы зарабатывать четыре су на мерке зерна. Господин Бонар занимался торговлей зерном. Он распорядился обставить комнату нового постояльца подходящей мебелью, и не прошло двух часов, как оба они с большим удовольствием беседовали друг с другом.
Господин Бонар посоветовал Люсьену отправиться к госпоже Бершю и сделать себе запас крепких напитков. Без почтенного торговца зерном Люсьену никогда не пришла бы в голову простейшая мысль, что корнет, слывущий богачом и только что вступивший в полк, должен иметь возможность блеснуть своим запасом крепких напитков.
– Это, сударь, госпожа Бершю, у которой такая красивая дочь, мадемуазель Сильвиана; у нее постоянно покупал полковник де Бюзан. Это та самая нарядная лавка, рядом с кафе; торгуясь, найдите какой-нибудь предлог, чтобы поговорить с мадемуазель Сильвианой. Это наша мещанская красавица, – прибавил он серьезным тоном, плохо вязавшимся с его толстой физиономией. – Оставив в стороне порядочность, которой она отличается и которой нет у других, она легко может выдержать сравнение с госпожами д’Окенкур, де Шастеле, де Пюи-Лоранс, и т. д., и т. д.
Славный господин Бонар приходился дядей господину Готье, главарю местных республиканцев; не будь этого, он никогда не позволил бы себе углубиться в столь опасные размышления. Но юные редакторы «Aurore», американской газеты, издаваемой в Лотарингии, часто захаживали к нему поболтать за стаканом пунша и убеждали его, что он должен считать себя оскорбленным некоторыми действиями знатных землевладельцев, продававших ему свой хлеб. Хотя эти молодые люди объявляли себя строгими республиканцами и считали себя толковыми, они в глубине души сокрушались, видя, что отделены непроницаемой стеной от знатных молодых женщин, красотой и прелестью которых они могли любоваться только на улице или в церкви. Они мстили тем, что подхватывали все сплетни, выставлявшие в неблагоприятном свете добродетель этих дам, но единственным источником злословия была в данном случае только домашняя прислуга, потому что в провинции иной связи, хотя бы косвенной, между враждующими классами уже не существует.
Но возвратимся к нашему герою. Просвещенный господином Бонаром, он снова нацепил на себя саблю, надел кивер и отправился к госпоже Бершю. Он купил ящик киршвассера, затем ящик коньяка, затем ящик рома, помеченный 1810 годом, сделав все это с небрежной гримасой, с подчеркнутым безразличием к цене и с видом превосходства, имевшим целью поразить воображение мадемуазель Сильвианы. Он с удовольствием убедился, что эти замашки, достойные водевильного полковника, произвели желаемое впечатление. Добродетельная Сильвиана Бершю поспешила в лавку; она увидала в васисдас[21 - Васисдас – окно в магазине, предназначенное для продаж.], устроенный в полу комнаты, расположенной над торговым помещением, что покупатель, из-за которого перевернули вверх дном всю лавку, был не кто иной, как молодой офицер, который накануне гарцевал на Ларе, пресловутой лошади господина префекта. Эта первая красавица среди мещанок Нанси соблаговолила выслушать несколько учтивых слов, с которыми к ней обратился Люсьен. «Она в самом деле хороша, – подумал он, – но не в моем вкусе. Это статуя Юноны, скопированная с античного образца современным художником; ей не хватает тонкости и изящества линий, формы слишком массивны, но в ней есть немецкая свежесть. Большие руки, большие ступни, очень правильные черты лица и бездна жеманства, под которым легко угадывается еле замаскированное высокомерие. И эти люди еще возмущаются высокомерием светских женщин!» Люсьену бросилась в глаза ее исполненная какого-то вульгарного благородства манера откидывать голову назад движением, очевидно имевшим целью напомнить о приданом в двадцать тысяч экю. Подумав о скуке, ожидавшей его дома, Люсьен затянул свое пребывание в лавке. Сильвиана с торжеством подметила это и снисходительно предложила его вниманию несколько достаточно искусно закругленных фраз, выражавших ходячие истины насчет господ офицеров и опасностей, таящихся в их любезности. Люсьен ответил, что опасность обоюдная, что в данный момент он это чувствует, и т. д., и т. д. «Должно быть, девица заучила все это наизусть, – решил он, – ибо, как ни заурядны эти прекрасные фразы, они выделяются на фоне ее обычной речи».
Таково было восхищение, которое внушила ему мадемуазель Сильвиана, нансийская красавица, и, когда он вышел из лавки, городок показался ему еще более мрачным. В задумчивости шел он за тремя ящиками со «спиртным», по выражению мадемуазель Сильвианы. «Теперь надо найти лишь подходящий повод, – подумал он, – чтобы отослать один или два ящика подполковнику Филото».
Вечер был томителен для молодого человека, вступившего на самое блестящее и самое веселое поприще на свете. Его лакею Обри, уже много лет служившему в доме его отца, вздумалось корчить из себя педанта и давать ему, Люсьену, советы. Люсьен объявил слуге, что завтра утром отправляет его в Париж, и поручил ему отвезти госпоже Левен ящик сливового варенья.
Покончив с этим, Люсьен вышел из дому. Погода была пасмурная, с севера дул холодный, пронизывающий ветер. На Люсьене был парадный мундир; он не мог снять его, так как был дежурным по казармам, и, кроме того, перечислив множество его обязанностей, ему сказали, что без особого разрешения полковника он не должен и мечтать о штатском сюртуке. Ему только и оставалось, что прогуливаться пешком по грязным улицам укрепленного города и слышать через каждые двести шагов дерзкий оклик: «Кто идет?» Он курил сигару за сигарой; после двух часов такого приятного времяпрепровождения он принялся отыскивать книжную лавку, но не мог найти. В одном лишь окне увидал он книги и поспешил войти в лавку: это оказались «Дни христианина», выставленные на продажу у торговца сыром, у городских ворот.
Он прошел мимо нескольких кафе; стекла всюду запотели от дыхания множества людей; он не решился войти ни в одно из этих заведений: он представлял себе, как невыносимо там пахло. Услышав доносившийся оттуда смех, Люсьен впервые в жизни почувствовал зависть.
В этот вечер он основательно призадумался над различиями в формах управления государством, над преимуществами, к которым следовало бы в жизни стремиться, и т. д., и т. д. «Будь здесь какой-нибудь театр, я попробовал бы поухаживать за одной из певичек. Я нашел бы, вероятно, ее приветливость менее тяжеловесной, чем у мадемуазель Сильвианы, и уж по крайней мере она не помышляла бы выйти за меня замуж».
Никогда еще будущее не рисовалось ему в столь мрачном свете. Всякая возможность менее печальных перспектив отпадала для него, поскольку он не мог справиться с неотвязной мыслью: «Так проведу я год или два, и как бы я ни старался, я все время буду делать то же, что делаю теперь».
Несколько дней спустя, по окончании занятий, подполковник Филото, проходя мимо квартиры нашего героя, увидал на пороге дома Никола Фламе, улана, которого он прикомандировал к Люсьену для ухода за его конем. (Простой солдат ходит за его английской лошадью! Люсьен раз десять на дню должен был заглядывать в конюшню.)
– Ну, что ты скажешь о корнете?
– Славный малый, господин полковник, очень щедр, но что-то невесел.
Филото поднялся наверх.
– Я пришел осмотреть ваше жилище, дорогой товарищ; ведь я вам дядька, как говорили в Бершини, когда я служил там бригадиром, – это было еще до Египта, потому что в вахмистры я был произведен только в Абукире, при Мюрате, а в корнеты – две недели спустя.
Однако все эти подробности героической эпопеи Люсьен пропустил мимо ушей; он вздрогнул при слове «дядька», но тотчас взял себя в руки.
– Ну что же, дорогой дядюшка, – весело ответил он, – весьма польщен таким родством. Есть у меня тут три почтенных родственника, которых хочу иметь честь вам представить. Речь идет об этих трех ящиках: первый – «Вдова Киршвассер из Шварцвальда»…
– Беру ее, – громко расхохотавшись, объявил Филото и, подойдя к раскрытому ящику, взял оттуда бутылку.
«Мне не пришлось ломать себе голову, подыскивая благовидный предлог», – подумал Люсьен.
– Но, полковник, эта почтенная родственница поклялась никогда не расставаться со своим братом, носящим имя «Коньяк тысяча восемьсот десятого года». Понимаете?
– Черт возьми, я не знаю человека остроумнее вас. Вы в самом деле славный малый, – воскликнул Филото, – и я должен быть признателен нашему приятелю Девельруа за то, что он меня познакомил с вами.
Это не было простою скупостью у нашего достойного подполковника, но он никогда не подумал бы раскошелиться на два ящика спиртных напитков и был в восторге, что они точно с неба свалились к нему. Отведывая поочередно киршвассер и коньяк, он долго сравнивал их между собою и пришел в умиление.
– Но поговорим о деле: я ведь явился сюда именно для этого, – сказал он с таинственно-многозначительным видом, грузно опускаясь на диван. – Вы швыряетесь деньгами. Купить трех лошадей на протяжении трех дней – я не осуждаю вас: прекрасно, прекрасно, отлично! Но что скажут ваши сослуживцы, у которых только одна лошадь, да и то нередко трехногая? – прибавил он, громко расхохотавшись. – Знаете, что они скажут? Они объявят вас республиканцем. В этом наше уязвимое место, – хитро заметил он. – А знаете, чем вы должны ответить? Красивым портретом Людовика-Филиппа верхом на коне, в богатой золотой раме, который вы повесите здесь, над комодом, на почетном месте; а теперь всего лучшего, честь имею.
Он не без труда поднялся с дивана.
– Человек умный понимает с полуслова, а вы мне не кажетесь слишком непонятливым; честь имею.
Это было обычным приветствием полковника.
– Никола! Никола! Позови-ка кого-нибудь из этих штафирок, слоняющихся без дела на улице, и присмотри за тем, чтобы он снес ко мне домой, знаешь, на Мецскую улицу, дом номер четыре, эти два ящика – только, черт возьми, не вздумай докладывать мне, что по дороге одна бутылка разбилась. Без этих штук, приятель!
– Но, думается мне, – сказал Филото Люсьену, – добро все же следует поберечь! Как бы одна из бутылок не разбилась. Пойду-ка я за ними шагах в двадцати, не подавая вида. Прощайте, дорогой товарищ! – И рукой, затянутой в перчатку, он показал на место над комодом: – Вы поняли меня? Хороший портрет Людовика-Филиппа.
Люсьен думал, что он уже избавился от него, но Филото снова показался в дверях.
– Да, вот еще! Никаких зловредных книжонок в ваших чемоданах, никаких дурных газет или брошюр, в особенности ничего из дурной прессы, как говорит Маркен.
С этими словами Филото сделал четыре шага от порога и присовокупил вполголоса:
– Этот высокий рябой поручик Маркен, который прибыл к нам из Парижа, – он приставил руку ребром к углу рта, – его побаивается сам полковник. Словом, хватит. Не попусту же всем даны уши, как по-вашему?
«В сущности, он хороший человек, – решил Люсьен. – Как и мадемуазель Сильвиана Бершю, он нравился бы мне, если бы меня не тошнило от него. Мой ящик киршвассера принес мне большую пользу». И он вышел из дому, чтобы приобрести портрет Людовика-Филиппа, самый большой, какой найдется.
Через четверть часа Люсьен возвратился в сопровождении рабочего, несшего огромный портрет, который наш герой нашел уже вставленным в раму, по заказу полицейского комиссара, только что назначенного на эту должность благодаря господину Флерону. Люсьен задумчиво смотрел, как вколачивали гвоздь и вешали портрет на стену.
«Отец часто говаривал мне, и теперь я понимаю его мудрые слова: „Ты кажешься совсем не парижанином по рождению среди этих людей, изворотливый ум которых никогда не возвышается над уровнем полезных для них целей. Ты считаешь всех и вся крупнее, чем это есть на самом деле, и превращаешь в героев, положительных или отрицательных, всех своих собеседников. Ты слишком высоко расставляешь свои сети, как сказал Фукидид о беотийцах“». И Люсьен повторил цитату на греческом языке, которого я не знаю.
«Парижская публика, – прибавлял мой отец, – услыхав о чьем-либо низком или предательском поступке, на котором кто-то нагрел руки, восклицает: „Браво, это ход, достойный Талейрана!“ – и искренне восхищается.
Я предполагал, что мне придется предпринять ряд осторожных, остроумных и трудных мер, чтобы удалить со своей репутации налет республиканства и роковое клеймо: „Ученик, исключенный из Политехнической школы“. Пятифранковая литография и рама стоимостью в пятьдесят четыре франка разрешили весь вопрос – вот что нужно этим людям! Филото смыслит в этом деле больше меня. В этом-то и состоит подлинное превосходство гениального человека над толпою: он вместо ряда мелких шагов совершает одно только действие – ясное, простое, поражающее всех и служащее ответом на все вопросы. Я сильно опасаюсь, – прибавил Люсьен со вздохом, – что очень не скоро стану подполковником» и т. д.
К счастью для Люсьена, который в эту минуту склонен был поставить себя ниже всех, на углу его улицы заиграла труба, и ему пришлось поспешить в казарму, где страх получить резкое замечание от начальства заставлял его внимательно относиться к своим обязанностям.
Вечером, когда он вернулся домой, служанка господина Бонара вручила ему два письма. Одно было написано на простой школьной бумаге и грубо запечатано. Люсьен разорвал конверт и прочел:
Нанси, департамент Мерты… марта 183* г.
Господин корнет Молокосос!
Храбрые уланы, прославившиеся в двадцати сражениях, созданы не для того, чтобы ими командовал парижский франтик; жди всяких бед; ты всюду встретишь Мартына с дубинкой; складывай поскорей свои пожитки и убирайся подобру-поздорову! Советуем тебе это в твоих же интересах. Трепещи!
Следовали три подписи с росчерками:
Шасбоде, Дюрелам, Фумуалекан.
Люсьен покраснел как рак и задрожал от гнева; тем не менее он распечатал второе письмо. «Должно быть, женское», – подумал он. Оно было на прекрасной бумаге и написано весьма тщательным почерком.
Милостивый государь,
посочувствуйте порядочным людям, краснеющим от того, что они должны прибегать к такому способу обмена мыслей. Не для великодушного сердца имена наши должны оставаться тайной, но полк кишмя кишит доносчиками и соглядатаями. Благородное ремесло воина превращено в школу шпионства! Так подтверждается истина, что крупное вероломство поневоле влечет за собой тысячу мелких подлостей. Предлагаем вам, милостивый государь, проверить путем собственных наблюдений следующий факт: не являются ли пять офицеров – лейтенанты и корнеты – господа Д., Р., Бл., В. и Би… весьма изящные молодые люди, принадлежащие, по-видимому, к избранному кругу общества (это заставляет нас опасаться, что они могут вас пленить), – шпионами, выслеживающими людей с республиканскими убеждениями? В глубине души мы исповедуем эти священные убеждения, в один прекрасный день мы прольем за них нашу кровь и смеем верить, что вы готовы в свое время и в надлежащем месте принести ту же жертву. Когда наступит великий день пробуждения, положитесь, сударь, на друзей, которые чувствуют себя равными вам только в силу глубокой жалости к несчастной Франции.
Марций, Публий Юлий, Марк. За всех этих господ – Vindex[22 - Мститель (лат.).], который убьет Маркена.
Письмо это почти целиком уничтожило впечатление гнусности и мерзости, вызванное первым посланием. «Брань на дрянной бумаге, – сказал себе Люсьен, – это анонимное письмо 1780 года, когда в солдаты вербовали на набережных Парижа всяких мошенников и выгнанных лакеев; это тоже анонимное письмо, только датированное 183* годом.
Публий! Vindex! Бедные друзья! Вы были бы правы, если бы вас было сто тысяч; но вас всего две тысячи человек, быть может рассеянных по всей Франции, и Филото, Малеры, даже Девельруа прикажут на законном основании расстрелять вас, если вы сбросите с себя маску, и их поддержит подавляющее большинство».
Все, что испытал Люсьен со дня приезда в Нанси, было до того мрачно, что за неимением лучшего он занялся этим республиканским посланием. «Было бы лучше, если бы они все уехали в Америку… Но поехал бы я с ними?» Над этим взволновавшим его вопросом Люсьен надолго задумался.
«Нет, – решил он наконец, – к чему обольщать себя надеждой? Пусть тешится этим глупец. Во мне слишком мало суровой доблести, чтобы разделять образ мыслей Vindex’a. Мне стало бы скучно в Америке, среди людей, может быть безукоризненно справедливых и рассудительных, но грубых и думающих только о долларах. Они вели бы со мной беседы о десяти коровах, которые ближайшей весной должны принести им десять телят, а я предпочитаю говорить о красноречии господина Ламенне[23 - Фелисите Робер де Ламенне (1782–1854) – французский богослов и писатель.] или о таланте госпожи Малибран[24 - Мария Малибран (1808–1836) – испанская певица, легенда мирового оперного искусства.] и сравнивать последний с талантом госпожи Паста[25 - Джудитта Паста (1797–1865) – итальянская певица.]. Я не могу жить с людьми, не способными мыслить утонченно, как бы они ни были добродетельны. Я сто раз отдал бы предпочтение изысканным нравам какого-нибудь развращенного двора. Вашингтон наскучил бы мне смертельно, но я с большим удовольствием очутился бы в одной гостиной с господином Талейраном. Значит, чувство уважения к самому себе для меня еще не все; я испытываю потребность в развлечениях, возможных только при наличии старой цивилизации.
Но в таком случае, несчастный, мирись с развращенностью правительств, продуктом этой старой цивилизации; только глупец или ребенок может одновременно питать противоположные желания. Мне внушает отвращение скучный здравый смысл американцев. Рассказы о жизни молодого генерала Бонапарта, победителя в битве на Аркольском мосту, вызывают во мне восторг: для меня это Гомер, Тассо и даже в сто раз больше. Американские добрые нравы представляются мне омерзительной пошлостью, и, читая сочинения их выдающихся людей, я испытываю только одно желание: никогда не встречаться с ними в свете. Эта образцовая страна кажется мне торжеством глупой и себялюбивой посредственности, перед которой под страхом гибели надо низкопоклонничать. Будь я крестьянин с капиталом в четыреста луидоров и пятью детьми, несомненно, я приобрел бы и стал возделывать каких-нибудь двести арпанов земли в окрестностях Цинциннати. Но что общего между этим крестьянином и мною? Умел ли я до сих пор заработать стоимость одной сигары?
Эти славные унтер-офицеры не пришли бы в восторг от игры госпожи Паста, им не доставила бы удовольствия беседа с господином Талейраном – они больше всего хотят стать ротмистрами. Они воображают, что в этом счастье. Действительно, если бы речь шла лишь о том, чтобы послужить родине, они, пожалуй, на этих местах оказались бы во сто крат достойнее, чем те, кто их занимает: ведь есть немало людей, получивших чин тем же путем, что и я. Они, эти унтер-офицеры, полагают, и не без основания, что республика сделала бы их ротмистрами, и чувствуют, что способны оправдать повышение геройскими поступками. А я, хочу ли я быть ротмистром? Говоря правду, нет.
Значит, я не республиканец; но мне внушает отвращение подлость Малеров и Маркенов. Что же я собою представляю? Не бог весть что, по-видимому. Девельруа сумел бы бросить мне в лицо: „Ты человек, счастливый тем, что получил от отца аккредитив на имя главного сборщика налогов департамента Мерты“. Бесспорно, с точки зрения экономической, я стою ниже моих слуг; я чудовищно страдаю с тех пор, как зарабатываю девяносто девять франков в месяц.
Но кого же уважают в свете, с которым я начал знакомиться? Человека, сколотившего капитал в несколько миллионов или купившего газету для того, чтобы его восхваляли в ней восемь или десять лет подряд (не в этом ли заслуга господина де Шатобриана?). Не в том ли заключается высшее счастье обладателя крупного состояния, вроде меня, чтобы прослыть человеком умным у женщин, одаренных умом? Значит, придется ухаживать за женщинами – мне, который с таким презрением относится к любви и в особенности к влюбленному мужчине!
Разве не начал господин де Талейран свою карьеру с того, что сумел удачным словом осадить надменную заносчивость герцогини де Граммон?
За исключением моих бедных, одержимых безумием республиканцев, я не вижу ничего такого на свете, к чему стоило бы относиться с уважением: все известные мне почтенные репутации в какой-то мере основаны на шарлатанстве. Республиканцы, быть может, люди помешанные, но по крайней мере не подлецы».
Дальше этого умозаключения Люсьен при всем желании пойти не мог.
Умный человек сказал бы ему: «Поживите немного больше, и все предстанет вам в ином свете. А пока удовлетворитесь – как это ни пошло – сознанием, что вы никому не причиняете вреда. В самом деле, вы слишком мало видели на своем веку, чтобы судить об этих важных вопросах. Подождите и не торопитесь».
Такого советника у Люсьена не было, и он, предоставленный самому себе, блуждал в области туманных догадок.
«Значит, моя репутация будет зависеть от суждения какой-то женщины или сотни женщин хорошего тона? Что может быть смешнее этого! С каким пренебрежением я относился к влюбленному мужчине, к моему кузену Эдгару, ставящему свое счастье и даже уважение к самому себе в зависимость от мнения молодой женщины, которая все утро провела у ***, обсуждая достоинства нового платья или насмехаясь над почтенным человеком, вроде Монжа[26 - Гаспар Монж (1746–1818) – французский математик.], только потому, что у него заурядная внешность!
Но, с другой стороны, угождать простолюдинам, как это необходимо делать в Америке, свыше моих сил. Мне нужны изысканные нравы, плоды развращенного правления Людовика Пятнадцатого, а между тем, кто является наиболее примечательным человеком такой эпохи? Какой-нибудь герцог де Ришелье или Лозен[27 - Герцог де Ришелье (1696–1788) – французский государственный деятель, типичный представитель галантной придворной культуры. Его «Мемуары» были напечатаны в 1869 году. Герцог Лозен (1747–1793) – французский генерал, командовавший революционными войсками. По его бумагам были составлены «Мемуары», изданные в 1822 году.], чьи мемуары дают картину жизни тогдашнего общества».
Мысли эти повергли Люсьена в чрезвычайное волнение. Дело шло о том, что он считал своей религией, дело шло о доблести и чести; а, согласно этой его религии, без доблести не было счастья. «Господи! С кем бы мне посоветоваться? Каково мое место с точки зрения действительной ценности человека? Нахожусь ли я в середине списка или в самом конце его?.. А Филото, несмотря на все мое презрение к нему, занимает почетное место, он блестяще сражался в Египте и был награжден Наполеоном, который знал толк в воинской доблести. Что бы ни делал Филото теперь, это за ним останется; ничто не может отнять у него почетной репутации человека, получившего в Египте из рук Наполеона чин ротмистра».