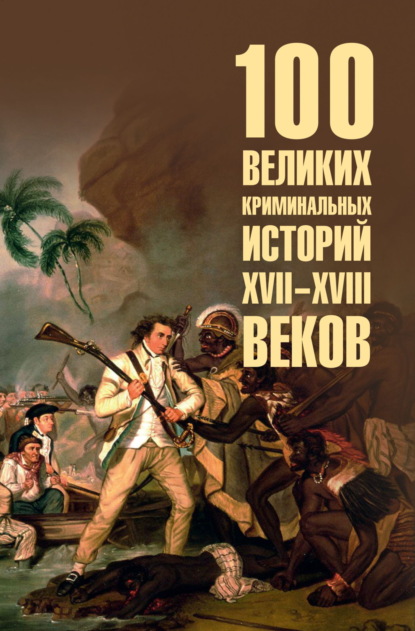
Полная версия:
100 великих криминальных историй XVII-XVIII веков
Без трудностей не обошлось – посадские во главе с атаманами и казаками отказывались возить лес для тюрьмы. Они раскидали бревна по улицам и заявились к Тарарыкову. Тот смог угомонить их, но на всякий случай накатал отчет о том, что «…за атаманами и казаками – села и деревни со крестьянами многими». Это был сигнал о том, что крестьяне встанут на сторону атаманов и казаков, а не органов правосудия. Гуляй поле! Скорее всего, он внутренне послал этот сигнал самому себе – «Держи ухо востро, Неустрой! Здесь, если что, нож в спину воткнут».
Людей тоже понять можно: кому охота строить себе же острог? Это же все равно что намыливать веревку. А еще и губная изба строится, где тебя будут за руки подвешивать. Дальше – больше. Еду заключенным доставляли их же родственники. А у кого из заключенных нет родных, тех выпускали в город милостыню просить. Ну не абсурд?
Работа сыщикаЗанимаясь делом ограбления Плясова, Тарарыков действовал в соответствии со статьей 18‑й Уставной книги Разбойного приказа. То есть вначале проводил так называемый «лихованный обыск» – на деле это был опрос местных жителей. Так были вызваны и допрошены 63 атамана, 170 крестьян и 2 священника.
Разбойный приказ не собирался игнорировать происшествие с атаманом Тарасовым. Тарарыкову было велено найти убийц и доложить в Разбойный приказ, а с поручителей Тарасова (то есть с его заступника Львова?) взять штраф. Поскольку виновность Тарасова априори не вызывала сомнения, его имущество было приказано продать.

Допрос в Средневековой Руси
И вот через три года, в сентябре 1632 года, Тарарыков продавал имущество виновных. Покупателями были в основном атаманы и торговцы. Плясову полагалась компенсация за ущерб и потерянное имущество. И тут можно догадаться, что Тарарыков любил действовать в соответствии с порядком, но его помощники, судя по некоторым материалам, брали взятки, а за ними стояла преступная группа, куда входили и атаманы, и воеводы, и даже священники.
Глава ХХI Соборного уложения 1649 года трактует такое понятие, как «обыск» (ст. 29, 35, 36) или «большой повальный обыск» (ст. 35). Причем до введения этого уложения существовал обыск розыска, то есть – розыск разбойников определенной округи всей земщиной, и обыск суда – допрос жителей об известных им фактах. В 1649 году произошло соединение этих действий. А предполагаемая территория обыска была 15—20 верст.
Обычно такие действия предпринимались, если преступник пойман, но не сознается. Если он был пойман во время совершения преступления, то пытки к нему применялись с целью узнать, не совершал ли он до этого других правонарушений.
Убийство сыщикаИтак, в 1627—1632 годах Н.Г. Тарарыков был воронежским губным старостой, и его «главной задачей был розыск и наказание разбойников, убийц, татей – «ведомых лихих людей», то есть наиболее опасных уголовных преступников».
Однако в 1632 году при исполнении обязанностей Тарарыков был убит в селе Глушицы. И его убийцами оказались воронежские бояре И. Соболев и А. Иевлев. Ни о какой мести речи не шло. Судя по всему, это было ограбление. Но почему бояре позарились на одежду седока и оснастку коня? Не мелковато ли для бояр? Или все-таки при Тарарыкове были деньги, вырученные при продаже имущества преступников по делу Плясова? Мы ведь помним, что весь сентябрь 1632 года он занимался реализацией конфиската.
Удивительно выглядит челобитная сына старосты, Ивана Неустроевича Тарарыкова, поданная в начале 1639 года: «под отцом убили: конь рыж – цена 15 руб., да с коня сняли седло и узду – полтретья рубли, да с отца сняли зипун сукно костряж – 4 руб., кафтан комчат двоеличен – 7 руб., да саблю булатною оправною – 12 руб., да шапку – 2 руб.».
Не цинично ли, что сын, потерявший отца, человека в городе уважаемого, требует возмещения ущерба за седло, уздечку и шапку убитого? Впрочем, с момента убийства прошло уже семь лет, и скорбь, очевидно, закончилась.
Да и 2 рубля за шапку в те времена были большими деньгами, если учесть, что денежный оклад Ивана Неустроевича, проживавшего в отцовском поместье, был 8 рублей. Младший Тарарыков имел и земельный оклад 250 четвертей.
Вдова губного старосты Авдотья Тарарыкова горевала три года, а в 1635 году вышла замуж за Трофима Ивановича Михнева, сделавшего хорошую карьеру при дворе: он одним из первых получил чин выборного дворянина. В приданое от жены он получил поместье в селе Чертовицком, а в 1651 году ему досталось и поместье его падчерицы Анны (очевидно, умершей) в селе Глушицы и деревне Пекшево.
Обычная, в общем, история. Только вот что стало с «детьми боярскими И. Соболевым, А. Иевлевым», совершившими убийство местного следователя, неизвестно.
Стольничий разбойничий
Если крестьян, собиравшихся в банды, хотя бы можно было понять, ибо голод не тетка – пирожка не подсунет, то весьма необычным оказались банды грабителей, состоявшие из бояр. Самой известной считается шайка московских придворных во главе со стольником Прохором Кропотовым.
Днем эти вполне пристойные, уважаемые люди прислуживали во дворце, они носили придворное платье, охраняли царя и его семью, сопровождали их в загородных походах, а ночью нападали на подмосковные села, грабили, насиловали и убивали.
Это была уже последняя четверть XVII века, эпоха Алексея Михайловича Тишайшего. Служили Прохор и его сообщники, конечно же, во дворце, построенном к 1671 году в Коломенском. В те времена этот район, сегодня один из центральных в Москве, был окружен селами и полями. Царь по окончании войны с Речью Посполитой решил устроить Государев двор на новом месте и выбрал для этого живописное Коломенское.
Прохор Васильевич Кропотов и его банда, в которую входили правая рука главаря Мещерский, стольник царицы Д.Б. Зубов, Л.В. Кропотов, С.И. Кропотов, И.Б. Зубов, стряпчие Т. Киселев и Г. Бехметьев, стольники Лаврентьев и Васильев, боярин С. Писарев, стряпчий Абросимов и еще полтора десятка московских чиновников, нападали на подмосковные села, жгли избы, убивали хозяев. На их счету оказались десятки жертв, а позднее следствие установило и другие насильственные преступления, не имевшие никакого рационального объяснения: бандиты не гнушались «блудным насилием» «над бояронами и над девицами».
Но даже бесчинства в окрестностях столицы не были пределом мечтаний разбойников: очевидно, памятуя о времени смуты, с которого начинался век, они собирались отправиться в Польшу и там подговорить шляхтичей вновь двинуться на Москву. Позднее на дознании члены банды показали, что сам Кропотов часто говорил, что отправится к польскому королю за войском, чтобы потом вернуться в Москву и всех своих недругов повесить. А это уже называлось государственной изменой.
Преступления Кропотова и его банды были раскрыты в апреле 1679 года.
Заслуга в этом принадлежала стоявшему во главе следствия боярину Хлопову, который с самого начала подозревал, что банда столь долго уходит от следствия из-за своего высокого положения. Хлопов патрулировал подмосковные уезды с отрядом стрельцов и вскоре напал на след. Но даже тогда он еще не подозревал, что главарем окажется стольник Кропотов, с которым он виделся во дворце почти каждый день. Хлопов узнал о том, что Кропотов возглавляет банду от стольников Лаврентьева и Васильева, попавших в стрелецкую засаду.

Некоторые стольники днем служили царю, а ночью разбойничали
Сам Прохор и его ближайшие сообщники сбежали из Москвы, но потом решили вернуться и искать заступничества у князей В.В. Голицына, С.С. Волконского и Г. Чертенского. Кстати, Кропотов был ранее приказчиком вотчины князя В.В. Голицына и занял у него большую сумму денег. Прохор бежал в село Городня под Тверью, где рассчитывал договориться с Голицыным о заступничестве, но ни у него, ни у других понимания не нашел: от него отшатнулись все.
Кропотов с частью сообщников попытался уйти от погони. Им удалось преодолеть несколько уездов, но в результате вооруженного столкновения несколько человек были убиты, а сам Прохор схвачен: его выманили в Москву, передав фальшивое письмо от Голицына.
Хотя всех участников злодеяний велено было брать живыми, некоторые погибли в ходе столкновения со стрельцами, а иные странным образом скончались уже в темнице, и ходили слухи, что им помогли отправиться на тот свет некие люди, нанятые князем Голицыным, которому, возможно, было что скрывать. Едва ли князь был замешан в разбое, но ведь и Прохор, и другие мещерские бояре постоянно находились в его доме и были в курсе всех его дел.
Бандитов подвергли жестоким пыткам, стремясь выявить круг заговорщиков. 17 июля 1679 года трое предводителей – сам Прохор Кропотов, его брат Лаврентий и стольник Зубов – были казнены на Красной площади путем отсекновения головы. Символично, что к месту казни их доставили на той же телеге, на которой только что везли Стеньку Разина.
Семью Кропотовых сослали в Сибирь. Остальные бандиты также были сосланы в Сибирь, а их родственники разжалованы в городовые дворяне и лишены привилегий.
Интересно, что пострадали даже князья Волконский и Чертенский, которые не оказали Кропотову помощи: им предписали покинуть Москву и поселиться в своих имениях.
Зато князю Голицыну удалось выйти сухим из воды. Во-первых, то самое село Городня, куда так рвался Кропотов, он подарил царю – на «царские рыбные ловли». И, во-вторых, Голицын бывал очень убедителен и, конечно, смог оправдаться.
О дальнейшей судьбе некоторых осужденных стало известно. Так, сосланный в Курск бандит С. Писарев стал запойным пьяницей, закладывал и продавал поместья, вел себя как бешеный, часто устраивал драки и нападал на случайных встречных.
Имущество осужденных, причем немалое, было конфисковано. У Кропотова, по некоторым данным, было 80 дворов, у Т. Киселева – 67 дворов, у Г. Бехметьева – 33 двора, у стряпчего Абросимова – 10 дворов, у Мещерского – 6 дворов.
Для чего же этим вполне обеспеченным людям понадобилась такая кровавая и рискованная авантюра? Пощекотать нервы себе и безвинным людям? Ощутить вседозволенность и власть над другими? Наиболее полно эти события освещены в книге историка П.В. Седова «Закат Московского царства». Судя по всему, эти люди, представители уездного дворянства, внезапно попавшие в Москву на службу, просто не справились с обилием впечатлений – им хотелось чего-то большего: власти, куражу, денег.
Клопенок и бравые капитаны
Только что начался XVIII век, а вместе с ним и Северная война. С крестьян начали взимать дополнительный, чрезвычайный налог. В 1702 году бежецкий воевода собирал с каждого двора по 2,25 рубля, полторы осьмины (157,5 л) ржаного хлеба, пол-осьмины (52,5 л) овса и 20 пудов сена. К весне поборы с крестьян еще выросли.
«Станица»И теперь уже помещики Бежецкого уезда (ныне – Тверская область) жаловались в центр на невыносимую жизнь, которую им устроили «многие воры и разбойники… руские люди и кореленя…» (Материалы Российского государственного архива древних актов. – Здесь и далее цит. по: Усенко О.Г. «Эхо северной войны: разбойничество в Бежецком уезде (1702 год)»).
Словом «кореленя» называли в то время уроженцев Карелии, которых в Бежецком уезде было довольно много.
К бежецким помещикам присоединились помещики Новгородского и Устюжско-Железопольского уездов, утверждая, что банда орудует там, «где те уезды сошлис поблиску». Кстати, там, в Устюжско-Железопольском уезде, бандитов довольно успешно гонял бравый капитан Арист Михельсон, о котором речь пойдет позже.
Деяния Кропоткина не были крестьянским восстанием. Просто некоторые наиболее решительные и аморальные крестьяне, лишенные чувства эмпатии, но жаждущие наживы и жестоких развлечений, сбились в разбойничий отряд и стали грабить и убивать.

Набеги разбойников начались весной 1702 г.
Деятельность разбойников началась весной 1702 года, примерно в марте – апреле. В банду входили местные крестьяне, карелы-переселенцы и беглые солдаты. О том, что там были дезертиры, свидетельствуют солдатские сумы, принадлежавшие некоторым бандитам. Ну куда же без беглых солдат: у них и оружие имелось, и убивать они умели лучше остальных, и духовность у них после войны притупилась.
Через месяц после начала разбойничьей деятельности в шайке состояло уже около сотни человек. У них было все как будто по-настоящему – и собственное знамя с «кумашными значками» из тафты, и разнообразное оружие – от ружей, пистолетов и пищалей до рогатин, копий и бердышей.
Сегодня такое большое преступное объединение назвали бы ОПГ или ОПС. В то время группировка была схожа с казацким отрядом и была названа самими разбойниками «станицей».
Атаманом неуловимой шайки стал некий Степан Алексеевич Кропоткин, а его заместители назывались есаулами. Кропоткин получил прозвища Клопенок и Чекмарь. Слово «чекмарь» на современном языке звучало бы как «дубина» или «колотушка». Хорошее прозвище для главаря и крутого парня. Но почему же Клопенок? Возможно, так его называли в детстве.
Откуда взялся этот Кропоткин-Клопенок неизвестно. Был ли он коренным жителем Бежецкого уезда, можно только предполагать. Говорили, что и брат Клопенка Андрей Крохарь, и его зять Варлам Тимофеев разбойничали вместе с ним. Этот зять Тимофеев был из деревни Лазорково Бежецкого уезда, принадлежавшей помещику Петру Козловскому. Позднее состав шайки начал понемногу проясняться, чему способствовали задержания бандитов. Так были пойманы русские В. Тимофеев, Г. Федоров, Ф. Раденок: первый из названных был зять атамана. Все эти люди были помещичьими крестьянами Бежецкого уезда. Но были среди пойманных и карелы из дворцовых крестьян – А. Павлов, М. Константинов.
СтановщикиДолгое время шайку невозможно было обнаружить, потому что у нее не было своего логова или лесного лагеря. Места расположения все время менялись. Кроме того, часто разбойники просто расходились по своим домам к семье или отсиживались у становщиков – тех, кто держал у себя притон и прятал награбленное. Они же кормили бандитов и давали ночлег.
Любимым местом «станицы» была деревня Иван-гора в Кесемской волости (ныне – тоже Тверская область), где у банды имелись два русских становщика – Федор Федоров из деревни Васюткино, принадлежавшей стольнику Л.М. Глебову, и Константин Кириллов из деревни Ледково, принадлежавшей Я.В. Федорову. Вторым лежбищем шайки стало карельское село Мякишево Пятницкой волости, где становщиками были карелы – Василий Пантелеев из деревни Благовещенье Сандовской волости и Федор Семенов из деревни Тимошкино Пятницкой волости. Родственники членов шайки тоже часто были становщиками, а приятели прятали некоторых разбойников уже в конце 1702 года, когда шайка потерпела крах. Такими укрывателями были карелы из деревень Пятницкой волости – крестьянин Игнатий из Ильинской, Лукьян из Терпигорева и отец М. Константинова из деревни Быково. Семен Домренок и его братья из деревни Берези тоже укрывали у себя членов шайки.
БеспредельщикиГрабили помещиков, священников и зажиточных дворцовых и монастырских крестьян. В первый раз еще в апреле 1702 года напали на село Якушкино, ограбили помещицу-вдову Склятину и ее крестьян. Потом ограбили село Елкино, принадлежавшее князю И.М. Юсупову-Черкасскому.
В Новгородском уезде ограбили несколько сел, убили двух местных попов и их причетников, закололи копьем сына пономаря «и, вспоров груди и утробу, вынели из нево сало...».
Уже в середине мая, вернувшись в Бежецкий уезд, они разорили село Черемесь, в котором пострадали дома вдов Аксиньи Михайловой и Катерины Милюковой. Помещиц и их слуг жгли и мучили.
В селе Погорелки князя А.Ю. Мещерского и деревне Бориса и Глеба князя П.Ф. Хилкова тоже побывали люди Клопенка. Разорили и разграбили все дома, а двух крестьян и крестьянку замучили до смерти и сожгли.
Брали «пожитки и денги», но зачем-то портили и то, что забирать не было смысла: «платце плохое и всякую домовую рухледь и спосуду, чего они с собою не взяли, и то все на огне пожгли и изрубили и изломали».
Для чего было творить такое зверство – и своего брата крестьянина жечь, и все ненужные вещи ломать? Это уже напоминало живодерство и садизм.
Тем же, кто пытался сопротивляться, угрожали местью и обещали разорить все села без остатка. Поэтому многие помещики и крестьяне молчали: «И Бежецкого де уезду помещики, и люди их, и монастырских вотчин прикащики, и крестьяня з женами и з детми живут по лесам, и многие, покиня домы свои, выезжают в городы от такова великого разорения и надругателства».
На помощь «своим»Но в это самое время, еще в конце весны, атаман Кропоткин узнал об участи другого атамана Григория Гори, орудовавшего в Угличском уезде. Он этого Горю знал, порой вместе дела проворачивали. Теперь же Горю и некоторых его сообщников захватил сыщик Иван Сумароков и держал под стражей в селе Чамерове, намереваясь отправить в Вологду.
Банда Кропоткина пошла выручать товарищей. Сумароков, узнав, что «воры де и разбойники атаман Степка Чекмарь с товарыщи… ходят разбоем з знамены в Чамеровском присуде около Чамерова села в ближних местех верстах в десяти и менши, и многие де села и деревни, и в селех церкви божии пожигают, и многих людей до смерти бьют и жгут», написал письмо воеводе Углича. Упоминал он и о том, что ему самому грозит смертельная опасность, как и селу Чамерову.
У Сумарокова был свой отряд «погонщиков», и ему удалось прогнать бандитов в Бежецкий уезд. Это просто удивительно, учитывая, что большие потери были и со стороны «погонщиков»: «на тех боях они, воры, многих погонщиков побили, для того что у погонщиков ружья нет». Спрашивается: как получилось, что отряд Сумарокова, направленный на борьбу с бандитизмом, не был вооружен ружьями? Несмотря на такую вопиющую странность, банда, вооруженная куда лучше, потеряла около трех десятков человек и не смогла освободить подельников, которые, кстати, уже были отправлены в Вологду днем раньше.
У Кропоткина в тот момент осталось чуть больше шестидесяти людей, но вскоре численность банды вновь стала расти за счет крестьян, стремящихся поживиться.
Именно тогда к банде пристал крестьянин села Пруды Григорий Федоров – тот самый, который позднее тоже был пойман. Кстати, село Пруды принадлежало помещику А.Н. Тютчеву, о котором позднее писалось: «Афонасей Никититич Тютчев служил у рейтар подполковником и от той службы за очной болезнью из старостью отставлен и ныне он Афонасей очьми не видит а поместья за ним и вотчин жилого и пустого так же людей и крестьян ничего нет потому что те поместья и вотчины справлены за вышеписанными детьми ево» (Перепись 1710 года: Санкт-Петербургская губерния: Бежецкий уезд: Сказки, поданные стольнику Любиму Афанасьевичу Лихачеву (РГАДА. Ф.1209. Оп.1. Д.11447)).
Ценные показанияНа допросе Григорий Федоров рассказал, что из Иван-горы разбойники двинулись в село Молоково и там пограбили хлеб и всякие съестные припасы, а оттуда пошли в деревни Савачево и Перевертку, где «крестьян жгли и девок и женок блудили. И ис тех де деревень Савачева и Перевертки пришли они… в вотчину Ивана да Семена Змеевых в село Деледино и в том селе Деледине у попа обедали. И ис того села Деледина они… пришли в вотчину адмиралтейца Фёдора Матвеевича Опраксина села Кесмы в деревню Елцыно и в той деревне жгли корелянина Гарасима прозвище Щербака, а выжгли денег у него, Гарасима, два рубли. А из деревни де Елцына пришли они… тое жь вотчины в деревню Хвастово и в той де деревне корелянина Тимофея жгли… и разбоем взяли у него, Тимофея, денег пять рублев».
Теперь они выглядели не народными мстителями и романтизированными искателями справедливости, а садистами и подонками.
Судя по показаниям Федорова, «ис села де Кесмы пришли они… в Бежецкой же уезд в вотчину Симонова монастыря в село Чернецкое, и то де село… и деревню Романцово они… выжгли. И ис села Чернецкого пришли они… дворцовой Пятницкой волости в деревню Мякишово».
В какой-то момент шайка решила передохнуть и двое суток стояла в селе Васюткино, принадлежавшем стольнику Леонтию Глебову. Григорий видел, как Кропоткин отдал награбленное становщику Федору Федорову.
При этом Григорий не упомянул деревни Глазачево и Волково, село Хабоцкое при Знаменском монастыре, вотчину Ф.М. Апраксина, села стольника А.И. Яхонтова. Возможно, не хотел увеличивать список своих злодеяний.
Дальше Григорий Федоров «от них, разбойников, ушел», видимо, решил не искушать судьбу. Почему он ушел именно в это время, он не объяснил. Известно, что пойманный карел Константинов отстал от разбойников именно в Мякишево, где банда намеревалась отдыхать. Есть предположение, что и Федоров, и Константинов уже знали, что на Мякишево идут отряды Ивана Сумарокова и воеводы Никиты Титова. Они намеревались штурмовать село и уничтожить шайку. В последний день мая их лагерь уже был возле деревни.
Судя по всему, бой был кровопролитный: «И с теми де ворами был у них бой, и те де воры ево, Микиту, и сыщика, и которые с ними уездные люди были, побить хотели до смерти, а иных порубили и перестреляли до смерти». Но бандитов удалось сильно побить. Остатки шайки откатились в деревню Чернятино Пятницкой волости. На время разбои прекратились, но уцелевшие бандиты намеревались «Бежецкой город и уезд и в селе Чамерове людей порубить и выжечь… всех без остатку». Только это им не удалось, потому что в Бежецкий уезд прибыли два капитана.
Бравые капитаныГлавную роль в уничтожении шайки сыграл капитан Михаил Лисогорский, прибывший в Бежецк из Москвы с полусотней солдат. Не сразу ему удалось разговорить запуганных крестьян, но все же удалось. В этом ему помог капитан из Устюжско-Железопольского уезда Арист Михельсон, которого местные знали как охотника на разбойников. Крестьяне и сами ненавидели Кропоткина и его «станицу», поэтому охотно начали помогать в поисках бандитов двум капитанам Преображенского полка.
Лисогорский действовал абсолютно новыми методами: он допросил первую партию схваченных бандитов и сразу отправил группу захвата по адресам. Потом допрашивал новых арестованных и опять отправлял отряд солдат.
От Кропоткина стали уходить сообщники, они чуяли, что земля под ногами горит. Кто-то из них возвращался к семье, другие прятались у друзей. Во второй половине лета Лисогорский и Михельсон захватили еще одиннадцать бандитов. В этом им помогли карельские крестьяне Павел Аксенов и Гаврила Никифоров из деревни Глазачево, давшие показания против В. Тимофеева и Ф. Раденка. Кстати, этот Раденок, покинувший свою родную деревню Волково, нередко приходил туда же разбойничать, потому что не ладил с отцом: «приходил по многое время в ту деревню Волково ко отцу своему с разбоем со многими товарыщи и поимать себя не дал».
Житель деревни Иванихи Матвей Федоров сам изловил в лесу вооруженного рогатиной разбойника А. Федорова и сдал в отряд. Этот Андрей Федоров был выходцем из крестьян Белозерского уезда.
Отряд Лисогорского вернулся в Москву в конце августа 1702 года. Теперь поисками бандитов занимался капитан Михельсон. В конце года Бежецкий уезд был очищен от бандитов шайки Кропоткина. Но о судьбе тех, кому удалось сбежать и спрятаться, ничего неизвестно, как и о судьбе самого Кропоткина.
Черная вдова или жертва домостроя?
В стародавние времена порой применялись такие удивительные способы наказания и смертной казни, что иначе как средневековым варварством это назвать нельзя. Так, в Соборном уложении говорится: «А будет жена учинит мужу своему смертное убийство, или окормит его отравою, а сыщется про то допряма, и ея за то казнити, живу окопати в землю, и казнити ея такою казнею безо всякия пощады, хотя будет убитого дети, или иныя кто ближния роду его, того не похотят, что ея казнити, и ей отнюд не дати милости, и держати ея в земле до тех мест, покамест она умрет».
О чем говорит нам этот отрывок? Как мы видим, о том, что не считались ни с родными, ни с детьми, которым расти отныне сиротами. Ничего не говорится и о причинах поступка женщины: нередко ведь поступок был оправдан алкогольными дебошами, издевательствами над женой и детьми. Но «жена да убоится мужа своего» было важнее отчаянья женщины, доведенной до предела терпения. Между прочим, у Ф.М. Достоевского в «Дневнике писателя» есть горькая статья о несчастной, которую муж-садист уже в более позднем XIX веке подвешивал за ноги ради смеха. Женщина от отчаянья повесилась, а свидетелем был вызван малолетний ребенок, и великий писатель с гневом обличал и скользких адвокатов, готовых ради славы защитить мерзавца и подвергнуть опасности ребенка, и соседей, утверждавших, что подозреваемый – человек богобоязненный, регулярно посещавший церковь.

