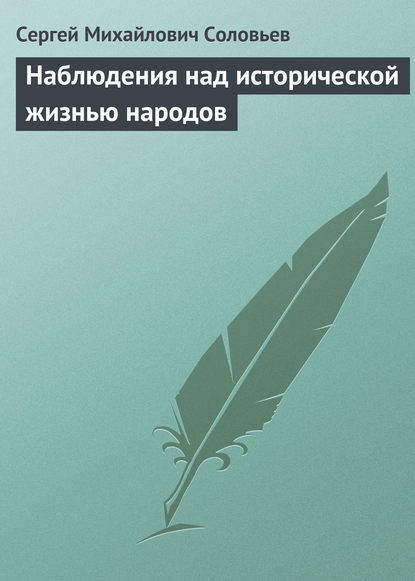 Полная версия
Полная версияНаблюдения над исторической жизнью народов
Легко понять, за кем осталась победа. Таким образом, при начале новых государств мы видим два движения, две борьбы: движение варваров – борьбу их с материальными силами Рима и друг с другом, эти движения кончились победою варваров; с другой стороны, видим нравственное движение, борьбу, поднявшуюся изнутри римского мира под знаменем религии, и здесь победил римский мир; под покровом церкви сохранилось и прошло в новую жизнь и греко-римское просвещение, особенно посредством языка, удержанного церковью.
В новом мире явилось начало, которого не мог представить ни древний греко-римский мир, ни варвары, – начало, которое явилось в новом христианском греко-римском мире и отсюда перешло к варварам, это – духовенство с могущественным влиянием во всех сферах жизни благодаря его учительному, пророческому характеру. При начале новых государств мы уже видим двойственность в духовенстве. В первые века христианства, когда церковь была относительно немногочисленна и особенно воинственна, не одно духовенство, но более или менее и другие верующие имели этот возбужденный, пророческий характер, были борцами против неправды и несовершенств мира сего за высшие начала.
С течением времени, с распространением христианства и господством его возбуждение в массе духовенства и мирян уже по тому самому, что это была масса, должно ослабевать, но борьба новых начал со старыми прекратиться не могла, и борцы, пророки являются.
От человека, проповедующего воздержание от земных пристрастий и большее внимание к исполнению нравственных обязанностей, от такого человека естественное требование, чтобы он сам подал пример отречения от этих пристрастий. Пример действует сильнее всего, и слово получает могущество от дела. По-видимому, вне общества, в бегстве от него, в недоступных пустынях явились новые пророки, но это самое бегство и укрывательство от общества и производило на него самое могущественное впечатление, и голос вопиющих из пустыни был самым громким голосом. Новые пророки, монахи, стали поэтому на первом плане в христианском обществе; не будучи сначала священниками, они стали образцами для священников; общество потребовало от них, чтобы они были священниками и первосвященниками, – требование, по-видимому находившееся в противоречии с значением монаха, но совершенно согласное с потребностями общества, обновлявшегося под влиянием новой религии.
Таким образом, монашество, приближаясь наиболее к идеалу, поставленному для общества религией, завоевало для себя привилегию высшей степени духовной иерархии; оно же преимущественно приняло на себя и продолжение апостольской деятельности, проповедование христианства иноверным народам, и тем еще более возвысило свое значение. На Востоке, подчинившись нравственно силе монашества, уступили ему право на архиерейство, но священство осталось и за немонахами, но сочли благоразумным и возможным требовать, чтобы все духовенство носила этот чрезвычайный пророческий характер, состояло из людей, отрекшихся от всех мирских привязанностей; ограничиваться же одною формальностью не сочли делом нравственным.
Но на Западе, как увидим, взглянули на дело иначе, потребовав, чтобы все духовенство носило монашеский характер; а монашеский образ, по тем представлениям, которые составились вследствие жизни первых монахов, был образ ангельский. Таким образом, употреблено было страшное насилие природе человеческой, и печальные следствия насилия не замедлили обнаружиться.
С самого начала христианства главные пастыри церкви, епископы, являются уже с важным значением. Кроме канонического объяснения явления его легко понять и посредством одних исторических наблюдений. Самое верное определение характера первоначальной церкви это – Церковь воинствующая; для борьбы нужны вожди, которых и рождает борьба; для успеха борьбы вожди должны иметь обширную, крепкую власть.
Римская империя, разрушаясь вследствие исчезновения материальных сил, поспешила прибегнуть под покров нравственной силы, имеющей жить и создать новое общество, поспешила прибегнуть под покров христианства, объявив его господствующей религией; человек, чувствуя приближение смерти, видя, что в материальных, земных средствах нет более спасения, прибегает к силам духовным, отказывает свое имение церкви. При этом значение епископов могло только еще более усилиться. Городское население, напуганное бедами, нависшими со всех сторон над империей, ограбленное казною, сплачивалось около своих епископов, людей сильных средствами нравственными и материальными.
С самого начала на Востоке и Западе одинаково раздаются слова, что власть духовная выше светской, как дух выше тела; что нет выше этой власти, которая если свяжет на земле, то вместе с этим свяжет и на небеси. Епископское звание становится высшей целью честолюбия для людей, выдающихся из толпы по своим талантам, положению, материальным средствам. Но это звание достигалось избранием паствы. Общественная жизнь, которая в цветущее время властительных городов так сильно выражалась в избрании правительственных лиц, оцепеневшая в последнее время, вдруг заволновалась снова выборами главного, пастыря церкви, не главного жреца, исполнителя религиозных обрядов, но человека, имеющего власть взять и решить; религиозный интерес, обхвативший так всецело общество, дал этим выборам самое важное значение.
Легко понять, на какой общественной высоте чувствовал себя избранник; легко понять, какое значение имело собрание епископов для решения вопросов, ставших на первом плане для общества; какое значение имел Вселенский собор, этот невиданный языческою древностью всемирный форум.
Таким образом, варвары, войдя в области империи, легко одолели ее войска, ее воевод, ее светского правителя, но встретили неодолимую силу в церкви и в ее главных пастырях, епископах; с этою силою они должны были входить в соглашения и не только делиться с нею властью, но и нередко преклоняться пред нею. Она служит посредницей между прошедшим и будущим Европы, между греко-римским и варварским миром; ею преимущественно поддерживается обаяние Рима, испытываемое варварами. Это посредствующее значение и сила церкви, сила ее епископов, резко обнаружились в судьбе самого видного из варварских племен, в судьбе франков, и в их отношениях к римскому миру.
В истории образования важнейших континентальных европейских государств заключается общее любопытное явление: везде в них северная половина получает преимущество перед южной: с севера идет сила, подчиняющая себе все части государственной области, собирающая землю, вследствие чего сосредоточивающие пункты или столицы находятся в северных частях государства, несмотря на то что на юге, по-видимому, больше благоприятных условий для народного развития. Такое явление мы видим во Франции, в Испании, в России; потом Северная Германия начинает брать заметный перевес над Южною, и в наше время этот перевес очевиден; в наше же время Италия обязана своим объединением движению из северных своих частей.
В Галлии в то время, когда она стала отламываться от Римской империи, в южных ее частях поместились два сильных варварских народа, бургунды и вестготы, но через несколько времени они должны были признать власть варваров, пришедших с севера, – франков, которые объединили страну и дали ей имя. При этом не должно забывать, что в Галлии, чем далее к северу, тем менее было романизации, которая особенно выражалась в изнеженности нравов; этой изнеженности не остались чужды и бургунды и вестготы.
Франки, как известно, не были многочисленны, и потому сила их вождей после утверждения в Северной Галлии должна была, естественно, основываться на прежнем ее народонаселении, отличавшемся от южного большей крепостью. Не должно забывать также явления, которое было указано нами в Галлии еще во времена ее самостоятельности, – явления, которое было следствием неудовлетворительного состояния политического и экономического быта; это явление – большие шайки голытьбы, беглецов, изгнанников из разных народцев; мы видели, что эта голытьба (egentes ас perditi) давала готовое войско честолюбцам, стремившимся к верховной власти. Владычество римлян не могло уничтожить причины образования этих шаек; мы имеем свидетельства о людях, покидавших свои дома и родину, чтобы спастись от сборщиков податей; часть их бежала к варварам, часть составляла независимые шайки, известные под именем багавдов.
Движение. этих беглецов должно было преимущественно направляться с юга на север, где и образовалось воинственное народонаселение, стремящееся опрокинуться на места прежнего жительства. Мы знакомы с этим возвращением гераклидов. Очень правдоподобно объяснение, что сами франки составились из беглецов, изгнанников, – объяснение, которое оправдывается на их имени (warg, free; наше – варяг, изгнанник, разбойник, волк).
Как бы то ни было, во франках и вожде их Кловисе, или Хлодовике, галльские епископы увидали могущественное средство низложить бургундов и готов, преданных арианству. «Твоя победа есть наша победа», – прямо говорили они Хлодовику. Варвару было приятно под предлогом наказания еретиков приобрести хорошие земли, и он наивно говорил дружине: «Мне не нравится, что ариане-готы владеют лучшими землями в Галлии; пойдем и прогоним их с Божиею помощью; овладеем их землею; мы сделаем хорошее дело, потому что земля эта очень хорошая». Галлия была покорена франками.
«Галлия была покорена франками!» Выражение, которое принимало различный смысл, провозглашалось как непреложная истина, защищалось или упорно отвергалось по причинам вовсе не научным, но, к сожалению, в исторических исследованиях ненаучные побуждения имеют большую силу и если иногда приносят пользу, заставляя уяснять некоторые явления, то польза эта не вполне вознаграждает за вред, причиняемый продолжите-льностию споров вовсе не нужных, натяжками, тратою сил и времени. По вовсе не научным побуждениям, без справки с наукою в конце XVIII века во Франции придумано было историческое объяснение и оправдание революции, что борьба низших слоев народонаселения с высшими есть борьба покоренных галло-римлян с потомством покорителей франков; что такое революция? – свержение ига, наложенного покорителями на покоренных.
Просто, успокоительно и вместе эффектно! Легкое и эффектное объяснение принялось; начали историю Западной Европы объяснять завоеванием, отношениями победителей к побежденным; у нас начали противополагать русскую историю западноевропейской: в Западной Европе завоевания, насилия и потому жестокость отношений; у нас завоеваний нет, варяги призваны, и потому мягкость отношений! Поляки придумали сделать из своей шляхты особый народ завоевателей!
Теперь французы сильно перессорились с немцами; во Франции пишутся многотомные сочинения об истории Германии, где каждое явление стараются выставить в непривлекательном виде: можно ли же допустить как начальное, исходное явление в истории Франции немецкое, франкское завоевание? Разумеется, нельзя, и вот провозглашается, что никакого франкского завоевания не было! Какие же приводятся доказательства? Нет указаний, говорят, чтобы галло-римляне лишились своих земель; они не были порабощены, даже нельзя думать, чтобы они были политически подчинены. В советах королевских, в войсках, в должностях публичных, в судах, в народных собраниях даже обе части народонаселения смешиваются.
Летописцы беспрестанно указывают человека франкского происхождения подле человека галльского происхождения, не обозначая никогда, чтобы первый имел высшие политические права, ни чтобы его франкское происхождение доставляло ему большее уважение. Галлы подчинялись франкским королям, но мы не видим признаков, чтобы они подчинились франкскому племени.
Что касается вопроса о землевладении, то его нельзя решать так легко в том и другом смысле. Прежде всего нельзя противопоставлять франков галло-римлянам относительно всей страны, которую мы теперь называем Францией. Франкское занятие страны не было первым; прежде она была занята в известных частях своих бургундами и вестготами, которые поделили землю с прежними владельцами, поделили и рабов, необходимых для ее обработки; то же самое произошло и в Италии при поселении в ней варваров. Тут была еще занята земля с согласия римского правительства, но франки под предводительством Хлодовика заняли позднее ту часть Галлии, где еще держались римляне под начальством Сиагрия, заняли ее, разбивши войска Сиагрия, уничтоживши в лице этого начальника последний остаток римской власти в Галлии.
Мы совершенно спутаемся в понятиях, если за таким явлением не станем признавать характер завоевания, покорения и если станем отрицать необходимые следствия тогдашнего завоевания, покорения. Нам известно, что победители-франки опустошили страну побежденных, не щадили и церквей и собранную добычу делили, причем все должны были получить известную долю, от вождя до последнего воина, как то ясно из знаменитого рассказа о церковном сосуде, которого простой франк не хотел уступить Хлодовику. Если приобреталась и делилась добыча движимого, то на каком основании мы будем утверждать, что завоеватели не смотрели на землю как на добычу и не поделили ее между собою?
Мы не станем утверждать, что все галло-римляне лишились своих земель; не считаем только себя вправе делать предположение, что франки удовольствовались только казенною землею или никому не принадлежащею. Потом покорены были бургундские и вестготские части Галлии: что же, и здесь не было покорения? Действительно, мы видим людей галло-римского происхождения в приближении у королей франкских, в важных должностях; но, во-первых, есть ли средства определить отношения этих случаев к общему правилу; во-вторых, и в Турецкой империи, где подчиненность покоренного христианского народонаселения завоевателям-магометанам не подлежит сомнению, мы видим людей из этого подчиненного народонаселения, занимающих важные должности, обнаруживающих сильное влияние.
Нам говорят, что галло-римляне подчинились франкским королям, но не франкскому племени; но и в Турции христианское народонаселение подчинено султану, а не туркам; здесь дело идет не о подчинении в собственном смысле, а о первенствующем положении. Франки составляли войско своих королей – это неоспоримо; какое значение имело войско, вооруженная сила в те времена? Значение первенствующее – это также неоспоримо. В каких отношениях находились тогда воины к своему вождю или королю? В самых свободных; вождь зависел от них: покорив с ними известную страну, он должен был делиться с ними выгодами, происходившими от этого покорения.
Каково было римлянам от этих равноправных сограждан, видно из письма Сидония Аполлинария к другу, требовавшему от него стихов: «Могу ли я петь, окруженный толпами космачей, принужденный слышать немецкий язык, восхищаться песнью пьяного бургундца? Счастливы ваши уши, которые не видят и не слышат варваров! Счастлив ваш нос, который не обоняет по десяти раз в утро вони луком и чесноком».
И в таком принужденном положении римлянин должен был находиться относительно бургундов, варваров, отличавшихся самым кротким характером; что же было от франков, которые вовсе не отличались таким характером? Если франки не имели никакого преимущества, то зачем же галло-римляне старались подражать им даже во внешности, отращивали длинные волосы, назывались варварскими именами? Но у нас есть свидетельство о преимуществе варвара над римлянином – свидетельство, с которым никак не сладят защитники их равноправства: по салическому закону вира (штрафные деньги) за варвара была вдвое больше, чем за римлянина.
Отрицать завоевание и преимущество завоевателя пред завоеванными нельзя, но из этого не следует, чтобы мы, говоря о завоевании, повсюду, где оно было, предполагали одинаковые последствия. Одно и то же явление в разное время, в разных странах, при разных этнографических, географических, экономических, религиозных и других условиях разнится чрезвычайно в своих последствиях. Так и завоевание галло-франков разнится и от завоевания турками греческих и славянских областей на Балканском полуострове, и от завоевания Англии норманнами, и от завоевания России татарами, не переставая, однако, быть завоеванием. Прежде всего завоеватели, их вождь принимают веру завоеванных, и это, разумеется, дает совершенно особый характер отношениям между ними – прежде всего уничтожает сближение завоевания Галлии франками и завоевания турками Греческой империи, где религиозная рознь и вражда сделали смешение завоевателей с завоеванными невозможным.
По известию летописца, епископ, крестивший Хлодовика, говорил ему при совершении таинства: «Преклони смиренно голову, Сикамбр; поклоняйся тому, что ты жег; жги то, чему ты поклонялся». Говорил ли епископ эти слова или нет – нам все равно; для нас важно видеть в летописи выражение современного взгляда на события, выражение восторга галло-римского народонаселения, когда дикий завоеватель, истреблявший, жегший прежде храмы христианские, стал единоверцем с завоеванными, преклонился пред их епископом, в лице которого поднималась и вся паства, им представляемая. Во-вторых, завоеванные стояли на высокой ступени цивилизации сравнительно с завоевателями-варварами. Завоеватель нуждался в искусстве, знании завоеванных; некоторым из людей галло-римского происхождения, даже светским, открывалась возможность приблизиться к королю, получить важное место и влияние, тем более что религия нисколько этому не препятствовала, а варварская национальность сама по себе не ревнива и уклончива пред цивилизациею.
Галлия подчинилась франкским князьям. Кроме прежнего более или менее олатьшенного галльского народонаселения она вобрала в себя теперь население германского племени: бургун-дов, готов, наконец, франков как последний слой. Мы заметили в предыдущей главе, какою бедностью, неразвитостью экономического быта отличалась Римская империя сравнительно с экономическим бытом новых европейских государств. Римская империя была государство первобытное, земледельческое, с малым сравнительно развитием промышленным и торговым; отсюда все значение у имущества недвижимого, земли, тогда как могущественное значение движимого, денег, есть особенность нашей новой истории, следствие сильного развития экономического быта новой Европы.
Мы видели, в каком печальном положении находилось городское и сельское народонаселение в областях империи; новые государства, основавшиеся на развалинах империи, начинают с того, на чем кончилась империя, древний мир, должны иметь дело с тою же экономическою неразвитостью, носить также земледельческий характер. Все значение – у земли, и потому первое явление здесь, подлежащее наблюдению историка, это – определение поземельных отношений.
Как бы ни овладели варвары землею, мы видим их в самом начале полными, неограниченными собственниками своих земельных участков; подле них видим такими же полными, неограниченными владельцами земельной собственности и галло-римлян, каким бы образом они ни удержали свои земли. Эти земельные участки, на которые владельцы имеют полное, неограниченное право собственности, носят разные названия, латинские, германские и такие, происхождение которых трудно определить; они называются proprietas, dominatio, sors, салическая земля, алод, haereditas; есть и такое латинское название, которое всего ближе подходит к нашей вотчине, это: terra aviatica – буквально: дедина.
Но мы уже видели, что при экономическом быте, какой существовал в Европе в описываемое время, и при том хаосе, какой господствовал при рождении новых государств, при слабости общей государственной власти общество для своего поддержания прибегает к частным союзам, слабый становится под покров сильного, бедный – под покров богатого, закладывается за него, делается его захребетником; неимущий идет в услужение, в добровольное холопство, естественно очень быстро переходящее в рабство; бедный землевладелец отдает свою землю, свою вотчину богатому и сильному землевладельцу, чтобы только получить от него защиту. Это явление не есть национальное, не принадлежит какому-нибудь одному времени, но общее народам в разные времена, когда действуют указанные выше условия. Мы видим закладничество и холопство у галлов; в Римской империи слабый, чтобы найти покровительство сильного, отдавал ему свою вотчину в собственность, а сам пользовался ею пожизненно.
«Чтоб отцу получить защитника, – говорит современный писатель, – сын теряет наследство; отец попользуется землею временно, сын потеряет ее навсегда, потому что отец перестал быть собственником». Из этих-то закладчиков, потерявших свои вотчины, образовался класс колонов, прикрепленных к земле крестьян. При утверждении варваров закладничество продолжалось, вотчины переходили в поместья. Этим словом «поместье» мы вполне верно можем передавать слова: beneficium или precarium; при бедности государства, при недостатке движимого, денег, князья вместо жалованья давали служащим у них людям земельные участки в пожизненное или вообще срочное пользование, и такие земли назывались beneficium или precarium, вполне соответствовавшие нашим русским поместьям.
Иногда и на Западе точно так же, как и у нас в Древней России, князья за важные услуги жаловали земли и в вотчину, то есть в вечное потомственное владение. Но когда мелкий вотчинник закладывался за сильного, то он отдавал последнему свою вотчину и брал ее назад в виде поместья, в пользование только; в договорах прямо выражалось, что он принимает землю как бенефиций. Мы знаем из летописей, каким иногда способом сильные землевладельцы заставляли менее сильных отдавать себе их вотчины.
Григорий Турский рассказывает, что одному священнику королева Клотильда подарила землю в вотчину. Епископ стал просить ее у него; священник не соглашался отдать; тогда епископ начал грозить; когда и угрозы не подействовали, то епископ велел священника живого положить в мраморную гробницу и накрыть крышкою; священнику удалось, однако, уйти и принести жалобу королю, но не видно, чтобы епископ потерпел что-нибудь за свой поступок. Что не удалось означенному епископу, то удавалось другим светским и духовным лицам.
Как на Западе в описываемое время крупные землевладельцы заводили за себя земли мелких вотчинников, об этом по сравнению мы можем получить ясное понятие из истории Малороссии XVII и XVIII века: здесь крупные землевладельцы точно так же отнимали земли у казаков и делали их самих своими крестьянами, а иногда сами казаки отдавали свои земли и переходили в крестьянство к сильным землевладельцам, чтобы отбыть от военной повинности.
Но если таково было главное экономическое явление в новорожденном государстве, то что же делала новая верховная власть, в каких отношениях находилась она к различным частям народонаселения и к различным органам, уже обозначавшимся в юном государственном теле, с самого начала превосходившем своим развитием или расчленением прежние государственные тела? Мы видели быт германцев за Рейном и Дунаем; видели, как подвиги, богатырство доставляли благородство, высшую, королевскую власть. У франков мы видели таких королей, и под начальством одного из них, Хлодовика, они покоряют Галлию.
Король франков становится начальным человеком в стране, главным правителем ее. Галло-римское народонаселение, интеллигенция его, то есть преимущественно духовенство, епископы, понимают это явление так, что варвары-франки это – войско, служащее Римской империи, и предводитель этого войска, расположенного в Галлии, управляет страною во имя Римской империи, римского императора. Варварский король вел себя согласно с этим пониманием: Хлодовик с восторгом облачается в консульскую одежду, присланную ему императором Анастасием, и хотя требует, чтобы к консульскому титулу прибавлялся и титул Августа, однако не бьет монету со своим изображением, а с изображением императора Анастасия. Сикамбр преклоняет голову пред обаянием цивилизации точно так же, как преклоняет голову пред крестившим его архиереем; варвары представляли материал, не имеющий политической формы, не успевший приобрести ее в своих лесах, в своих странствованиях; Рим предлагал им готовую форму, и они стремятся принять ее и через это политически воплотиться.
Такое искание формы, определения и производит стремление варварских народов приобрести цивилизацию у народов, ею обладающих. В летописях варварских народов, как на Западе, так и на Востоке Европы, мы встречаем известия о благоговейном отношении варваров к цивилизации. Заимствование, оформление, естественно, начинается сверху и посредством видимых знаков. Хлодовик Франкский величается в консульском платье, присланном из Византии; в Москве хранится шапка Мономаха, присланная оттуда же.
Готский король Атаульф жаловался, что готы не способны к повиновению по причине их необузданного варварства. Так должны были смотреть на своих и все короли, которые начали носить консульское платье и диадемы, присланные из Константинополя. Мы видели, что в лесах германских о делах меньшей важности совещались начальные люди, о важнейших – все. Король на римской почве явился в челе войска, привыкшего к этим всеобщим совещаниям, ибо движение войска, решение насчет похода есть важнейшее дело, и тут-то варвары особенно отличались своим неповиновением. Франкские короли – Клотарь и Хильдеберт – идут на бургундов; брат их, Теодорик, отказывается идти с ними вместе; тогда его войско говорит ему: «Если не хочешь идти в Бургундию с братьями, то мы покинем тебя и пойдем за ними». Теодорик уговаривает их: «Ступайте за мною в Овернь, я вас приведу в страну, где вы наберете золота и серебра сколько душа желает, наберете скота, рабов и платья множество, только не ходите с братьями моими». Король Клотарь идет на саксонцев; саксонцы просят мира; Клотарь хочет мириться, но воины говорят ему: «Мы знаем, что саксонцы лгуны, обещаний своих не сдержат». Саксонцы опять с мирными предложениями; Клотарь опять просит франков не нападать на них, чтобы не навлечь на себя гнева Божия; франки не хотят слышать о мире. Король говорит им: «Если вы непременно хотите драться, то я не пойду с вами». Тогда воины бросаются на короля, рвут его палатку, ругают его и тащат насильно в битву, грозят убить, если не пойдет. Варвары, франки, это – войско; война – главный их интерес; они собираются весною, в марте месяце, перед началом похода, на сейме, на мале, буквально – вече, рада (mal – слово, rad – испускать звук, вече – слово). Кроме войны, на «мале» (которому по характеру своему вполне соответствует черная рада у малороссийских казаков) решались и другие дела особенной важности, выбор вождей, выбор дядьки, или воспитателя, в случае малолетства короля, земельные разделы и разделы казны между королевскими детьми, суд над важными преступниками, дела церковные, ибо на них присутствовали епископы.



