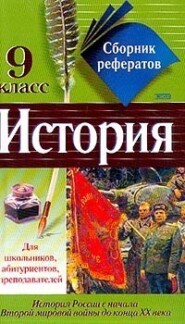
Полная версия:
Сборник рефератов по истории. 9 класс
Популярность этих требований, как мы видим, отнюдь не свидетельствовала о нищете рабочих. Это был протест против социально-нравственной приниженности, собственного бесправия и произвола администрации. Это был вопрос гордости, а не «желудка», борьбы за человеческое достоинство, а не за «копейку». Кроме того, бурный рост капитализма в России конца ХIХ-нач. ХХ вв. отразился и на развитии рабочего движения. Новые, молодые фабриканты были одними из раздражителей рабочего движения. «К общей характеристике фабрикантов, – свидетельствовал С. Гвоздев, – следует добавить, что большинство их обладало удивительной мелочностью, скупостью, почти граничащей со скаредностью, главным образом, конечно, в том, что не касалось их лично самих; вместе с тем они иногда проявляли полное невнимание к таким дефектам в деле, которые приносили им громадные убытки»[28].
Итак, фабричная жизнь была на грани веков зоной наибольшего социального напряжения, аккумулятором протеста, взрывной, разрушительной силы. Но значит ли это, что рабочий вопрос в России имел только одно, революционное решение? Именно этим и озадачился Зубатов. Итак, что же предлагал Зубатов? Почему зубатовское движение, создававшееся, чтобы затормозить революцию, на самом деле ее страшно ускорило?
Зубатов в начале века писал: «Народная масса во все времена и у всех больших народов (не говоря уже о нашем) всегда живо верила, что только монарх является представителем общих интересов, защитником слабых и угнетенных. В Риме, в Средние века, она неизменно поддерживала монархическую власть в ее борьбе с аристократией и нобилитетом. Народное представительство, просуществовав всего сто лет, трещит уже по всем швам, и не выдерживающая критики его политическая идея умирает, уступая место процессу развивающейся самоорганизации народа (печать, профессиональные движения всех видов и прочие). Введенная в заблуждение хитроумной системой народного представительства, народная масса дрогнула было, но, раскусив сей орех, охладела к нему»[29].
В этом Зубатов близко сходится с другим носителем и пропагандистом «выстраданной монархической идеи» – Львом Тихомировым. Еще в августе 1888 г. этот бывший народоволец писал царю в прошении о помиловании: "Чрезвычайную пользу я извлек из личного наблюдения республиканских порядков и практики политических партий. Нетрудно было видеть, что самодержавие народа, о котором я когда-то мечтал, есть в действительности совершенная ложь и может служить средством для тех, кто более искушен в одурачивании толпы. Я увидел, как невероятно трудно восстановить или воссоздать государственную власть, однажды потрясенную и попавшую в руки честолюбцев. Развращающее влияние политиканства, разжигающего инстинкты, само бросалось в глаза. Все это осветило для меня мое прошлое, мой горький опыт и мое размышление и придало смелости подвергнуть строгому пересмотру пресловутые идеи французской революции. Одну за другой я их судил и осуждал. И понял, наконец, что развитие народов, как всего живущего, совершается лишь органически, на тех основаниях, на которых они исторически сложились и выросли, и что поэтому здоровое развитие может быть мирным и национальным.
Таким путем я пришел к власти и благородству наших исторических судеб, совместивших духовную свободу с незыблемым авторитетом власти, поднятой превыше всяческих алчных стремлений честолюбцев. Я понял, какое драгоценное сокровище для народа, какое незаменимое орудие его благосостояния и совершенствования составляет власть с веками укрепленным авторитетом"[30].
Зубатов, если вчитаться в его статьи внимательно, видит, что неустойчивость демократий ведет вовсе не к возрождению монархий, но к возникновению различных форм развивающейся самоорганизации народа" – свободной печати, профессиональных союзов. И что это «развязывание общественных сил», их непосредственный выход на политическую арену создает стабилизирующую систему стяжек и противовесов. Зубатов считал это развязывание не органическим порождением демократии, а чем-то самим по себе хорошим, что под сенью монархии, следовательно, окажется еще лучше. Так рождается то, что он именует «правильно понятой монархической идеей»: власть монарха как некий балансир и регулятор свободной борьбы «развязанных» общественных сил. По Зубатову, вся беда лишь в том, что между царем и народом обыкновенно образуется срастание из сословных, профессиональных и классовых элементов, обуживающих понятие «народ» до собственного объема и извращающих все нормальные государственные отношения[31].
К числу этих элементов он относил: а) аристократию (плутократию), традиционно заинтересованную в ограничении самодержавия; б) нобилитет, под которым скорее всего следует понимать крупную и среднюю буржуазию, и в) интеллигентов, которых он, за исключением «крупных» и «национально мыслящих», зачисляет в революционеры по самой их природе «идеологов». Ну а все, кто остается за пределами этих групп, – это и есть народ, поддерживающий самодержавие и поддерживаемый им в борьбе с указанными группами образованного общества, а потому от сильной власти только выигрывающий. Поэтому первостепенную задачу русской государственности Зубатов видел в том, чтобы «слить воедино царя и народ», перекинув между ними своеобразный политический мост над всем «образованным обществом»[32].
Например, «зная непочтительность к себе народной массы и живую веру ее в монархический принцип, нобилитет старается сохранить „монархию“ в целях вящего использования ее в своих целях и при том безнаказанно со стороны народных масс. Поддавшаяся в истории на эту удочку монархическая власть принуждена была затем играть роль дворцового гренадера на сундуках нобилитета». Следовательно, надо не поддаваться, а «для равновесия (в качестве противоядия) с чувствующей себя гордо и поступающей нахально буржуазией нам надо прикармливать рабочих, убивая тем самым сразу двух зайцев: укрощая буржуазию и идеологов и располагая к себе рабочих и крестьян». И вообще, Зубатов был уверен, что «при нынешнем положении девизом внутренней политики должно быть поддержание противовеса среди классов, злобно друг на друга посматривающих»[33].
Таковы были в общих чертах представления Зубатова о движущих силах современного ему общества, их идеальном взаимодействии. Но, разумеется, он не мог не видеть, сколь многое в реальной политической практике было бесконечно далеко от рисуемых им схем. Он мечтал о слиянии народной массы с монархией, а видел ее нарастающее слияние с радикальной интеллигенцией; он мечтал о «развязанности» общественных сил, а вынужден был вязать" даже те, которые считал совершенно безвредными; считал, что монархическая власть ни в коем случае не должна играть роль «дворцового гренадера на сундуках нобилитета», но вспыхивала очередная забастовка, вновь, «как нарочно, неправыми оказывались не рабочие», а он, представитель этой самой монархической власти, все равно должен был всячески оберегать покой и интересы «чувствующей себя гордо и поступающей нахально буржуазии», а искренних монархистов-рабочих высылать из Москвы.
Из этого разлада между «монархическим идеалом» и монархической действительностью и родилась его идея мирных, легальных общественных движений. Не только рабочих – он пытался создать легальное студенческое движение, придать мирный и промонархический характер движениям национального характера[34].
Началом зубатовской деятельности можно считать 1897 г. Еще раньше на должность московского обер-полицмейстера был назначен Д. Ф. Трепов. В его лице Зубатов нашел горячего сторонника своих идей по урегулированию рабочего вопроса сверху. Зубатов писал: «Начиная с 1897 г., я пытался найти почву для примирения с рабочими». 12 августа 1897 г. министерство внутренних дел издало циркуляр о борьбе со сходками и стачками, 4-й и 8-й параграф, которого требовали всех активных участников стачек, «обыскав, арестовать и выслать». «С изданием этого пресловутого Манифеста, – резюмировал Зубатов, – правительство само как бы признавало движение преступлением не только политическим, но и государственным»[35].
Однако же московская администрация во главе с Треповым поняла (или сделала вид, что поняла) суть циркуляра совсем иначе. Главными параграфами сочли здесь другие – 2-й и 5-й, осторожно предлагающие выяснять и устранять, «по возможности, поводы к неудовольствию в тех случаях, когда рабочие имели основание жаловаться»[36]. С этого момента и вошла московская рабочая политика в явный диссонанс с общеимператорской. Вскоре из Санкт-Петербурга в Москву прибыла представительная комиссия во главе с тайным советником В. Коковцевым для разбирательства. Она обнаружила:
"1. Что принятие мер к предупреждению споров и недоразумений между фабрикантами и рабочими путем исследования на месте возникающих неудовольствий и миролюбивого соглашения сторон проводится на фабриках и заводах столицы не только чинами фабричной инспекции, но и чинами полиции, иногда без участия и ведома инспекции;
2. Что полиция принимает заявления рабочих, касающиеся нарушения порядка и благоустройства на фабриках и заводах, но не для направления их по принадлежности к фабричной инспекции, а для производства самостоятельных дознаний без участия инспекции;
3. Что московский обер-полицмейстер дает непосредственно от себя указания фабричным инспекторам, притом иногда несогласные с законом и изданными в развитие его правилами"[37].
Осудив столь «ненормальное положение вещей» в Москве, председатель комиссии, тайный советник Коковцев счел необходимым добавить, что, по его «личному убеждению», причины сего заключаются, «во-первых, в личном взгляде московского обер-полицмейстера на обязанности его по отношению к фабрично-заводскому населению. Исходя из той мысли, что рабочие только тогда будут обращаться к правительственной власти со своими пожеланиями и ждать от нее удовлетворения (а не от противоправительственных элементов), когда убедятся, что власть эта сильна и стоит на стороне их интересов, безотлагательно восстанавливая нарушенную справедливость, – московский обер-полицмейстер же считает всякое неудовольствие, высказанное по какому-либо поводу среди рабочих, – беспорядком на фабрике или заводе, не только дающим полиции право, но даже возлагающим на нее обязанность вмешаться в разбор неудовольствия»[38].
Как видим, Трепов воспринял зубатовские идеи всерьез: проводил его принципы на практике и с известным мужеством отстаивал их перед начальством, идя даже на межведомственные конфликты. Для понятия сути этих конфликтов надо иметь в виду, что официально российская промышленность находилась в ведении министерства финансов, и отношения рабочих и хозяев регулировались его фабричной инспекцией. И «принцип законченности» всячески проповедовался в этом ведомстве. «Рабочий труд рабочего человека и рабочий вопрос, – писал позднее Зубатов, – министерством финансов рассматривались лишь со стороны строго формальной и исключительно экономической точки зрения, под которую, конечно, никак нельзя было подвести революционность рабочего коллектива с его разнообразными стремлениями. А потому явления этого оно как бы не хотело замечать и ради него не желало поступаться своими правами»[39].
Пожалуй, особую убедительность принципам зубатовско-треповской «попечительной политики» могла бы придать их практика. По свидетельству Л. Меншикова – чиновника московской охранки, «пользуясь тем, что охране „законы не писаны“, Зубатов начал вмешиваться во все более или менее крупные конфликты, возникающие между рабочими и хозяевами, стал поручать подведомственным ему чинам производить особые расследования о фабрично-заводских порядках, стараясь, не без задней мысли, конечно, демонстрировать отеческую заботу начальства об экономических нуждах рабочего класса и строго карая в то же время всякую агитацию, в особенности политического характера. Слава о Трепове – покровителе рабочих – заметно росла в среде темной фабрично-заводской массы»[40].
Так, например, была предотвращена забастовка на фабрике Шульца-Шуберта (февраль 1898 г.) и ряд других.
Но все это были эксперименты в одном отдельно взятом городе. Ибо внутренняя политика в империи в целом развивалась в эти годы совсем в ином направлении, о чем свидетельствует обширная записка «по рабочему вопросу», с которой выступил сам министр внутренних дел Д. С. Сипягин. Резюмируя ее, профессор Озеров писал: «Одним словом, Сипягин с удивительной виртуозностью хотел превратить фабрики в военные лагеря с широкой системой шпионства, соглядатайства и наушничества. Эта записка чрезвычайно характерна для развития воззрений на рабочий вопрос в России: проповедь опеки доводится до апогея, но если, по мысли Сипягина, она не будет иметь своего воздействия, то – беспощадное применение физической силы»[41].
Зубатов лучше других чувствовал атмосферу «рабочего котла» и понимал, что ни указом 1899 г. об усилении полиции на фабриках, ни каким-либо другим закручиванием гаек уже ничего не сделаешь: котел вот-вот закипит – и тогда произойдет страшное. И потому он хотел приподнять хотя бы крышку этого котла, дать выход пару, но так, чтобы в любой момент его можно было все же захлопнуть. А для этого «правительственным попечением» надо не превращать фабрики в казармы, а, наоборот, вести дело к «развязыванию общественных сил», предоставлению им определенных возможностей для свободной игры интересов. Он, в отличие от большинства своих начальников, прекрасно видит, что запретить рабочее движение, как и всякую другую объективную потребность, нельзя. И поэтому он ставит вопрос по-другому: кому удастся этим движением овладеть, такие оно и примет формы, характер и направление[42].
Сотрудник московской охранки, будущий жандармский генерал А. Спиридович так характеризовал зубатовские идеи: "Основная идея Зубатова была та, что при русском самодержавии, когда царь надпартиен и не заинтересован по преимуществу ни в одном сословии, рабочие могут получить все, что им нужно, через царя и его правительство. Освобождение крестьян – лучшее тому доказательство. Рабочее движение должно быть профессиональным, а не революционно-социал-демократическим, и его надо направить на этот, первый путь. И хотя у самих социал-демократов увлечение экономизмом почти проходит, но все-таки это направление надо использовать. Правительство уже сделало ошибку, прозевав его, но что же делать: лучше поздно, чем никогда. Путем собеседования Зубатов стал подготавливать пропагандистов своих идей из рабочих. В отделении была заведена библиотека с соответствующим подбором книг – Рузье, Вебб, Геркнер, Прокопович, Зомбарт, новый труд Бердяева «Поворот к идеализму» – все было пущено в ход, дабы переубедить сторонников революционного марксизма и направить их в сторону профессионального движения.
Между тем рабочее движение находилось в то время на перепутье, и от правительства в значительной степени зависело – дать ему то или иное направление. То был момент, когда правительству надлежало овладеть рабочим движением и направить его по руслу мирного профессионального движения"[43].
Итак, Зубатов проявил себя как неординарный человек, пытаясь привести революционное движение в нечто управляемое. По сути, его можно считать основателем первых русских профсоюзов. Но, как мы говорили выше, он понимал, что должен быть какой-то перепускной клапан. И им стало Кровавое воскресение 1905 г.
3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Г. ГАПОНА И 9 ЯНВАРЯ 1905 ГОДАВ 1902 г. Зубатова переводят в Петербург, где ему поручено продолжать заниматься тем же самым, чем занимался в Москве, – организацией легальных рабочих союзов.
«Когда, – вспоминал в 1912 г. Зубатов, – по прибытии в 1902 г. в Петербург, мною было приступлено там к организации легального рабочего движения через подручных мне московских деятелей, местная администрация очень ревниво отнеслась к этому начинанию и, зная, что в Москве рабочие были оставлены мною на руки духовной интеллигенции, постоянно стала убеждать меня познакомиться с протежируемым ею отцом Георгием Гапоном, подававшим в администрацию записку о нежелательности организации босяков. Странность темы не располагала меня ни к ознакомлению с запиской (так и оставшейся мною не прочитанной), ни к знакомству с автором. Тем не менее меня с Гапоном все-таки познакомили. Побеседовав со мною, он обычно кончал просьбою „дать ему почитать свеженькой нелегальщинки“, в чем никогда отказа не имел. Из бесед я убеждался, что в политике он достаточно желторот, в рабочих делах совсем сырой человек, а о существовании литературы по профессиональному движению даже не слышал. Я сдал его на попечение моему московскому помощнику (рабочему), с которым он затем не разлучался ни днем, ни ночью, ночуя у него в комнате и ведя образ жизни совсем аскетический»[44].
Гапон же так вспоминал о знакомстве с Зубатовым: "Однажды Михайлов приехал ко мне в академию и сказал, что одно лицо хочет со мной познакомиться, и просил меня немедленно ехать к нему. «Вы сейчас увидите Зубатова», – сказал мне Михайлов. Я в это время ничего не знал ни о департаменте полиции, ни о Зубатове, всесильном начальнике политического отделения. Мое любопытство было сильно возбуждено. «Мой коллега Михайлов, – сказал Зубатов с приветливым движением руки, – хорошо отзывался о вас. Он говорит, что вы в постоянном общении с рабочими, имеете свободный к ним доступ и оказываете на них большое влияние. Вот почему я так рад познакомиться с вами»[45].
Далее Гапон продолжал: «После долгих колебаний я решил, несмотря на испытываемое мной отвращение, принять участие в начальной организации и попытаться, пользуясь Зубатовым как орудием, постепенно забрать контроль в свои руки. Я полагал, что, начав организацию рабочих для взаимной помощи под покровительством властей, я могу одновременно организовать и тайные общества из лучших рабочих, которых я воспитаю и которыми я буду пользоваться как миссионерами, и таким образом мало-помалу направлять всю организацию к желаемой цели»[46].
Постепенно численность людей, ходящих на собрания Гапона, росла. Если в ноябре 1903 г. 30 с лишним человек входило в группу Гапона, то в последующем численность ее стала расти: 1 мая 1904 г. – 170 человек; 30 мая 1904 г. – 750 человек; 21 сентября 1904 г. – 1 200 человек[47].
Как видим, группа Гапона пользовалось популярностью. Во многом это объяснялось его личным обаянием. Летом 1904 г. численность «действительных членов собрания» продолжала заметно расти, был даже открыт еще один отдел – Василеостровский. 19 сентября в Народном доме Паниной состоялось общегородское собрание всех отделов. Зал на 1 000 мест был забит еще с утра[48].
Идея созыва этого общегородского собрания была отличным политическим ходом – мирным и даже лояльным по отношению к властям способом дать почувствовать членам группы их возросшую силу, проникнуться гордостью за свою принадлежность к чему-то необычному, будоражащему умы. С начала осени работа организации, к тому же, окончательно приобретает черты правильно, регулярно поставленной деятельности. Все отделы были открыты ежедневно с семи часов вечера; по средам и воскресеньям в них регулярно проходили собрания; каждую субботу в квартире Гапона на Церковной собирались «штабные», чтобы подготовить материал для очередных московских собеседований[49].
«По средам и воскресеньям выступать могли все пришедшие, причем при входе контроля не было никакого. Конечно, выступали со своими мыслями люди более или менее развитые, но иногда не обходилось и без того, чтобы иной нес ахинею. В дни, когда не было ни собраний, ни лекций, в отделы приходили просто так – почитать газеты, потолковать в тесном кругу за чайком. Буфеты-чайные были при каждом отделе и никогда не пустовали. И это тоже была важная часть общей работы, быть может, даже важнейшая», – писал участник тех собраний, певец И. Павлов[50].
Отделы собрания росли как грибы после дождя. У группы было теперь все: покровительство обманутого начальства, деньги (благодаря концертам и чайным отделы совсем неплохо окупались), а главное – кадры. Только полиция чувствовала себя здесь все более неуютно. Гапон до того осмелел, что однажды просто напросто выставил полицейского пристава: «Вам здесь делать нечего. У нас был градоначальник – это лучшее свидетельство того, что у нас все благополучно и законно»[51].
«Осенью у собрания появился запасной капитал в банке. В несколько тысяч. Когда появился капитал, дело ширится и развивается. Задумана широкая система кооперации – открыть при отделах свои мастерские, чтобы обувь и платье рабочему, находящемуся в кооперации, стоила ровно столько, сколько стоит материал при оптовой закупке. Возникает проект специального рабочего банка, созданного исключительно на рабочие деньги»[52], – писал журналист Н. Симбирский.
Но все это были мечты, миражи. Потому что все эти благие веяния, радужные перспективы сулили сколько-либо реальные сдвиги лишь при длительном существовании собрания. А длительно оно существовать не могло. И осенью 1904 г. в нем самом и вокруг него уже нарастали социальные и психологические напряжения, неизбежные и, собственно, ведущие к катастрофе 9 января. Превращение «благомысленного», реакционного, беспрерывно распевающего молитвы и чуть ли не на деньги полиции созданного гапоновского собрания в неслыханно грозную революционную силу составляло для большинства современников загадку: да как же такое могло случиться?
Не следует забывать, что сама структура гапоновского собрания (харизматический лидер + узкий круг «посвященных» + круг полупосвященных + масса, находящаяся под властным обаянием своего харизматического лидера) делала его явлением весьма динамичным, мощно резонирующим на всякую подвижку общественной жизни. Тем временем обстановка в стране накалялась. Это было связано еще и с военными поражениями в идущей Русско-японской войне. У собрания Гапона возникла вначале смутная потребность, а затем и настоятельная мысль о некой демонстрации силы, оформившаяся на совете «штабных» гапоновцев 28 ноября 1904 г. в «заговор на выступление»[53].
Н. Варнашов, один из активистов зубатовских организаций, вспоминал, что «речи Гапона и других, то торжественно серьезные, то страстные до отчаяния, так овладели всеми, что пишущему это в первый момент показалось, что результат достигнут обратный – какая-то растерянность и паника отражалась на лицах и движениях всех. Но вот начали раздаваться восклицания и фразы, в которых звучал один вопрос – когда, каким образом и что надо делать? Сразу же возник и острый спор о сроках планируемого выступления: не подождать ли крупного военного поражения? Скажем, падения Порт-Артура или гибели небогатовской эскадры? Что эскадра погибнет, у нас не было двух мнений, но за ожидание этой катастрофы стояли Гапон, Кузин и Варнашов с одной частью собрания, а вторая часть с Карелиным и Васильевым во главе настаивала на скорейшем выступлении, но все-таки соглашалась с Гапоном, пока ко второй части не присоединилось событие, перепутавшее все расчеты, – Путиловская забастовка»[54].
Таким образом, до начала обсуждения в собрании ситуации с четырьмя уволенными рабочими-путиловцами идея общего выступления никак не связывалась с забастовочным движением. И. Павлов вспоминал: «Мало-помалу стали распускать всякие вздорные мысли про собрание, поносили Гапона на чем свет стоит, но это только приносило ему пользу, т. к. увеличивало интерес к собранию у рабочих. Затем пошли насмешки над „гапоновцами“, „поповичами“ – и это не действовало. Тогда, очевидно, решили идти на форменное противодействие. Что расчет четырех рабочих был пробным шагом Путиловского завода, в том нет никакого сомнения. До сих пор Гапон все встречавшиеся трения и недоразумения с полицией и администрацией заводов обходил елейно, ему одному известным путем. Но в этом случае он сам, сколько мне помнится, заявил, что наступил момент, когда собрание может сделать открыто выступление в защиту своих интересов»[55].
Если решимость собрания выступить подогревалась нарастающею либеральной волной, то и решимость заводчиков стоять насмерть тоже подогревалась волною, только противоположной, идущей из консервативных кругов, только что одержавших победу на самом верху и, естественно, желавших свой успех закрепить. Это с одной стороны, а с другой – решимости заводчиков немало способствовали и доходившие до них слухи о готовящемся грандиозном выступлении рабочих. Таким образом конфликт был неизбежен. 26 декабря торжественно открылся очередной, 10-й, отдел собрания на Гаванской улице. Председателем кружка ответственных лиц был избран «действительный член собрания с августа 1904 г.» П. Давлидович[56].
Гапон торжественно освятил помещение. Все было, как всегда. Собрание росло, процветало и, похоже, само еще не до конца осознавало, что ступило на ту тропу войны, с которой нет возврата. Когда же был сделан решающий шаг на эту тропу и кто его сделал?
На съезде собрания – 27 декабря 1904 г. – была принята петиция, состоящая из 5 пунктов:
1) заявить через градоначальника нашему правительству, что отношение труда и капитала в России ненормально. Это проявляется, между прочим, в отношениях мастеров к рабочим;



