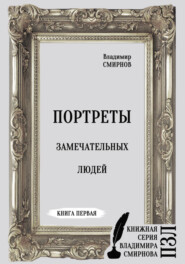
Полная версия:
Портреты замечательных людей. Книга первая
– Иногда спрашивают, как правильно произнести имя протопопа, где поставить ударение, на каком слоге?
– Протопоп нам сам ответил на этот вопрос. В те времена тексты писали от руки и указывали над каждым словом ударение. Протопоп, упоминая своё имя, ставил на втором слоге.
На родине протопопа Аввакума стоит памятник. Памятник этот лет 30 назад поставил на свои деньги Вячеслав Клыков, и по нашей просьбе он означил ударение над именем святого.
Протопоп Аввакум, как мы знаем, родился в 1620 году, дата рождения неизвестна, в нижегородских пределах, как он пишет, «за Кудмою рекою», в селе Григорове. Это село сохранилось. В 12 километрах от Григорова расположено село Большое Мурашкино, там есть наша старообрядческая община, там мы ежегодно, летом, собираемся на крестный ход, идём пешком, с пением, через поля очень красивые, через холмы, до села Григорова, где возле памятника протопопу Аввакуму – он установлен на высоком месте – молимся и освящаем воду.
В этом году, осенью, надеемся совершить паломничество в Пустозерск, где окончил свои дни протопоп Аввакум. Он был казнён 14 апреля 1682 года «за великие на царский дом хулы», как было сказано в приговоре. Его сожгли, и вместе с ним его сподвижников – это священник Лазарь, инок Епифаний, дьякон Фёдор.
– Вы были прежде в Пустозерске? Что это за место? Оно как-то обозначено на картах страны?
– Это 20 километров от Нарьян-Мара, но добираться туда можно либо на катере, либо на вертолёте, потому что там довольно непроходимые места.
В Пустозерске ныне не осталось никаких следов могил, да и сам город Пустозерск давно не существует, последние дома стояли там лет 80 назад, потом их разобрали и перевезли. Ничего нет вообще. Карликовые берёзки, какие-то редкие кустики и мох. Безлюдное совершенно место. Только два креста стоят в напоминание, один – более древний, с колоколом. А вот что интересно, может чудо такое, что мы там обнаружили: в одном только месте, будто пятна крови, лежит красный мох, нигде вокруг больше нет такого; и мы думаем, что этот красный мох указывает место казни или погребения священномученика Аввакума и его сподвижников.
(Митрополит Корнилий достает фотоальбом. Мы рассматриваем снимки, они меня потрясают, и вдруг, будто в озарении, приходит понимание, что не существующий на картах Пустозерск должен стать паломническим центром. России надо обрести останки протопопа Аввакума. Это нужно для спасения страны и должно стать государственной задачей. Археологам по силам всё перекопать, и наука без погрешностей определит, были люди сожжены при жизни или нет. Такой чести удостоились немногие, наверняка только одни они.
Фотоальбом мы пролистали до конца, и потом митрополит Московский и всея Руси раздумчиво продолжил разговор.)
– Мы с вами записываем не первую беседу для «Литературной газеты», которую основал Пушкин, и я думаю, что это не случайно, даже символично. Потому что протопопа Аввакума можно считать родоначальником русской литературы, это признавали многие писатели. Он является автором первой в России художественной автобиографической повести «Житие протопопа Аввакума, им самим написанное». У него есть примечательные не обык строчки: «Люблю свой русский природный язык, виршами философскими речи красить, понеже не словес красных Бог слушает, но дел наших хощет».
О своем многолетнем заключении в земляной яме, в вечной мерзлоте, близ Ледовитого океана, он повествует без сокрушения: «Я сижу под спудом засыпан, несть на мне ни нитки, только крест с гайтаном, да в руках чотки. Да что Бог пришлет, то я и съем, а если нет, ино так добро».
Печатное издание «Жития» вышло в 1861 году, затем книга выдержала множество изданий, в том числе в советское время, и до наших дней. Повесть написана ярким, образным народным языком, который потом подхватил и обогатил гений Пушкина. В своём стихотворении «Пророк» поэт подчеркивает связь времён, использует не без восторга старославянизмы: «восстань», «виждь», «внемли»…
– Мне встречались публикации, авторы которых изо всех сил старались доказать, что Пушкин не был христианином. В пример приводят письма, где он признавался в атеизме, и, конечно же, мусолят «Гавриилиаду»…
– Лукавым авторам подобных публикаций не мешает знать, что в поздние годы Пушкин называл «Гавриилиаду» «шалостью преступной и постыдной».
Сосредоточивать внимание только на отдельных фактах и на этом основании отрицать христианскую веру Пушкина – значит отвергать саму возможность духовного становления, покаяния, изменения и возрастания человека, ведь мы знаем, что некоторые великие святые в начале своей жизни были великими грешниками.
Я, признаться, большой любитель поэзии, даже принимал участие в литературных вечерах, когда жил в Орехово-Зуеве, это уже 30–40 лет назад. «Дела давно минувших дней, Преданья старины глубокой…» Я очень люблю творчество Пушкина, он, несомненно, был христианином, а стихотворение «Отцы пустынники…», написанное поэтом за год до трагического конца жизни, является, по сути, исповедью верующего человека.
Нас, старообрядцев, иногда упрекают в том, что мы будто бы застыли в 17 веке, замкнулись в себе и не имеем отношения к современной жизни и культуре России, однако, на мой взгляд, Пушкин, Достоевский и многие русские писатели и поэты принадлежат старообрядчеству настолько же, насколько и всему русскому народу.
– Не представляю, у кого повернётся язык упрекнуть старообрядцев. Их веками гнали с родных мест, они укрывались в лесах, их опять преследовали, выталкивали из страны, вынуждали бежать за границу, и вот спохватились, вспомнили про них, когда обезлюдели деревни и некому стало работать на земле. Сейчас, я знаю, существует государственная программа переселения старообрядцев, они из Бразилии, других государств Южной Америки переселяются на Дальний Восток. Оказалось, что без них – никак! Они хранят не только старину, но и трудолюбие, любовь к труду, не приемлют водку и табак, у них большие семьи, и, несмотря на лютые гонения, Бог промыслительно старообрядцев сохранил, чтобы можно было с ними возродить Россию…
– На нашей последней встрече с президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным – она состоялась 24 сентября 2019 года – он рассказал мне такую историю. На Дальнем Востоке на конференции (она проходила во Владивостоке) он подошёл к группе старообрядцев – они переселились из Бразилии, их уже около 300 человек – и спросил, чем им помочь, какая помощь им необходима. Они поблагодарили и сказали, что ничего не надо, лишь бы не мешали. «Удивительные люди», – заключил президент с улыбкой.
И действительно, старообрядцы не хотят быть ни от кого зависимыми, поэтому не просят о помощи, а просят только о том, чтобы им не мешали. Они самодостаточные люди. Сотни лет старообрядцев гнали, они на новом месте обживались, жили справно и зажиточно, при этом сохраняли веру и родной язык.
– Спасибо за беседу, ваше высокопреосвященство. Спасибо за великий подвиг протопопа Аввакума, который предстоит России рано или поздно оценить и память о котором сберегли и пронесли через века старообрядцы. Низкий вам поклон.
2019 годВечная память
В прошлом году к 400-летнему юбилею протопопа Аввакума издали книгу «Град невидимый», куда вошли стихи о «древлем православии». Стихи напоминали свечи в храме, и захотелось бережно поставить их в материал.
Беседа с предстоятелем старообрядцев митрополитом Московским и всея Руси Корнилием состоялась в январе, в первые дни нового, 2021 года. Это была моя четвёртая встреча с владыкой. Она, как и все предыдущие, стала для меня открытием, оставила след в моей душе.

– Ваше высокопреосвященство, прошлый год в России был объявлен годом протопопа Аввакума. Помню, как вы собирались чествовать святого, как вы волновались, у вас было много планов. Все ли удалось осуществить?
– Да, 2020 год для нашей Старообрядческой Церкви был ознаменован великим событием. Мы могли только мечтать о таком широком почитании и праздновании юбилея нашего святого. Господь дал нам возможность прославить протопопа Аввакума и вместе с ним его сподвижников, ревнителей древнего благочестия.
Мероприятия прошли практически по всей России. Это были выставки старообрядческих художников, встречи в библиотеках, духовные концерты, где звучало знаменное пение, оно было распространено на Руси до церковного раскола. Знаменное пение сравнивали с иконописью: от внимания напеву сердцем и душой овладевают те же чувства, что и при виде иконы древнего письма.
Очень много было встреч по всей России, и кто хотел узнать, тот узнал печальную историю старообрядцев.
На стенах музея имени Андрея Рублёва в Москве память протопопа Аввакума увековечена мемориальной доской. В Пушкинском доме в Санкт-Петербурге проходила конференция, состоялся большой вечер, посвящённый нашему святому. «Не ослабевайте душами своими» – под таким названием открылась на Рогожском выставка, она сейчас работает.
– Можно выделить и обозначить вехами какие-то события?
– В юбилейный год с Божьей помощью были установлены два монумента. Надо вспомнить с благодарностью и добрым словом меценатов – Вячеслава Васильевича Фомичёва и Сергея Сергеевича Кондрашова. В духовном центре на Рогожском установлен часовенный столб по проекту покойного протоиерея Леонтия Пименова. Это монумент высотой порядка 5,5 метра с мозаичным изображением четырёх святых: протопопа Аввакума, боярыни Морозовой, святителей Павла Коломенского и Амвросия Белокриницкого.
В городе Боровске, в Калужской области, установлен памятник протопопу Аввакуму. Выполнен из бронзы, высотой 3,7 метра, представляет Аввакума на фоне голгофского креста – символа страдальческой судьбы.
Боровск прочно связан со старообрядцами. Тут в Пафнутьевом монастыре держали в заточении протопопа Аввакума, тут приняли мученическую смерть боярыня Морозова и её сестра Урусова. Поэтому не случайно на этой земле воздвигли памятник священномученику Аввакуму. Это в центре города, рядом со старообрядческим храмом, который сейчас восстанавливается, и есть надежда, что до конца 2021 года работы будут завершены. Местная власть принимает деятельное участие, глава Калужской области Владислав Валерьевич Шупша присутствовал на открытии памятника.
– Знаменитый монастырь не вам принадлежит?
– Нет, боровский Пафнутьев монастырь старообрядцам не принадлежит, но нам обещали прикрепить мемориальную доску в память о протопопе Аввакуме, и мы надеемся, что обещания выполнят.
…Торжественно, с размахом отмечали юбилей в Казани. В Татарстане очень хорошо относятся к старообрядцам. По указу Рустама Нургалиевича Минниханова в Казани появилась улица Протопопа Аввакума. Глава республики сам принимал участие в мероприятиях. В Казани восстановлен величавый храм, в цокольном этаже которого работает музей старообрядчества. Это самый большой на сегодняшний день и замечательный музей.
Наконец – нельзя про это умолчать – в честь юбилея протопопа Аввакума выпущены почтовая марка и конверт, на котором изображён памятник протопопу в селе Григорове Нижегородской области. Задел, можно сказать, сделан, задел хороший.
Из крупных мероприятий у нас не состоялся Второй всемирный форум старообрядцев, он должен был пройти в Российской государственной библиотеке. Форум, к сожалению, провести из-за пандемии не удалось. Мы планируем, что после Пасхи, может в мае, Бог даст, форум проведём, но опять же это будет зависеть от эпидемиологической обстановки, и не только в нашей стране. Поэтому трудно предугадать и точно говорить. Но это знаковое, очень важное событие, безусловно, в планах остаётся. В этом году мы продолжим проводить мероприятия по всей нашей необъятной России, у нас задумок много.
– Ваше высокопреосвященство, спасибо вам большое.
2020 годСтихи о «древлем православии» из книги «Град невидимый»
Юлия Друнина
«Словно по воде круги от камня…»
Рукописи не горят.
М. БулгаковСловно по воде круги от камня,По земле расходятся слова,На бумагу, брошенные намиВ час любви, печали, торжества.Те слова порой врачуют раны,Те слова бичуют и корят.И ещё – как это и ни странно —Рукописи правда не горят.Потому-то сквозь огонь угрюмыйВсем святошам и ханжам назло,Яростное слово АввакумаК правнукам из тьмы веков дошло.Ярослав Смеляков
(Из цикла «Один день»)
Не тратя времени задаром,осенним воздухом дыша,я по дощатым тротуарамиду с оглядкой, не спеша.Тут всё привычно и знакомо,все это я видал давно,машины возле исполкома,палатки, вывески, кино.Как вдруг из внешности всегдашнейи повседневности самой —из леса рубленная башняявилась крупно предо мной.Она недвижно простояла,как летописи говорят,не то, что много или мало,а триста с лишним лет подряд.В ее узилище студёном,двуперстно осеняя лоб,ещё тогда, во время оно,молился ссыльный протопоп.Его проклятья и печалив острожной зимней тишинелишь караульщики слыхали,под снегом стоя в стороне.Мятежный пастырь, книжник дикий,он не умел послушным быть,и не могли его владыкини обломать, ни улестить.Попытки их не удавались,стоял он твёрдо на своём,хотя они над ним старалисьи пирогом, и батогом.В своей истории подробнойдругой какой-нибудь народполупохожих и подобныхсредь прародителей найдет.Но этот – крест на грязной шее,в обносках мерзостно худых —мне и дороже, и роднееиноязычных, не своих.Ведь он оставил русской речии прямоту, и срамоту,язык мятежного предтечи,светившийся, как угль во рту.Варлам Шаламов
Суриков. «Боярыня Морозова»
Попрощаться с утренней МосквоюЖенщина выходит на крыльцо.Бердыши тюремного конвояОтражают хмурое лицо.И широким знаменьем двуперстымОсеняет шапки и платки.Впереди – несчитанные верстыИ снега, светлы и глубоки.Перед ней склоняются иконы,Люди – перед силой прямотыЯростно земные бьют поклоныИ рисуют в воздухе кресты.И над той толпой порабощённой,Далеко и сказочно видна,Непрощающей и непрощёнойПокидает торжище она.Старая вера
В Ярославской области, недалеко от памятного Углича, живёт строго по уставу Николо-Улейминский женский монастырь. Это единственный в России старообрядческий женский монастырь.
Можно подумать, что он стоит на отшибе, но на самом деле он расположился на развилке времени. Обитель основал ростовский инок, старец-странник Варлаам. Монастырь основан был во второй половине 15 века и чудом дотянул до наших дней. Польско-литовские шайки, которые рыскали по Руси, добирались до монастыря и оставили после себя могилы павших защитников обители. Советская власть накладывала свою длань: монастырь использовали как зернохранилище, колонию для заключённых и психоневрологический диспансер. Только спустя семь десятков лет обитель возвратили Церкви.
…Игуменья монастыря матушка Олимпиада встречала меня в городе. Она была за рулём недорогой машины. Перед въездом в монастырь остановилась и сказала, что пойдёт открывать ворота. Меня это удивило, и я поспешил за ней.

– Вы сами открываете ворота, матушка Олимпиада?
– Да.
– У вас нет сторожей?
– Нет. Господь Бог нас охраняет.
Странно это было слышать: я ведь насмотрелся, знаю, что московские монастыри охраняют пуще, чем военные объекты, но привратник из меня, скорее всего, получится. Матушка Олимпиада мне доверила закрыть за ней ворота, и беседа наша дальше продолжалась в храме.
– У нас в монастыре три храма, но один пока не действует. Мы молимся в Надвратном храме, он связан с нашим келейным корпусом, и нам не надо выходить на улицу, чтобы пройти в храм. А вот где мы с вами сейчас беседуем – это Введенский храм, он тоже освящён. На втором этаже мы молимся на богородичные праздники, а на первом этаже планируем создать музей. И остался у нас Никольский собор. Что мне удалось там сделать – это ликвидировать в подвале воду, там было полно воды, она размывала стены и подклеп, и всё это было в таком страшном аварийном состоянии. Сейчас воды и подтопления нет, слава Богу.
– Сколько инокинь в монастыре?
– На сегодняшний день 12 инокинь, в том числе две схимницы. Возраст у всех преклонный: до 70 лет у нас четыре человека, остальным под 80 и больше. Хотелось бы, безусловно, видеть молодых, чтобы было будущее у монастыря, пока этот вопрос для нас очень больной, но Господь всё устроит. Когда я пришла сюда 17 лет назад, то здесь были всего три насельницы.
– Откуда вы пришли? Как звали вас в миру?
– Константинова Ольга Ивановна. Я приехала сюда из Омска, а родом из Красноярского края, закончила там десятилетку и поехала к старшей сестре в Омск. Поступила в строительный техникум, потом окончила институт, у меня два строительных образования.
Больше 30 лет проработала в городской администрации, в управлении капитального строительства. Потом прослышала, что у нас есть старообрядческий женский монастырь, решила всё оставить, хотя было что оставлять, и приехала сюда.
– Не жалели никогда об этом?
– Владимир, я считаю, что это единственный правильный выбор в моей жизни. Мы приехали сюда вдвоём с сестрой, она была старше меня на 17 лет.
– У вас была семья?
– Мужа я похоронила до ухода в монастырь. У дочки с зятем пятеро детей, и все дети у них приёмные, своих они не дождались и стали брать из детского дома.
– Они вас навещают?
– Они были у меня три раза.
– За 17 лет?!
– А больше и не надо. Мы ведь всё-таки ушли из мира.
– Я бывал в монастырях Москвы, и часто возникало чувство, что попал на ярмарку, в торговые ряды: народ снуёт, передвигаются монахи на машинах по монастырю, я даже, грешным делом, думал, что им, бедным, некогда и помолиться в суматохе, а у вас тут словно на другой планете…
– Сейчас у нас ворота и калитка закрыты, но мы не закрыты для тех, кто хочет нас увидеть и услышать, наведываются и туристы к нам. Мне звонят из городского департамента культуры и туризма, мы договариваемся, и они приезжают два-три раза в месяц.
– Однако если нет туристов, значит, нет доходов и нет средств на содержание монастыря. Разве не так?
– У нас у всех есть свои пенсии, и мы свои деньги тратим на питание и на содержание обители. Государство нам не помогало и не помогает. Иногда оказывают помощь спонсоры. Чаще всего это одноразовая помощь. Постоянным нашим попечителем можно назвать Беломестных Любовь Леонидовну. У неё своя адвокатская контора в Москве. Это очень умный человек, знает четыре языка, ведёт международные дела. Можно ей адресовать все тёплые слова, какие есть. Она верующая, старообрядка, на службе у нас бывает вместе с нами, когда приезжает.
– А епархия материально и финансово вам помогает?
– Нет, они сами бедные.
– Кто вас окормляет?
– Окормляет нас священник Анатолий Носочков, он приезжает к нам из Ярославля на выходные и на праздники. А нашим духовным отцом является епископ Костромской и Ярославский владыка Викентий, он приезжает к нам несколько раз в год, принимает исповеди и причащает.
– Миряне ходят к вам на службы?
– Нет. У нас ведь в основном ночные службы. Такой уклад именно для монастыря. Всегда так было, есть и будет, потому что Господь придёт нас судить в два часа ночи, так сказано в Евангелии и у святых отцов. Поэтому мы начинаем службу в половине второго ночи. У нас десять лестовок, они и составляют иноческое правило. Десять лестовок – это тысяча молитв, одна молитва – один поклон.
– Поразительно! Наука, медицина утверждают, что ночью надо спать, чтобы организм отдыхал, а вы бодрствуете по ночам, годами так живёте, и при этом сохраняете работоспособность до преклонных лет. Это феномен, который надо изучать. Когда вы отдыхаете?
– С вечера немного спим и после службы отдыхаем два часа. Ночью мы молимся. Каждая из нас оставила в миру детей, внуков, за них тоже хочется помолиться, вообще за весь мир мы молимся. Каждую ночь. Потом немного отдыхаем и выполняем послушания. Летом – огород, теплицы, зимой – снег. В храме надо прибраться, всё надо в надлежащем состоянии держать.
У нас один гектар занимает огород. Мы выращиваем для себя все овощи.
– Сами управляетесь со всем?
– Со всем мы сами управляемся, конечно, с Божьей помощью. Всё сами. Правда, у нас ещё есть мой помощник, отец Михей, он старообрядец, тоже принял иночество, ему в этом году будет 84 года, но он к труду привычный.
Старообрядцы помогают иногда, по своей инициативе приезжают. Вот сейчас приехали из Пермской области муж и жена, они на недельку приехали, помогают по хозяйству, и я им очень благодарна.
– Матушка Олимпиада, просмотрел буклет, посвящённый вашему монастырю, и прочитал четверостишие, под ним значится ваше имя. Вы пишите стихи?
– Это без моего разрешения, без спроса напечатали. Я раньше писала стихи, у меня осталась тетрадь со стихами, но сейчас ничего не пишу. Чувства свои надо вкладывать в молитву.
– Осмелюсь всё-таки спросить по окончании беседы: почему вы без наперсного креста?
– Наперсный крест у меня есть, конечно, но зачем его всё время выставлять, как будто напоказ? Поэтому я надеваю крест тогда, когда это нужно.
– А когда нужно?
– На службах, на великих службах, когда приезжает к нам духовенство, а так я в молитве и в трудах. Но иноческий крест всегда на мне.
– Спасибо вам большое, матушка Олимпиада, за беседу. Пожалуйста, не забывайте меня, грешного, в своих молитвах. К Богу у молитвы ночью более короткий путь.
…Из монастыря я уходил пешком, оглянулся на обитель и поймал себя на том, что я бы даже перебрался сюда жить, где-нибудь тут поселился бы поблизости… Душа тут словно что-то приглядела для себя.
2021 годУчительница первая моя
В школьные годы у меня были такие учителя, что напрочь отбили охоту к учёбе. И только в зрелом возрасте мне повезло, и я смог произнести заветные слова: учительница первая моя…
В ту пору я учился на Высших литературных курсах Литературного института имени А. М. Горького (Тверской бульвар, 25). Мы, как никто, осознавали, что «в начале было Слово». На лекциях царил почти библейский дух. Материя не может быть первичной.
И какие у нас были мудрые Учителя… Лев Иванович Скворцов, Станислав Бемович Джимбинов, Александр Сергеевич Орлов, Владимир Павлович Смирнов, Татьяна Александровна Архипова…
С Татьяной Александровной я встретился через несколько лет после окончания Высших литературных курсов и в тот раз, набравшись храбрости, признался наконец в любви. Она тихо поблагодарила.

– Спасибо, Володя…
– Расскажите немного о себе.
– Я коренная москвичка. Пусть это не выглядит сентиментально, но, едва выучившись читать, я стала мечтать о том, кем я буду работать, когда вырасту: «Я буду учительницей». Я даже играла сама с собой в «уроки», как в одиночку играют шахматисты.
Семья была обыкновенная. В бывшем доходном доме, в коммунальной квартире, одна комната. Папа, мама и я. Потом ещё маленькая сестра.
Книг в семье не было, ни одной. Газет тоже. Но была прекрасная районная, а потом прекрасная школьная библиотека. В школе я занималась с отстающими часов до трёх-четырёх. Газеты стенные выпускала и в классе, и даже в квартире. Вот из такой девочки выросла Татьяна Александровна.
На мою детскую, отроческую и юношескую девичью жизнь выпало много чего. Тут и война, и ранняя смерть мамы, и не по возрасту взрослые заботы. Голод, холод, дрова, керосин… Голод особенно тяжёл в сочетании с вездесущим холодом: из холодного дома по холодной улице в холодную школу, и то же обратно. Карточки: не потерять! Очереди многочасовые. А читать хочется. А свет опять не дают. Читала при свете коптюшки.
Несмотря ни на что, мы с сестрой обе получили высшее образование. Я окончила литфак Ленинского педагогического института, аспирантуру, хотела заниматься литературой 19 века, но, оказавшись на кафедре языкознания в Литературном институте, сразу окунулась в лингвистику. Так и пошло.
– Когда вы пришли в Литинститут?
– В институте я с 1956 года. Преподавала сначала неуверенно, может, от того, что занималась с иностранцами, а этому нас не учили, да и вся система РКИ (русский как иностранный) только налаживалась. Вскоре я освоилась, стала учить русских студентов и студентов из советских республик. Мы читали вместе рукописи, делали подстрочники. Первым моим дипломником был Василий Белов, будущий классик нашей литературы, он получил диплом с отличием, а отзыв свой я до сих пор храню.

