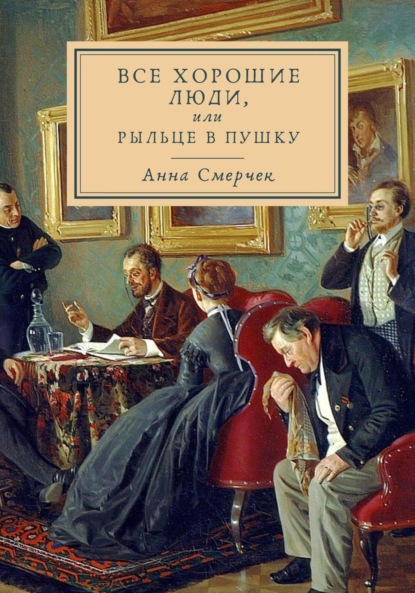
Полная версия:
Все хорошие люди, или Рыльце в пушку
Выходя из трактира, Купря плотнее запахнул пиджак, стал застегивать его и не досчитался одной пуговицы. Где он умудрился потерять ее? С утра все пуговицы – это совершенно точно – были на месте. Это был довольно еще новый, удобный фланелевый пиджак с хорошими накладными карманами и медными пуговицами.
«Я ведь мог оборвать её, когда лез через окно к полковнику!» – похолодел Купря и нервными движениями стал охлопывать пиджак, словно надеясь обнаружить пуговицу где-то в другой его части. Но вместо пуговицы он наткнулся на что-то маленькое, позабытое, что лежало в кармане пиджака. Иван Никитич опустил руку в карман и достал коробочку в пол ладони величиной, обтянутую синей тканью. Он уже и не помнил, как заметил её на столе в бельевой у Вайскопфа и, почти не думая, сунул в карман. Иван Никитич открыл коробочку и увидел в ней две запонки, украшенные изящной монограммой «JW». Яков Вайскопф. Запонки полковника.
«Ещё и это!» – Ивану Никитичу захотелось даже заплакать. Он сразу понял, что украсть жилет – дело стыдное и неприятное, но вот такая – хоть и маленькая, но ценная вещица, лежавшая у него на ладони, – это уже более серьезная кража. Если жилет он смог бы, помучавшись совестью, просто выбросить, то избавиться от запонок с монограммой владельца у него не поднимется рука.
«Надо бы все это надежно припрятать до поры, – молниеносно решил Купря. – А потом напроситься к Вайскопфу в гости и уронить коробочку куда-нибудь под диван. Прислуга скоро ее найдет, спишут все на недоразумение».
Он почти бегом бросился по пустым улицам к своему дому. Жители Золотоболотинска уже спали, и только собаки провожали его сонным лаем из-за заборов.
Глава 2,
в которой весь город узнает о преступлении
На утро вся семья Купря самым чинным образом завтракала на веранде. Их кухарка Маланья по случаю выходного дня нажарила оладий, они лежали высокой золотистой горкой на большом фарфоровом блюде на середине стола, источая пар и аромат печи. К оладьям Маланья подала клубничного варенья – последнего из сваренного в том году, о чем кухарка напомнила хозяевам дома за последние полчаса уже никак не менее четырех раз. Лизонька хитренько переглядывалась с Сонечкой, и было понятно, что, если Маланья и в пятый раз скажет, что запасы клубничного варенья в доме исчерпаны, они прыснут от хохота. Иван Никитич снисходительно наблюдал за расшалившимися дочками, не делая им замечания. Он знал, что если Маланья заподозрит, что смеются над ней, то обидится и до вечера не покажет носа из кухни. Всех бы это наилучшим образом устроило, потому что шумная, чрезмерно словоохотливая кухарка имела обыкновение не по делу болтаться по дому, отвлекая всех его обитателей пересказом сплетен и домыслов города Золотоболотинска.
– Совсем скоро уже новая клубника пойдет. Так что это очень даже удачно, что прошлогоднее варенье как раз и доели, – примирительно говорила Лидия Прокофьевна, глядя в сад через белую кружевную занавеску. Там цвела сирень, пышной пеной заливая все пространство под окнами и выплескиваясь даже поверх забора на Рождественскую улицу. Стукнула калитка, и горничная Глаша, неслышно скользнув за спиной у хозяйки, положила рядом с тарелкой главы семейства свежую газету.
Газета была свернута вдоль в тугую полоску, так что Иван Никитич мог видеть только верхний край первой полосы «Золотоболотинского листка». «Неслыханная дерзость!» – гласил заголовок, и ниже буквами помельче: «Полковник Вайскопф рассказал о пропаже…» дальнейшее пояснение пряталось за сгибом газетного листка, но и этих сведений Ивану Никитичу хватило, чтобы сердце у него ушло в пятки.
«Прознали! – понял он немедленно. – А чего я ожидал? Полковник все-таки немец, знает порядок в своем доме. Как вернулись они вчера: он из Петербурга, а его жена после концерта, так сразу, должно быть, и поняли, что в доме побывал чужой человек. И тут же, конечно, послали за городовым. Ох, и как же мне теперь…? Опыта в подобных делах я не имею, так что наверняка оставил улики. Вот пуговица… где я ее оборвал? А что если кто-нибудь видел меня, когда я через забор лез? А что если в трактире приметили, как я Тойво жилет показывал?»
– Что там пишут сегодня в газете, Ваня? – как на грех решила спросить Лидия Прокофьевна. И когда её только это интересовало? Раньше ведь, стоило ему взяться за пересказ прочитанных последних известий, как она тут же начинала зевать, отмахивалась, говорила, что противной политикой не интересуется, а тем более светскими сплетнями. А сегодня вот вдруг спрашивает! Иван Никитич с сомнением посмотрел на жену. Уж не подозревает ли она чего? Или это он сам выдал себя испуганным выражением лица? Но ее серые глаза смотрели спокойно, на губах играла безмятежная улыбка и светилась веселая капелька варенья.
Да и с чего бы Лидии Прокофьевне подозревать мужа в чем-то? Вчера вечером, кажется, все прошло гладко. Он добрался до дома ближе к полуночи. Скрипнул калиткой. Дом у Ивана Никитича был, конечно, не так велик, как у отставного полковника Вайскопфа. Это был обыкновенный, окруженный небольшим садом, просторный деревянный дом о пяти комнатах, не считая веранды, кухни и комнаты прислуги: кухарки и горничной. Купре удалось быстро утихомирить обрадованного Самсона, своего верного великана, который приветствовал хозяина радостным гавканьем и прыжками, незаметно шмыгнуть в дровяной сарай и ловко припрятать украденный жилет и завернутую в него коробочку с запонками позади поленницы. Хорошо, что ночи стояли уже белые, и света из двери было достаточно, чтобы не расшибиться в потемках. Девочки уже спали: свет у них был погашен. Освещено было только окно гостиной. Иван Никитич заглянул через него в дом: Лидия Прокофьевна сидела у стола над книгой. На ней был легкий халат, светлые длинные волосы заплетены на ночь в простую косу. Иван Никитич на минуту залюбовался ее милыми, так хорошо знакомыми ему чертами. Потом он быстро прошел в дом. Скинул на веранде пиджак, который напоминал ему о сегодняшнем происшествии, пригладил волосы и усы, и вошел в гостиную. Здесь он наклонился, чтобы поцеловать жену, но она тут же почувствовала запах спиртного и прогнала его спать в кабинет. У них это называлось «отправляйся к коту!», потому что их состарившегося мохнатого кота с гордым именем Лев чаще всего можно было найти уже не на дворе, а среди подушек на оттоманке в кабинете хозяина дома, где его никто не донимал.
– Ваня? Ты здоров? Ты как-то побледнел. – заметила Лидия Прокофьевна.
– Да что-то тут сквозит, – пожаловался Иван Никитич, и правда, чувствуя некоторый озноб. – Я, Лидушка, пожалуй, пойду пройдусь немного, подышу. А то что-то мне, действительно, как-то не по себе.
– Ах, вот как, – сказала Лидия Прокофьевна и поглядела на Ивана Никитича долгим взглядом, лишенным всякого сочувствия. Больше она ничего говорить не стала, но он и сам знал, что она могла бы ему сказать о вчерашнем позднем возращении и запахе, уличающем его в посещении трактира, и о неизбежном после всего этого дурном самочувствии.
Иван Никитич для вида немного покашлял. Взял со стола газету, небрежно сунул её в карман. Приложил ладонь ко лбу, вздохнул, оглядел свое семейство, все ещё занятое оладьями с вареньем, и вышел в сад. Там он полюбовался сиреневым кустом, потом начал не спеша продвигаться в сторону дровяного сарая, попутно делая хозяйственные наблюдения: подергал за ветки зацветающую яблоню, копнул носком ботинка грядочку с будущей клубникой, проверил, прочно ли врыта новая скамеечка. Приблизившись достаточно к сараю, он огляделся и, отбросив нарочитую неспешность, шмыгнул в дверь. Жилет и коробочка были на месте. Он плотно и аккуратно заложил их дополнительными чурками дров и даже пошаркал ногами по земляному полу, чтобы скрыть все возможные следы своего пребывания здесь. Выйдя из сарая, Купря быстро обошел дом с другой стороны, отворил калитку и вышел на улицу.
Ивану Никитичу нужно было срочно узнать, что стало известно полиции. Есть ли уже подозреваемые, найдены ли улики? А что, если кто-нибудь уже арестован? Что следует тогда предпринять?
«В таком крайнем случае придется, ясное дело, повиниться, – понимал Иван Никитич. – В полицейский участок не пойду. Лучше сразу к полковнику. Упаду ему в ноги, буду просить, чтобы понял метания творческого человека в поисках вдохновения. Неужели не простит? Взял-то я всего-ничего, сущую ерунду. Да ведь и верну все незамедлительно в целости и сохранности. Стыдно-то как! А ведь и девочки мои чего доброго узнают. Нет, этого уж точно допустить никак нельзя! Буду просить полковника, чтобы вся эта история осталась между нами. Да только согласиться ли?»
Читать газету, стоя посреди улицы, показалось Ивану Никитичу странным, и он, погрузившись в тягостные раздумья, побрел по улице куда глаза глядят. Ноги сами понесли его в сторону дома полковника Якова Вайскопфа.
День выдался солнечный и яркий, утро стояло ещё чистое, и все же уже не такое прозрачное, видимо, день обещал быть по-настоящему теплым. Несмотря на это, Купря все ещё чувствовал, что его пробивает озноб. Свернув на Александровскую улицу, на которой проживал Вайскопф, Иван Никитич тут же нос к носу столкнулся с одетым по всей форме полицейским приставом Василием Никандровичем Шмыгом. Тот козырнул и поприветствовал Ивана Никитича. Надо заметить, что писатель Купря был в Золотоболотинске довольно приметной личностью, ведь население городка составляло от силы тысяч семь, хотя в летние месяцы наезжало на дачи чуть ли не вдвое больше.
– Доброго вам здравия, Иван Никитич! Пришли поглядеть на место преступления? – полюбопытствовал пристав и бодрым жестом направил кончики своих знатных усов вверх – в безоблачное майское небо.
– И вам доброго утра, Василий Никандрович! – откликнулся Купря, и собственный голос ему не понравился: он звучал как-то ненатурально и сипло. – А что за преступление такое?
– Да как же вы не знаете? Вы что же, утреннюю газету еще не читали? – голос полицейского зычно разносился по всей Александровской улице.
– Нет, знаете ли, не читал ещё. Горничная наша, Глаша, сегодня утром помогала на кухне. А кухарка, Маланья-то наша, так вот она оладьи печь затеяла. С клубничным вареньем. Мы как раз сегодня его и доели-то, то есть варенье. Не то, чтобы все, а именно клубничное доели. Другое-то какое-нибудь, надо полагать, осталось еще … – Иван Никитич все говорил и говорил, потихоньку пятясь назад и пытаясь придумать, как бы улизнуть от пристава. – Так вот, это я к тому, что Глаша, наша горничная, она не приносила еще газеты.
– Да как же вы говорите, что не приносила, Иван Никитич, если газета у вас вон она, из кармана торчит! – удивился пристав.
– Ох, и правда! – спохватился Купря. – Что-то я, знаете ли, в последнее время так рассеян стал! Задумался. И когда это я только успел сунуть её в карман?
Купря поспешно вытащил газету из кармана и хотел было её развернуть и наконец прочесть, но Василий Никандрович, подойдя совсем близко, положил тяжелую ладонь на газетные листки и, склонившись к Ивану Никитичу, предложил доверительно:
– Да что уж теперь читать-то, раз вы сами тут. Хотите, Иван Никитич, я вам самое место преступления покажу? Зевак пускать было не велено, но вы-то – совсем другое дело.
– Почему это я – другое дело? – пискнул Купря.
– Кому, как ни вам и стоило бы посмотреть на место преступления! – Василий Никандрович подмигнул, опять подкрутил ус и оправил ремень.
– Что это вы такое говорите, любезный Василий Никандрович? – Купря чувствовал, что в ушах у него стоит какой-то гул, а улица вокруг странным образом покачивается. – С чего это мне смотреть на это самое место? Как будто у меня других дел нет!
– Да вы не пужайтесь так! Чай не на убийство идем смотреть, – подмигнул пристав, цепко ухватил Купрю под локоть и повлек по Александровской улице прямо в сторону полковничьего дома. Иван Никитич изо всех сил старался придумать какой-то повод, чтобы отцепиться от полицейского, броситься бегом домой за паспортом, а потом сразу – на вокзал и в Петербург, а там раствориться в толпе, залечь на дно. Взять у Свирина гонорар на написание будущего какого-нибудь романа, купить на эти деньги смену белья и билет на пароход, скажем, до… – Иван Никитич вспомнил свой гимназический глобус и ткнул воображаемым пальцем в другое полушарие – до Буэнос-Айреса! Ах, как горько будет расставаться с семьей! Да, может, так и лучше будет для Лиды, для девочек: не позорить их, а скрыться. Билет надо взять непременно в третий класс, чтобы в дороге собирать истории простых людей. Потом можно будет написать на этой основе серию очерков и предложить их Свирину. Путевые заметки – популярное чтение, а деньги на чужбине будут ох как нужны. А еще непременно надо будет выходить почаще на палубу и примерять на себя труд матросов, и обязательно записывать все их особенные словечки, чтобы по прибытии…
– Что это вы, Иван Никитич, еле идете? – заметил пристав, возвращая Купрю на пыльную Александровскую. – Никак, давеча опять засиделись в трактире? Ох, не доведет это вас до добра. И Лидию Прокофьевну расстраиваете. Вам полагается не прохлаждаться, а правдивые сведения собирать. А там, глядишь, и нас добрым словом помянете в каком-нибудь вашем рассказе. Будет что детям показать. Вот, мол, прямо о нас в журнале написано. И про Золотоболотинск, и про нашу службу. Мы ведь, простые золотоболотинцы, все ждем, когда вы о нашем городе напишите. Да, не обиняками, как обычно, а чтобы прозвучало на всю империю: живут в славном городе Золотоболотинске вот какие хорошие люди!
– Непременно напишу, голубчик, непременно, – едва слушая его, отвечал Купря и тут же стал сам себя презирать за угодливую интонацию, с которой это прозвучало. Тем временем Александровская улица слегка повернула в правую сторону, открыв глазам Ивана Никитича небольшую толпу собравшихся зевак. Что-то в этой толпе сразу показалось ему неправильным, и только через мгновение он понял, что стоят они не у дома полковника Вайскопфа, в котором накануне побывал воришка, а чуть подальше, и смотрят не на окна полковничьего дома, а на украшенный портиком с колоннами вход в соседнее здание местного музея.
– Постойте-ка, Василий Никандрович! – Купря остановился и решительно высвободил руку из цепкой хватки пристава. – Не возьму в толк, к чему эти ваши нотации и куда вы меня тащите. Скажите уж толком, что случилось.
Что-то в тоне известного местного писателя теперь вдруг изменилось и заставило полицейского пристава выпустить его руку и доложить по форме:
– Нынче ночью ограблен наш исторический музей, Иван Никитич. Дерзко похищены золотые античные реликвии числом три штуки, если считать две серьги за один предмет. Также пропали из витрины новгородские монеты вместе с глиняным кувшинчиком, в котором они были найдены при раскопках. Наш знаменитый клад монет.
– Клод Моне?
– Никак нет. Клад монет.
– Ах вот оно что! Да как же так? – ахнул Иван Никитич, от изумления смешно повторив частый жест своей жены: прикрыв ладонью рот. – Да неужто тот самый клад?!
– Тот самый, Иван Никитич! – горестно подтвердил Василий Никандрович.
– Так что ж вы, голубчик, сразу-то не сказали? Я-то уж было подумал… невесть что!
Огромное облегчение захлестнуло Купрю, осознавшего, что сам он пока не уличен в краже полковничьих запонок и шелкового жилета и не пойман. Да и что за мелкое такое воровство: подумаешь, жилетка да пара старых запонок. Вайскопф, небось, и не заметит. Особенно теперь, после такого дерзкого, неслыханного ограбления музея! Иван Никитич почувствовал вдруг, как распрямилась его спина, напружинились руки и ноги, заострился взгляд и память приготовилась запечатлеть все детали события, свидетелем которому он становился в эти минуты.
– Да что же мы копаемся, Василий Никандрыч! Тут такое приключилось, а я ни сном, ни духом! – вскричал Купря. – Ведите, голубчик, скорее, да расскажите мне, как это все произошло!
Не дожидаясь пристава, Иван Никитич устремился к зданию музея. Этот дом стоял по соседству с домом полковника, непосредственно даже на купленном им участке земли. Действительно, музей создавался при живейшем участии Вайскопфа. Здание для музея было выкуплено у бездетного купца, отправившегося на старости лет доживать к дальним родственникам в Москву. Градоначальник выделил средства на то, чтобы пристроить к деревянному двухэтажному дому полагающееся музею по статусу крыльцо с колоннами, но все в городе по праву считали музей детищем отставного полковника, увлекавшегося историческими науками и даже археологическими раскопками. Именно он выхлопотал для быстро растущей коллекции разнообразных экспонатов стеклянные шкафы, позаботился, чтобы была учреждена должность директора, нанят смотритель, приглашен для работы реставратор, а также работник для исполнения прочих нужд, как то: протапливание печей, метение полов и починка вышедшего из строя музейного хозяйства.
В толпе собравшихся у крыльца зевак Купря, несмотря на то, что был потрясен дерзостью ограбления, сразу заметил двух знакомых: одетого по-народному обычаю в перетянутую широким ремнем холщовую рубаху и высокие сапоги Виртанена и щеголявшего в не по погоде легкой светлой брючной паре журналиста местной газеты Ивлина. К неудовольствию Купри, журналист тут же вывинтился из толпы и подскочил к полицейскому приставу.
– Василий Никандрович! Я тут с раннего утра стою, а вы все никаких сведений мне не даете! Вы же знаете: я уполномочен от «Золотоболотинского листка» освещать все этапы следствия. Извольте распорядиться этому вашему… чтобы пропустил!
Ивлин мотнул головой в сторону грузной фигуры городового, застывшей у входа в музей.
– Можете осмотреть место преступления. Но исключительно в моем присутствии, – коротко, едва взглянув на журналиста, кивнул Василий Никандрович. Ивлина в городе многие не любили и звали за глаза «угрем»: он был молодым, высокомерным, скользким и пронырливым. По улицам Золотоболотинска он шнырял не для того, чтобы описать прелести провинциальной жизни с её уютными радостями, а лишь для того, чтобы выловить в мутных омутах маленького городишки что-нибудь стыдное, подлое – одним словом, такое, чего обыватели предпочли бы вовсе не замечать. Всем, в первую очередь и самому Ивлину, хотелось, чтобы его разоблачительные статейки заметил бы уже редактор какого-нибудь из петербургских изданий и забрал бы к себе этого злого на язык и гоняющегося за скандалезными историями щелкопера.
– Василий Никандрович, – теперь уже Купря сам взял пристава под локоть и попросил вкрадчиво:
– Дозвольте, и господин Виртанен пройдет с нами в музей. У художника, знаете ли, взгляд острый, может заметить такое, чего мы с вами и не приметим. Опять же зарисовку может сделать для нужд следствия.
Василий Никандрович хмыкнул, строго глянул в сторону финского художника. Тот, не дожидаясь приглашения, решительно и уверенно двинулся к ним. Пристав, не выразив возражений, самим своим молчанием дал добро на его присутствие в странной компании.
Полицейский пристав, журналист, писатель и художник прошли в двери музея. Городовой остался снаружи, не пуская зевак.
Бывший когда-то купеческим, дом был выстроен с размахом: с высокими потолками и просторными комнатами. В помещениях первого этажа демонстрировались естественно-научные коллекции: чучела зверей и птиц, образцы почвы и камня, засушенные примеры местной флоры. В этих залах часто можно было встретить мальчиков из местного училища: их приводили сюда на занятия. Некоторые обучались рисованию, перенося на листы альбомов поднявшегося на задние лапы навсегда застывшего медведя, притаившегося среди сухой травы зайца, раскинувшую крылья сову. Так же здесь можно было видеть старинный костюм крестьянки, жившей на этих землях сто лет назад, и снасти древнего рыбака. Старшие посетители музея и гости городка неизменно проявляли больше интереса к экспонатам, выставленным на втором этаже. Здесь привлекало внимание весьма интересное, хоть и небольшое собрание старинных украшений и утвари, найденных в местных курганах. Кроме этого стены украшала отнюдь недурная коллекция портретов и пейзажей, написанных современными художниками. Самым знаменитым в собрании картин был, безусловно, небольшой пейзаж, написанный Клодом Моне1. В центральном же зале, у отдельной стены, торжественно задрапированной бордовым бархатом, экспонировалось главное сокровище Золотоболтинска: золотой клад.
Пока вся компания вслед за приставом поднималась по широкой скрипучей деревянной лестнице на второй этаж, Иван Никитич вдруг с удивлением осознал, что, когда он с Лидой, Сонечкой и тогда еще новорожденной Лизонькой семь лет назад переехал сюда, получив в наследство от умершей тетки дом на Рождественской улице, тогда ни о каком сокровище и речи не было. Да и сам городишко звался в ту пору скромно: Черезболотинском. И только на следующий год случилась небывалая находка. В одном из курганов, что стоят посреди местных болот, группа ученых из Петербурга открыла захоронение какого-то эксцентричного древнего путешественника, любителя ценных вещиц. В глиняном кувшине, лежавшем подле скелета, археологи нашли клад монет, среди которых было и несколько золотых, а под черепом усопшего в древности богача ученые с удивлением и восторгом обнаружили невиданные в этих северных землях образцы настоящего античного искусства: браслет, пару серег и фигурку лошади. И все это из чистого золота! Ну и шум поднялся тогда в Черезболотинске! Жители городка день и ночь дежурили то на курганах, то у дома градоначальника, требуя явить им найденный клад, причем мнения обывателей разделились: одни считали, что находка повлечет за собой и прочие блага, другие же, наоборот, страшились проклятия, которое могли наслать на Черезболотинск потревоженные души захороненных здесь в незапамятные времена язычников.
– Только что полковник Вайскопф телефонировал, – говорил, отпечатывая тяжелые шаги на ступенях, Василий Никандрович. – Разрешил его не дожидаться, осмотреть место происшествия и самим учинить прочие следственные действия.
– Господин Вайскопф, вероятно, опасается, как бы в отсутствии древнего золота, нашему городишке не вернули его прежнее неблагозвучное название, – ядовито заметил журналист. – В простом Черезболотинске жить теперь уже не comme il faut.
– Без заступничества полковника золотые предметы были бы отобраны у города, – напомнил Виртанен. – Если бы не господин Вайскопф, они хранилось бы, вероятно, где-нибудь в Петербурге: в Эрмитаже, или в Этнографическом музее.
– Вы хотите сказать, что там они были бы под более надежной охраной? – с обидой уточнил пристав.
– Я просто предполагаю, что полковник как попечитель музея мог бы ускорить ход расследования. Например, назвал бы нам имена тех, кто особенно интересовался золотоболотинским кладом или тех, кому такие ценности можно было бы продать.
– Вы не находите странным, что полковника нет сейчас с нами? – не унимался Ивлин. – Не подозрительно ли это?
– Полковник Вайскопф первым был уведомлен, не извольте сомневаться, – пристав бросил недовольный взгляд на журналиста. – Мы и сами во всем разберемся. Кража – будь она хоть из музея, хоть из трактира – это дело полиции, любезнейший. А Яков Александрович хоть и числится в попечителях, но, однако же, лицо частное. На утренний поезд он не поспевал, приедет дневным, не сомневайтесь.
Все двинулись дальше, в центральный зал. Пока шли мимо витрин с серебряными фибулами и монистами, глиняными черепками, орудиями труда и нехитрым оружием древних людей, Ивлин пристроился на полшага позади Ивана Никитича и, понизив голос, зачастил ему на ухо:
– А вы что, Иван Никитич, тоже писать об этом событии вознамерились? И вы, вероятно, как и все прочие, верите в дутые заслуги Вайскопфа? Напрасно, напрасно! Он же вояка, да ещё и немец, разве же он разбирается? Я вам скажу, чья заслуга этот музей и вся его коллекция! Это исключительно его супруга, Амалия Витальевна! Мне доподлинно известно, что у Вайскопфа не было никакой беседы с государем императором по вопросу золотых находок. Да! Весь вечер он просто-напросто играл в карты в компании придворных лиц, а до дела так и не дошло. Решение о музее было принято только на следующий день, когда Амалию Витальевну принимала у себя государыня императрица.
Купря невольно повел плечом, сделав такой жест, словно хочет стряхнуть с себя приставшего Ивлина с его сплетнями и пустыми домыслами. Тот едва слышно захихикал. Иван Никитич обернулся, собираясь сообщить газетному писаке, что не намерен терпеть его насмешки, но обнаружил, что Ивлин смеется вовсе не над ним. Взгляд журналиста был направлен на стоящую перед бархатной драпировкой витрину. Деревянный её корпус был не поврежден, равно как и накладной изящный медный замок на передней панели. А сверху, прямо по центру в стеклянной крышке зияла пробитая дыра, от которой лучами по всей поверхности стекла расходилась сеть трещин.
– Что вы находите здесь смешного, господин Ивлин? – с раздражением окоротил журналиста пристав.

